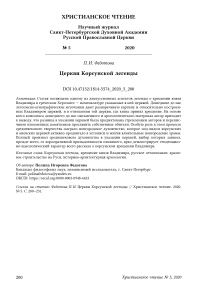Церкви корсунской легенды
Автор: Федотова Полина Игоревна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 5 (94), 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена одному из дискуссионных аспектов легенды о крещении князя Владимира в греческом Херсонесе - номенклатуре указанных в ней церквей. Дошедшие до нас летописно-агиографические источники дают разноречивую картину и относительно построенных Владимиром церквей, и в отношении той церкви, где князь принял крещение. На основе всего комплекса дошедшего до нас письменного и археологического материала автор приходит к выводу, что разница в указании церквей была продиктована стремлением авторов и переписчиков письменных памятников прославить собственные обители. Особую роль в этом процессе средневекового творчества сыграло новгородское духовенство, которое под видом корсунских и киевских церквей активно продвигало в летописи и жития влиятельные новгородские храмы. Полный произвол средневекового духовенства в указании церквей, выбор которых зависел, прежде всего, от корпоративной принадлежности писавшего, ярко демонстрирует тенденциозно-идеологический характер всего рассказа о корсунском крещении Владимира.
Корсунская легенда, крещение князя владимира, русское летописание, храмовое строительство на руси, историко-архитектурная археология
Короткий адрес: https://sciup.org/140250811
IDR: 140250811 | DOI: 10.47132/1814-5574_2020_5_200
Текст научной статьи Церкви корсунской легенды
Агиографическая традиция о князе Владимире очень богата: это краткие пролож-ные жития, различные редакции Обычного жития, Древнее житие Владимира и позднее Особое житие. Помимо церковных житий, крещению Руси Владимиром посвящена многообразная летописно-светская литература: Похвала «кагану нашему Владимиру» в Слове о Законе и Благодати митрополита Илариона, Память и похвала князю Владимиру Иакова мниха, «Слово о том, како крестися Володимер, возмя Корсунь» некоего Феодосия (в составе особого Патерика Феодосиевой редакции), наконец, летописные рассказы о крещении Владимира, содержащие Корсунскую легенду. Однако эта обширная летописно-житийная литература имеет одну особенность: за исключением двух памятников XI в. (Слова о Законе и Благодати Илариона и древнейшей части Похвалы Иакова), вся она — позднего происхождения. Первые списки проложных житий князя Владимира относятся к XIV в., компилятивное Обычное житие представлено в списках не ранее конца XV в., Особое житие — в списках XVII в., «Слово о том, как крестился Владимир» — в составе Патерика особой редакции первой половины XV в., летописные версии известий о его крещении — не ранее конца XIV в. В связи с этим поздним характером всей агиографической литературы о крещении князя Владимира резонно возникал вопрос о самой достоверности известного всем рассказа.
По вопросу о достоверности Корсунской легенды, то есть летописно-житийной версии крещения русского князя Владимира в греческом городе Херсонесе, в науке сложилось два подхода: апологетический и критический. Представители первого отстаивали достоверность летописного рассказа, сторонники второго видели в нем вымысел, порожденный греческим национализмом. Наиболее резко эту позицию сформулировал церковный историк Е. Е. Голубинский, заявлявший, что «повесть эта не заключает в себе ничего истинного, что она есть позднейший вымысел и притом даже вымысел, по всей вероятности, не русский, а греческий» [Голубинский, 1901, 105]1.
В научной полемике вокруг Корсунской легенды исследователи особо выделяли такую деталь, как номенклатура упоминаемых в ней церквей, так как именно в данном вопросе они сталкивались с явной и очевидной проблемой. Даже беглый обзор источников ставит исследователя в тупик: в них царит поразительный разнобой относительно и крещальной церкви князя Владимира, и его церковного строительства после принятия Крещения. Хотя это обескураживающее многоголосие в наименованиях церквей и привлекало внимание исследователей, но ни критический, ни апологетический подходы к Корсунской легенде не позволяли даже правильно сформулировать проблему. Те, кто не признавал ее достоверности, не пытались понять, что стоит за этой разноголосицей мнений и какую информацию может извлечь историк из этого факта. Те же, кто принимал Корсунскую легенду за исторически достоверный рассказ, стремились определить некий истинный вариант, надеясь даже отыскать в развалинах Херсонеса эти «владимирские» церкви. В итоге вопрос о церкви, в которой крестился князь и его дружина, так и остался непроясненным.
Одни историки придерживались варианта Лаврентьевского списка с его двумя церквями в честь св. Василия — корсунской и киевской, на том основании, что это древнейший и наиболее достоверный список. Однако далеко не все принимали эту версию. Так, Е. Е. Голубинский считал правильным показание Ипатьевской летописи, согласно которой князь Владимир крестился в церкви св. Софии [Голубинский, 1901, 162]. (Правда, он полагал, что речь в действительности должна идти о церкви, в которой венчался, а не крестился Владимир.) Казанский историк и археолог С. П. Шестаков полагал, что правильное чтение содержит Обычное житие Владимира, где в качестве корсунской церкви, в которой крестился князь, называется церковь св. Иакова. В то же время он не соглашался с А. А. Шахматовым, что церковь св. Иакова можно отождествить с известной по источникам кафедральной херсонской церковью свв. Апостолов. Он предположил, что у херсонской церкви мог быть придел в честь св. Иакова. В этом приделе св. Иакова при соборной церкви свв. Апостолов и крестился князь Владимир (или, по мысли Шестакова, может быть, только венчался с Анной Византийской). Установив, как ему казалось, местоположение крещальной (или венчальной) церкви, Шестаков при помощи таких же предположений пытался установить местонахождение церкви св. Василия, которую князь Владимир якобы построил в Херсонесе [Шестаков, 1908, 331–333, 337–338].
Советский историк О. М. Рапов признавал правильным сообщение тех летописей, в которых первой каменной церковью, построенной князем Владимиром в Киеве, называлась церковь св. Георгия, поскольку это отвечало его предположению, что Владимир взял Херсонес в конце апреля — начале мая 990 г. В ознаменование этой победы, по мысли Рапова, и была возведена каменная церковь св. Георгия, память которого отмечалась 23 апреля [Рапов, 1984, 43, прим. 42]2.
Современный историк А. Ю. Карпов, как и Голубинский, отдает предпочтение Ипатьевскому списку, так как усматривает в сообщении о строительстве Владимиром в Херсонесе церкви св. Иоанна Предтечи «среди града на горе» свидетельство о существовании в Киеве культа св. Иоанна Предтечи [Карпов: Перенесение креста]3. Хотя еще С. П. Шестаков замечал, что никакой горы «на почве древнего Корсуня мы не знаем» [Шестаков, 1908, 329], что, впрочем, не заронило в нем сомнений относительно достоверности рассказанной истории. Но если дореволюционные историки (в том числе церковные), анализируя Корсунскую легенду, еще пытались отделить церковное мифотворчество от исторических фактов, большинство современных ученых безусловно уверовали в ее истинность. Российские и украинские археологи всерьез обсуждают вопрос, с каким археологическим объектом в Херсонесе можно отождествить ту или иную церковь, упомянутую в легенде. Существует уже довольно солидная библиография работ по «археологии Корсунской легенды», в которых авторы делают попытки определить локализацию «владимирских» храмов: церковь, в которой крестился русский князь Владимир и построенную им после крещения церковь «на горе»4.
Таким образом, на сегодняшний день мы сталкиваемся не только с разноголосицей в источниках, но и с многообразием попыток ее объяснения. К каким только предположениям историки ни прибегали, объясняя факт расхождений то ошибками переписчиков, редакторов или переводчиков, то путаницей церквей, в которых крестились князь и дружина, то устными корсунскими легендами, то неизвестными сочинениями русских книжников5. Историки забывают об одном гносеологическом правиле: если проблема не имеет решения, она либо ложна, либо неправильно поставлена. Значит, чтобы найти правильное решение, необходимо иначе сформулировать саму проблему.
Противоречия источников о церквях Корсунской легенды и их причины
На наш взгляд, корень непонимания кроется в недооценке структур ментальности. Современные исследователи исходят из норм научного мышления, как будто эти нормы были в такой же мере присущи средневековым книжникам. В действительности между современным и средневековым сознанием лежит целая пропасть. Средневековый монах вовсе не руководствовался интересами истины так, как это предписывает этика ученого. Благочестивый обман был нормой, а не исключением в средневековой практике. При оценке писаний русских книжников необходимо исходить из приоритетов сознания средневекового человека. Церковь — и как организация верующих, и как конкретный «дом Божий» в виде приходского или общегородского храма — играла роль и духовного, и культурного, и организационного центра. Летописание было уделом преимущественно лиц духовного звания, а потому неудивительно, что в русских летописях церковное строительство (а равно ущерб церквям) занимает передние планы в повествовании. Можно даже говорить об определенной «церквецентричности» сознания средневекового русского духовенства, которая находила отражение на страницах исторических хроник, заполненных рассказами о строительстве церквей и монастырей, пожарах, разорениях и реконструкциях церковных зданий, их закладке и освящении. Принимая во внимание, какое исключительное значение придавал средневековый человек, а тем более клирик, строительству церковных зданий, исследователь обязан самым внимательным образом отнестись к сообщениям такого рода. Эта информация может сыграть роль той нити Ариадны, которая способна вывести историков из тупика неразрешимых вопросов.
Итак, какие именно церкви присутствуют в составе рассказов о крещении князя Владимира? Всего их пять:
-
1) церковь в Херсонесе, где крестились князь и дружина;
-
2) еще одна корсунская церковь, построенная князем Владимиром в Херсонесе «на горе среде града» после крещения;
-
3) церковь, построенная на месте крещения киевлян;
-
4) еще одна киевская церковь, возведенная на месте языческого святилища (на «холме Перуна») и,
-
5) наконец, первый каменный храм в Киеве, возведенный после официального принятия христианства.
При этом номенклатура церквей в разных агиографических и летописных источниках существенно различается. Чтобы иметь наглядное представление о характере разночтений, представим полученные результаты в виде таблиц.
Таб. 1. Церкви в рассказе о крещении князя Владимира в составе внелетописных источников XIV–XVI вв.
|
№/п |
Внелетописные источники |
Церковь в Херсонесе, где произошло крещение |
Церковь, построенная Владимиром в Херсонесе |
Церковь на месте крещения киевлян |
Церковь на месте языческого святилища в Киеве |
Первая церковь в Киеве после крещения |
|
1 |
Краткое проложное житие Владимира 1-го вида, XIV в. |
отсутствует |
отсутствует |
Турова |
отсутствует |
св. Богородицы |
|
2 |
Краткое проложное житие 2-го вида, XIV в. |
отсутствует |
отсутствует |
Петрова |
отсутствует |
св. Богородицы |
|
3 |
Распространенное проложное житие, кон. XV в. |
отсутствует |
отсутствует |
Петрова |
отсутствует |
св. Богородицы |
|
4 |
Слово о том, како крестися Володи-мер, возмя Корсунь, перв. пол. XV в. |
св. Богородицы |
отсутствует |
отсутствует |
св. Василия |
св. Богородицы |
|
5 |
Обычное житие Владимира, XV в. |
св. Якова |
св. Василия |
отсутствует |
св. Василия |
св. Богородицы |
Таб. 2. Церкви в рассказе о крещении князя Владимира в составе русских летописей конца XIV — начала XVII вв.
|
№/п |
Летописные источники |
Церковь, в которой крестился Владимир в Херсонесе |
Церковь, построенная Владимиром в Херсонесе «на горе» |
Церковь, построенная на месте языческого капища в Киеве |
Первая каменная церковь в Киеве, построенная Владимиром после крещения |
|
1 |
Лаврентьевская летопись 1377 г. |
св. Василия |
посвящение не указано |
св. Василия |
св. Богородицы |
|
2 |
Ипатьевская летопись (Ипатьевский 1425 г. и Хлебниковский XVI в. списки) |
св. Софии |
св. Иоанна Предтечи |
св. Василия |
св. Богородицы |
|
3 |
Новгородская первая летопись младшего извода сер. XV в. (Комиссионный, Академический списки) |
св. Василиска |
посвящение не указано |
св. Василия |
св. Богородицы |
|
4 |
Новгородская пятая сер. XV в. |
св. Василиска |
посвящение не указано |
св. Василия |
св. Богородицы |
|
5 |
Радзивиловская летопись 1490-е гг. (Радзивиловский и Академический списки) |
св. Богородицы |
посвящение не указано |
св. Василия |
св. Богородицы |
|
6 |
Софийская первая старшего извода (сер. XV в.) |
св. Иакова |
посвящение не указано |
св. Василия |
св. Георгия |
|
7 |
Тверской сборник 1530-е гг. |
св. Иакова |
посвящение не указано |
св. Василия |
св. Георгия |
|
8 |
Воскресенская 1530–40-е гг. |
св. Иакова |
посвящение не указано |
св. Василия |
св. Георгия |
|
9 |
Никоновская сер. XVI в. |
св. Иакова |
посвящение не указано |
св. Василия |
св. Богородицы |
|
10 |
НПЛ младшего извода (Троицкий список, 60-е гг. XVI в.) |
св. Климента |
посвящение не указано |
св. Василия |
св. Богородицы |
|
11 |
Владимирский летописец XVI в. |
св. Спаса |
посвящение не указано |
св. Спаса |
св. Богородицы |
|
12 |
Устюжская летопись нач. XVII в. |
св. Спаса |
отсутствует |
отсутствует |
св. Георгия |
Какую ценность для историка могут иметь эти вопиющие расхождения в первоисточниках? Прежде всего, они могут дать ключ к выяснению места создания письменных памятников. Учитывая известную страсть церковного клира к прославлению собственной обители, логично предположить, что появление различных церквей в составе разных летописных сводов обусловлено присущим Средневековью партикуляризмом и указывает на ту церковь, которую хотел прославить писавший летопись монах. Сам же разнобой в показаниях летописных и внелетописных источников относительно церквей Корсунской легенды — наглядное доказательство того, что весь рассказ о крещении князя Владимира в Корсуни носит вымышленный характер. Как в известной библейской притче о Сусанне и старцах, разные показания которых относительно дерева, под которым женщина якобы встречалась со своим любовником, изобличили их ложь, так и разнобой в корсунских и киевских церквях выдает ложь всех «первоисточников». Историки, которые пытаются уверить в истинности Корсунского крещения русского князя, видимо, забывают этот библейский пример психологического решения проблемы.
Единственная церковь, которая присутствует во всех без исключения летописных и внелетописных письменных источниках — это построенная Владимиром после крещения соборная церковь св. Богородицы в Киеве (хотя в ряде списков она указана не первой, а второй каменной киевской церковью). Ее неизменное присутствие легко объяснимо: из всех перечисленных в легенде церквей она одна — достоверно существовавшая. Реальность ее существования подтверждается не только многочисленными упоминаниями в разных письменных памятниках, но и зафиксированными развалинами, сохранявшимися вплоть до XIX в. Археологические раскопки подтвердили ее возведение в конце Х в. в технике, характерной для русского зодчества конца Х — начала XII вв. [Каргер, 1961, 9–59]6. Что касается остальных церквей в рассказе о крещении князя Владимира, то реальность их существования нуждается в выяснении.
Первый вопрос, который необходимо решить: какой вариант из числа указанных следует признать первичным? От этого зависит и решение вопроса о том, какой текст послужил исходной матрицей для всех прочих. Если признать (вслед за Шахматовым и его последователями) за точку отсчета рассказ Лаврентьевской летописи о двух церквях св. Василия (крещальной в Корсуни и построенной на холме Перуна в Киеве), чем тогда объяснить поразительный разнобой в указании этих церквей в последующих списках Повести временных лет? И почему от летописных вариантов отличаются более ранние проложные Сказания о крещении Владимира, где вообще отсутствуют херсонские церкви, а вместо церкви на холме Перуна говорится о церкви на месте крещения киевлян?
Запутанный и сложный вопрос о соотношении летописной и внелетописной агиографической традиции о князе Владимире до сих пор остается окончательно не решенным. Ясно одно: ныне известный летописный текст не является аутентичным текстом киевской летописи Сильвестра начала XII в. То Сказание о крещении Руси, которое читается ныне в Начальной летописи, представляет собой громоздкую компиляцию из первоначального рассказа Сильвестра, «Слова о том, како крестися Володимер, возмя Корсунь» и богословских добавлений поздних редакторов7.
Краткие проложные жития князя Владимира не содержат информации о том, в какой корсунской церкви крестился русский князь. В них говорится о крещении киевлян в реке Почайне после возвращения князя Владимира из победного похода на Корсунь и о возведении на месте крещения «Туровой церкви» в честь каких-то киевских мучеников: «И оттоле наречется место то святое, идеже ныне церковь святую мученика Турова» (Проложное житие, 2014, 140). В составленном несколько позднее втором виде проложного жития церковь Турова была заменена на «церковь Петрову» (Проложное житие, 2014, 148). Петрова церковь вместо Туровой сохраняется во всех последующих вариантах проложных житий краткой и пространной редакций. Что касается первой построенной князем Владимиром в Киеве церкви, то проложные жития всех редакций здесь едины: все они называют «церковь святыя Богородица» Десятинную, в которой Владимир и был похоронен (Проложное житие, 2014, 141, 148, 163, 193). Еще Шахматов предполагал, что эти наиболее ранние агиографические тексты отражают первоначальную версию крещения Владимира [Шахматов, 2014, 131].
Таким образом, версия крещения князя Владимира, как она изложена в его раннем Проложном житии краткой редакции, не содержит никаких упоминаний о церквях, связанных с крещением его в Херсонесе. В ней говорится только о двух киевских церквях: возведенной на месте крещения киевлян и каменном храме св. Богородицы Десятинной. Именно эта версия — уже в силу ее первичности — представляется наиболее достоверной. О церкви на месте бывшего языческого капища в про-ложном житии ничего не говорится. Стоявшая на месте крещения киевлян церковь имела посвящение в честь двух киевских мучеников и носила имя Туровой церкви, или Туровой божницы. Об участии князя Владимира в ее строительстве житие не сообщает. Помимо проложного сказания, Турова божница один раз упоминается в самой киевской летописи (в составе Ипатьевского свода)8. Можно полагать, что летопись Сильвестра содержала информацию об этих мучениках и посвященной им церкви (откуда ее почерпнули составители раннего проложного жития Владимира), но начальные разделы киевской летописи дошли до нас не в своем первоначальном виде, а после их радикальной переделки в духе варяго-византийской концепции.
Впервые корсунские церкви появляются в летописных рассказах о крещении (известные списки не ранее конца XIV в.). Однако в летописных источниках нет единого мнения, в каком храме Херсонеса произошло таинство Крещения. Расходятся они и по вопросу о том, какую церковь построил князь Владимир в Киеве по возвращении из похода на Корсунь. Только относительно возведенного Владимиром храма «в Корсуни на горе» царит относительный консенсус: большинство летописей умалчивает о посвящении этой церкви. Только Ипатьевская летопись посвящает ее св. Иоанну Предтече, а Обычное житие — св. Василию. Что касается церкви, где состоялось Крещение, стоявшей, по уверениям летописей, в центре Херсонеса, «где торг деют Корсуняне», то Лаврентьевская летопись называет церковь св. Василия (Лавр., 1997, стб. 111). Ипатьевская летопись, несмотря на то, что здесь дословно повторяет текст Лаврентьевской, говорит о церкви св. Софии (Ипат., 1998, стб. 97). Тверская, Воскресенская, Никоновская и ряд других называют церковь св. Иакова (Твер., 2000, стб. 104; Воскр., 2001, 308; Никон., 2000, 54). Новгородская первая (младшего извода) и Новгородская пятая — св. Василиска (НПЛ, 2000, 152; Н5Л, 1917, 81). Троицкий список младшей НПЛ — св. Климента (НПЛ, 2000, 545). Во Владимирском, Устюжском и Архангелогородском летописцах говорится о храме Спаса (ВЛ, 2009, 34; УВЛ, 1982, 20, 63).
Анализ этих многочисленных расхождений разумнее начать с тех сообщений, которые выглядят наиболее достоверными. К таковым следует отнести известие о строительстве князем Владимиром после своего возвращения из корсунского похода и крещения киевлян церкви св. Василия в Киеве. Известно, что Владимир был крещен в честь св. Василия9. Правда, в точности не известно, какой именно Василий стал святым патроном русского князя10. Обычай ставить церкви в честь своего святого был традиционной практикой в христианском мире, поэтому, на первый взгляд, это сообщение выглядит вполне достоверным. К тому же большинство летописных списков Корсунской легенды сохраняет чтение о церкви св. Василия на холме Перуна, за исключением ряда летописей конца XV-XVI в., где она опущена, а также Владимирского летописца, который возводит на месте киевского капища церковь св. Спаса.
Тем не менее, есть все основания усомниться в достоверности этого рассказа. За исключением Корсунской легенды, о такой церкви в Киеве на месте почитания языческих идолов не сообщает ни один другой источник XI-XIII вв. Зато и в летописях, и в агиографической литературе мельком упоминается о другой церкви св. Василия, которая находилась не в Киеве, а в Вышгороде. О ней говорится в повествовании об убиении Бориса и Глеба, тела которых после убийства были привезены в Вышго-род и положены в церкви св. Василия11.
Где же находилась церковь св. Василия — в Киеве или в Вышгороде? Или было две построенных князем Владимиром церкви св. Василия? При решении этого вопроса следует учитывать, что Сказание о Борисе и Глебе и Корсунская легенда в своем исходном виде представляли собой самостоятельные произведения и вносились в состав летописи, судя по всему, разновременно. Предпочтение следует отдать Сказанию как более раннему тексту. Из него следует, что церковь св. Василия была дворцовой церковью князя Владимира и находилась на его княжеском дворе в Вышгороде.
Что церковь св. Василия при Владимире стояла именно на княжом дворе, косвенно подтверждает факт строительства аналогичных каменных церквей в Киеве в конце XII в. Одна из них была построена великим киевским князем Святославом Всеволодовичем в 1183/1184 г. на «великом» (Ярославовом) дворе, другая — его преемником на киевском столе князем Рюриком Ростиславичем в 1197/1198 г. на «новом дворе».12 Таким образом, обе они были дворцовыми церквями, построенными правившими в Киеве князьями черниговского и смоленского домов. Возведение церкви в честь св. Василия Кесарийского (память которого отмечалась 1 января) Рюриком Ростиславичем вполне понятно. Крестильным именем Рюрика было Василий, и он ставил дворцовую церковь в честь своего святого13. Менее понятно возведение дворцовой церкви в честь св. Василия Великого Святославом Всеволодовичем. Считается, что его крестильное имя — Михаил14. Факт поставления им церкви св. Василия в своей киевской резиденции пока остается без объяснения.
Где находились эти дворцовые церкви великих киевских князей? Как установили исследователи топографии древнего Киева, оба «двора» были расположены в стороне от «холма Перуна». Даже не сомневавшийся в достоверности летописных сведений историк отмечал, что две каменные Васильевские церкви конца XII в. нельзя приурочивать к местоположению Владимировой церкви св. Василия, так как они построены были заново и стояли не над Боричевым взвозом, а в других местах, на юг и юго-запад от Перунова холма. По предположению Н. И. Петрова, на месте древнего капища в домонгольское время находился Янчин монастырь (построенный для дочери киевского князя Всеволода Ярославича Янки в конце XI в.), а впоследствии — Андреевская церковь [Петров, 1897, 107-110]. Таким образом, ни по местонахождению, ни по времени возникновения церкви Святослава и Рюрика не имели отношения к церкви св. Василия Корсунской легенды. То, что киевский летописец в рассказе об этих церквях ни словом не упоминает Владимирову церковь св. Василия, тоже, скорее, говорит в пользу того, что такой церкви во времена князя Владимира в Киеве не существовало.
Таким образом, сопоставление известных источников заставляет признать, что Владимир действительно поставил церковь в честь своего святого, но не в Киеве, а в своей загородной резиденции в Вышгороде. Позднейший автор Корсунской легенды, в котором исследователи почти единодушно признают грека15, «заставил» русского князя «возвести» эту церковь на месте языческого капища. Такая новация психологически объяснима: этим он хотел утвердить превосходство греческого святого над чужими языческими богами.
Труднее понять причины летописных расхождений в номенклатуре крещальных церквей Корсунской легенды. Анализ этих разночтений зависит от того, как определить соотношение поздних летописных версий XIV–XVI вв. и особого памятника, известного под названием «Слово о томъ, како крестися Володимеръ, возмя Корсунь». А.А. Шахматов полагал первичным летопись, Н.К. Никольский — «Слово» о крещении князя Владимира. Точка зрения Никольского представляется более обоснованной, что заставляет присоединиться к тем исследователям, которые приписывали авторство этого сочинения греческому игумену Киево-Печерского монастыря Феодосию II, жившему в середине XII в. [Лященко, 1900, 24–30; Яцимирский, 1904, 911–912]16. В «Слове» Феодосия умалчивается о церкви, где крестился Владимир, а церковью, где крестилась дружина, названа церковь св. Богородицы. В таком случае, чем руководствовался редактор Лаврентьевской летописи, который вместо «св. Богородицы» указал церковь св. Василия? Вряд ли у редактора Лаврентьевского списка епископа Дионисия Суздальского могли быть какие-то возражения против храма св. Богородицы, если бы в протографе Нижегородской летописи был указан этот храм17. Правда, создатель Нижегородско-Печерского монастыря не был, как это принято считать, пострижеником Киево-Печерской обители, в честь которой он якобы и создал новый пещерный монастырь в Нижнем Новгороде. Современный исследователь А. А. Булычев подверг эту версию, возникшую в трудах церковных историков XIX в., основательной критике и показал «полную научную несостоятельность гипотезы о принадлежности Дионисия Суздальского к братии киевского Успенского пещерного монастыря: он не был ни пострижеником той обители, ни ее насельником». Одним из весомых аргументов Булычева является указание на тот факт, что в основанном Дионисием в 20–30-е гг. XIV в. Нижегородском Вознесенском монастыре до 1648 г. не было ни одного престола, освященного в честь Успения Божией Матери — главного праздника киевской Печерской обители. Этот факт находится в полном противоречии с хорошо известной практикой выходцев Киево-Печерского монастыря посвящать престолы созданных на новом месте церквей в честь своей монашеской alma mater [Булычев, 2002].
Главным храмом Нижегородского монастыря была церковь во имя Вознесения Господня, а поэтому в посвящении церкви св. Василию не просматривается никаких личных мотивов. Однако в том, что эта церковь — результат личного творчества суздальского епископа, убеждает тот факт, что церковь св. Василия в качестве крещаль-ной корсунской церкви нигде больше не фигурирует. Другие летописные списки указывают совершенно иные церкви: Ипатьевская — св. Софии (Ипат., 1998, стб.); Новгородская первая младшего извода — св. Василиска (НПЛ, 2000, 152); Троицкий список младшей НПЛ — св. Климента (НПЛ, 2000, 545); Радзивиловская — св. Богородицы (Радз., 1989, 51); Тверская, Воскресенская, Никоновская и ряд других — св. Иакова (Твер., 2000; стб. 104; Воскр., 2001, 308; Никон., 2000, 54); Владимирский, Устюжский и Архангелогородский летописцы — св. Спаса (ВЛ, 2009, 34; УВЛ, 1982, 24, 63). Остается предположить, что еп. Дионисий имел дело не с самим «Словом», а с летописной версией тверского протографа Лаврентьевской летописи. Видимо, указанная в нем корсунская церковь чем-то не устраивала суздальского епископа. Поэтому он заменил ее «св. Василием», просто продублировав киевский храм. Так в Лаврентьевской летописи оказалось две церкви св. Василия: херсонская «на месте посреди града идеже торгъ деють Корсуняне», где крестился князь Владимир и дружина, и киевская на холме Перуна (Лавр., 1997, стб. 111, 118).
«Софийско-предтеченская» версия Корсунской легенды Ипатьевской летописи
Особое значение имеет номенклатура церквей Ипатьевской летописи. Единственная из всех она дает полную линейку всех церквей, в том числе указывает посвящение построенной князем Владимиром церкви «в Корсуне на горе»: святого Иоанна Предтечи. Во всех остальных списках эта якобы построенная Владимиром херсонская церковь благоразумно остается безымянной. На первый взгляд малозначительная, эта деталь позволяет уточнить место создания Ипатьевского списка Ипатьевской летописи.18 Напомним, что еще А. А. Шахматов на основании лингвистических особенностей текста Ипатьевского списка установил его северно-русское происхожде-ние19. Конкретным местом его написания Шахматов склонен был считать Псков, относя время создания рукописи к середине XV в. [Шахматов, 1916, LIII]. Крупнейший русский археограф Н. П. Лихачев датировал рукопись временем около 1425 г. По данным Б. М. Клосса, она датируется концом 10-х — началом 20-х гг. XV в. Создание южнорусского оригинала, с которого был сделан Ипатьевский список, Б. Клосс относит к концу XIII в. При этом он предположил, что «в качестве места написания рукописи нельзя исключать западнорусские области» [Клосс, 1998, F]. Где же был составлен текст Ипатьевского списка — в Пскове, Новгороде, Киеве или «западнорусских областях»?
Ключом к решению этого вопроса могут служить указанные в нем церкви Корсунской легенды. Указание на церковь св. Софии как место крещения Владимира нельзя считать случайностью. Вписавший ее в текст Корсунской легенды монах был озабочен прославлением главной святыни своего города — храма святой Софии. Но сам писавший принадлежал, по всей видимости, к клиру церкви св. Иоанна Предтечи, раз он заставил Владимира возвести в Херсонесе храм в честь этого святого. В каком из городов с софийскими храмами существовала такая церковь?
В домонгольский период соборные храмы святой Софии имелись только в трех городах Руси: Киеве, Новгороде и Полоцке. К XIV в. Софийский собор существовал и в Пскове. Церковь св. Софии и чад ее — патрональная церковь псковских купцов — была второй по времени возникновения и значимости соборной церковью Пскова после Троицкого собора20. Имелся в Пскове уже с XII в. и собор Иоанна Предтечи, и женский монастырь св. Иоанна в Завеличье с церковью Рождества Иоанна Предтечи21. Тем не менее, псковское происхождение «софийско-предтеченской» версии Корсунской легенды маловероятно, хотя и не исключено. Во-первых, летописание в Пскове велось при Троицком, а не Софийском соборе [Лабутина, 2011, 254]. Во-вторых, летописный бум XV в. был характерен прежде всего для Великого Новгорода и Москвы. Но сначала рассмотрим возможность киевского происхождения «софийско-предтеченского» варианта, так как ряд историков считают именно его исходной (и подлинной) киевской версией Корсунской легенды.
О существовании церкви св. Иоанна Предтечи в Киеве можно судить, прежде всего, на основании летописных данных. В самой Ипатьевской летописи дважды упоминается о церкви св. Иоанна в Киеве. Под 6629 (1121/1122) г. сообщается о закладке церкви «святого Ивана въ Копыреве конце» (Ипат., 1998, стб. 286). Второе беглое и мимоходное упоминание относится к 1151 г.: говоря о расположении киевских войск, летописец сообщает, что они стояли между двумя лесными массивами, за оградой церкви св. Иоанна («въ огород святаго Иоанна») (Ипат., 1998, 428). Однако остается неясным, какому св. Иоанну была посвящена эта церковь: Иоанну Предтече, Иоанну Богослову или Иоанну Златоусту. Дважды Ипатьевская летопись определенно говорит о рождении княжеских сыновей на день Иоанна Крестителя, но при этом не упоминает какой-либо церкви в его честь22. Киевская летопись в составе Ипатьевского списка заканчивается 1199 г., а сам Ипатьевский список — 1292 г. На этом основании можно определенно утверждать, что никакого ясно выраженного культа св. Иоанна Предтечи в древнем Киеве не существовало.
Правда, в ряде поздних западно-украинских прологов XVI–XVII вв. под 7 января содержится сказание о принесении перста св. Иоанна Крестителя из Царяграда в Киев при великом князе Владимире Мономахе. Впервые это Сказание по рукописной Четьей минее Киевской Духовной академии (XVI в.) опубликовал Н. К. Никольский. В нем говорится о мученической смерти Иоанна Предтечи при царе Ироде и прославлении его мощей. Тело его находится в граде Севасте, а голова и рука его славима и чтима в Царьграде. По словам Сказания, в Руси славим честной его перст, в граде Киеве. Бог дал Свое изволенье на то, чтобы перст честной Предтечевой руки принесен был от Царьграда на Русь в град великий Киев, при князе Владимире Мономахе в лето 6600. «И положен бысть в церкви святого Иоанна, на Сетомле, у Купшина монастыря» (Принесение перста, 1907, 56–57).
Ряд современных исследователей (Б.Н. Флоря, А.А. Турилов, В.И. Галко, А.Ю. Карпов) принимают эту позднюю церковную версию XVI-XVII вв. украинского происхождения за исторически достоверный рассказ, пытаясь согласовать его с комплексом известного исторического материала. Допущенный автором легенды анахронизм — указание на 6600 (1092/1093) год как на дату принесения перста «в град великий Киев при князи Владимере Мономасе» — они пытаются выдать «за ошибку в дате», утверждая, что «в записи лет было опущено число десятков и единиц». Поправляя церковного автора XVI в., не имевшего должной исторической эрудиции, Турилов и Галко утверждают, что Сказание было создано в правление Владимира Мономаха (1113-1125 гг.) [Турилов, Галко, 2003, 221]23. Инициативу этого шага А. Турилов приписывает Мономаху [Турилов, 2010, 559]. А. Ю. Карпов пошел еще дальше, создав целую концепцию об обстоятельствах принесения перста св. Иоанна Крестителя в правление Владимира Мономаха. Он устанавливает дату принесения перста — около 1121 г., связывая это событие с заключением династического брака внучки Мономаха, дочери его старшего сына Мстислава, с византийским царевичем Алексеем, а также с известием киевской летописи под 1121/1122 г. о заложении князем церкви св. Иоанна в Копыревом конце Киева. В связь с этой киевской церковью Карпов ставит и известие Ипатьевского списка о построении князем Владимиром I после своего крещения в Корсуни «на горе среде града» церкви св. Иоанна Предтечи, рассматривая церкви Иоанна обоих Владимиров как доказательство раннего существования культа этого святого в Киеве [Карпов: Перенесение перста ].
Однако все эти построения держатся лишь на серии предположений и не выдерживают столкновения с фактами. Прежде всего, о перенесении перста св. Иоанна Предтечи в Киев (ни при Мономахе, ни при каком-либо другом князе) не сообщает ни один источник до второй половины XVI в., в том числе самый авторитетный из них — Киевская летопись. Равным образом ни словом не обмолвился об этом событии сам Владимир Мономах в своем «Поучении детям». Когда бы ни произошло это событие (в 1092 г. по украинскому Прологу, в 1113-1125 гг., как предполагают А. А. Ту-рилов и В. И. Галко, или в 1121 г., как считает А. Ю. Карпов), оно не могло остаться вне поля зрения киевских монахов-летописцев. Тем более что этому событию все авторы, начиная с Б. Н. Флори, приписывают еще и политические цели [Флоря, 1987, 188]. Следовательно, его обнародование отвечало интересам не только Церкви, но и княжеской власти. Тем не менее, ни летописцы, ни другие древнерусские авторы ни словом не упоминают такую киевскую святыню, как перст св. Иоанна Крестителя, даже тогда, когда такое упоминание было бы уместно24. Собственно, здесь можно поставить точку, потому что «сообщение» заинтересованных лиц в церковном источнике спустя 500 лет после предполагаемого события не имеет никакой доказательной силы.
Однако можно привести и другие аргументы. Во-первых, точно не известно, какому св. Иоанну была посвящена церковь в Копыревом конце, что не позволяет делать никаких определенных выводов. Во-вторых, Купшин монастырь на Сетомле, который упоминается в Проложном сказании в качестве места расположения церкви св. Иоанна Предтечи, нигде более не фигурирует. Не исключено, что это такой же продукт фантазии автора, как и само принесение перста. В-третьих, церковь св. Иоанна в Киеве была слишком незначительна и малоизвестна, чтобы можно было говорить о киевском культе этого святого. Мимоходные и случайные упоминания о ней в Киевской летописи лишь подтверждают, что она не играла существенной роли ни в религиозной, ни в политической жизни Киева. Наконец, само время появления пролож-ного Сказания о принесении перста Иоанна Предтечи, да еще в западно-украинских прологах XVI-XVII вв., в разгар борьбы с униатами, выдает идеологическую подоплеку этого сочинения. Удивляет готовность современных историков подыскивать исторические основания церковным легендам, оставляя за бортом научного исследования время и место создания письменных памятников.
Несомненно, что проложное Сказание о принесении в Киев перста св. Иоанна Предтечи теснейшим образом связано с исторической обстановкой XVI–XVII вв. Здесь следует принимать во внимание не только разгоравшуюся борьбу православия с униатской Церковью на Украине, но и активизацию связей православных церквей России и русской части Польши с православным Востоком. В течение XVI–XVII вв. частицы мощей св. Иоанна Предтечи привозились в русские земли семь раз, в том числе часть руки, часть главы, часть правой лопатки [Каптерев, 1914, 77-78]. На фоне этого оживленного обмена святынями и в связи с потребностями антикатолической пропаганды активизировалась и религиозная фантазия. В православной русской книжности этого периода Сказание о принесении перста Иоанна Предтечи не стоит одиноко. В то же самое время, в XVI–XVII вв., в церковный обиход вошел еще один рассказ о чудесах св. Иоанна Предтечи, связанный с посвященным ему храмом на Опоках в Новгороде, — новгородская Повесть о чудесах при постройке немецкой ропаты25. Наконец, сам период XVI-XVII вв. отмечен активным церковно-государственным и неофициальным мифотворчеством, начиная от знаменитой августианской легенды о происхождении русских государей «от корня» римских императоров (о Рюрике как потомке Пруса, брата римского императора Августа) до составления таких псевдоисторических славянофильских компиляций, как Иоакимовская летопись.
Для окончательного выяснения картины с Предтеченскими церквями в Киеве можно привлечь такой авторитетный внелетописный источник, как Киево-Печерский патерик. На основе одного из его рассказов можно установить время и обстоятельства появления в Киеве придела во имя св. Иоанна Предтечи в Успенской церкви Печерского монастыря. Этот придел был построен печерским игуменом Иоанном (1088 — не позднее 1108 гг.) на деньги, пожертвованные одним из иноков Печерского монастыря Захарией, сыном богатого киевского боярина Иоанна. События, изложенные в патериковом рассказе, относятся к хронологическому интервалу не ранее 1078 и не позднее 1098 гг.26 Из этого патерикового сказания следует, что возведение в конце XI в. в Киеве Предтеченской церкви не было связано ни с правлением Владимира Мономаха, ни с перстом св. Иоанна Крестителя, ни с общегородским культом этого святого.
Итак, очевидно, что Ипатьевская версия Корсунской легенды — некиевского происхождения, так как нет исторических свидетельств существования общегородского культа св. Иоанна Предтечи в древнем Киеве. В самой Ипатьевской летописи нет прямых сообщений о киевских церквях в честь Крестителя (церковь св. Ивана в Ко-пыревом конце оставляет сомнения в ее конкретном посвящении). Зато в Новгороде культ св. Иоанна Предтечи приобрел внушительные масштабы. Уже в XII в. существовали три новгородские церкви в честь этого святого: каменная церковь св. Иоанна Предтечи «на Петрятине дворе» (заложена в 1127 г. внуком Владимира Мономаха князем Всеволодом Мстиславичем) (НПЛ, 2000, 21), деревянная церковь св. Иоанна Предтечи (Ивана Ишкова, неоднократно горевшая и вновь отстраиваемая)27 и церковь Усекновения главы Иоанна Крестителя на Чудинцевой улице (построена в 1176 г.) (НПЛ, 2000, 35). Здесь же, в Новгороде, в XII в. существовал также Рождество-Пред-теченский женский монастырь (упомянут в летописи под 1179 г.) в честь Рождества
Иоанна Крестителя (НПЛ, 2000, 36). Ни в одном другом городе Руси св. Иоанн Креститель не пользовался такой популярностью, как в Новгороде28.
Самой значительной из иоанновских церквей в Новгороде была церковь св. Иоанна Предтечи на Опоках, или на Торгу («на Петрятине дворе»). Перестроенное в 1453 г. здание этой церкви существует до сих пор и находится на Ярославовом дворище в Великом Новгороде. Заложенная в 1127 г., в 1130 г. специальной уставной грамотой она была передана Ивановской общине купцов-вощаников, торговавших воском и мёдом. Ивановская организация купцов («Ивановское сто») состояла из наиболее богатых новгородских купцов, вносивших в качестве цехового взноса 50 гривен (12 кг) серебром. При церкви Ивана на Опоках существовал возглавлявшийся тысяцким купеческий суд, разбиравший все тяжбы по торговым делам. В церкви Ивана на Опоках хранились контрольные эталоны мер для измерения длины сукна, для взвешивания драгоценных металлов, меда, воска и других товаров [Каргер, 1980, 136–138]. В 1184 г. церковь получила статус соборной. Таким образом, эта церковь имела общегородское значение, принадлежала наиболее богатому торговому цеху и, следовательно, располагала не менее влиятельным духовенством, имевшим как финансовые, так и кадровые возможности для дорогостоящего летописного дела. «Повесть о чудесах при постройке немецкой ропаты», где главным героем выступает святой покровитель новгородской церкви св. Иоанна Предтечи на Торгу, тоже демонстрирует активную роль клира этой церкви в пропагандистских акциях по прославлению патрона своего храма. Есть все основания считать, что составитель Ипатьевского списка принадлежал к духовенству именно этой новгородской церкви св. Иоанна Предтечи.
Таким образом, все признаки: новгородский диалект Ипатьевского списка и линейка псевдокорсунских церквей — св. София в качестве крещальной церкви князя Владимира и церковь св. Иоанна Предтечи в качестве построенной Владимиром в Херсонесе, — выдают в составителе этого списка новгородского клирика соборной церкви Иоанна Предтечи.
Написанная позднее Ипатьевской Новгородская первая летопись младшего извода указывает другую линейку церквей: св. Василиска (корсунская крещальная) — безымянная в Корсуни — св. Василия (на холме Перуна в Киеве) — св. Богородицы (первая киевская). И если вторые две церкви традиционны, то объяснить появление церкви святого Василиска в Комиссионном списке НПЛ весьма затруднительно. Е. Е. Голубинский полагал, что чтение младшей НПЛ о херсонской церкви св. Василиска, где крестился князь Владимир, на самом деле лишь испорченное греческое «базилика» (βασιλική)29. Такой вариант сразу ставит вопрос об источнике, который использовал составитель этой летописи. Такая деталь, как базилика в качестве крещальной церкви в Херсонесе, не фигурирует в агиографической литературе о князе Владимире. Голубинский предполагал наличие греческого протографа, с которого делался русский перевод. Такой вариант не исключен, тем более что «св. Василиску» младшей НПЛ трудно дать иное объяснение.
Василиск — один из трех мучеников Амасийских — не принадлежал к числу широко почитаемых на Руси святых. Не известно ни церквей, ни приделов в честь этого святого. Согласно житию, он приходился племянником св. Феодору Тирону и, как и его родной дядя, был казнен за свои христианские убеждения в правление императора Максимиана [Артюхова, Луховицкий, 2008, 356]. Правда, по указанию владыки Сергия (Спасского), в древних рукописных славянских минеях память св. Василиска отмечалась под 3 марта (как одного из трех мучеников Амасийских) и под 22 мая (Житие св. Василиска под этой датой тоже присутствует в славянских четьих минеях). В то время как в полных месяцесловах Восточных Церквей (и Греко-Российской Церкви) день памяти св. Василиска не значился [Спасский, 1997а, 694, 695, 706; Спасский, 1997б, 92, 191, 587, 632]. Так или иначе, но св. Василиск двух новгородских летописей середины XV в. (младшей НПЛ и Новгородской V) остается загадкой. Единственное, что здесь можно отметить, — что св. Василиск присутствует в тех новгородских летописях, которые и в XV в. продолжали традицию местного новгородского летописания, при этом с пролитовской и антимосковской направленностью30. В связи с этим вполне допустимо предположить, что составитель младшей НПЛ мог почерпнуть имя св. Василиска из тверского источника (Тверь традиционно ориентировалась на союз с Литвой). Если св. Василиск стоял в тверском протографе Лаврентьевской летописи, тогда находит объяснение замена его суздальскими переписчиками на более известного св. Василия. Что касается новгородского летописания общерусской направленности, то для него, наоборот, была характерна промосковская и антилитовская позиция, которой соответствовала и особая версия Корсунской легенды.
«Яковлевско-георгиевская» версия Корсунской легенды
Эту особую версию содержит целая группа памятников, в которых корсунской церковью, где крестился князь Владимир, названа церковь св. Иакова. Это Новгородская IV летопись (перв. половина XV в.), Софийская первая летопись (списки 70-80-х гг. XV в.) и целый ряд летописей конца XV — середины XVI вв., включая Тверской сборник, Воскресенскую и Никоновскую. К этой группе относится и Обычное житие св. Владимира (первые списки конца XV в.). Другой особенностью «яковлевской» версии является наличие в ней церкви св. Георгия в качестве первой каменной церкви, построенной князем Владимиром в Киеве. Тандем Иаков (крещальная корсунская) — Георгий (первая киевская) имеют большинство списков этой серии. Поэтому ее можно обозначить как «яковлевско-георгиевскую» версию Корсунской легенды, хотя некоторые летописи имеют отклонения от общей матрицы. Еще одой яркой отличительной чертой этой группы является наличие в ней двух Богородичных церквей, построенных Владимиром. Авторы этой версии, называя св. Георгия первой каменной церковью в Киеве, приписывают Владимиру строительство сначала деревянной Богородицы в основанном им «граде Владимире» в «Словенской», «Смоленской» или «Суздальской» земле. И лишь затем воспроизводят традиционную запись ранних списков ПВЛ о замысле и создании церкви св. Богородицы Десятинной в Киеве. Таким образом, киевский храм Богородицы хотя и не исключается вовсе из списка построенных Владимиром церквей, оказывается передвинутым с первого места на третье и фигурирует в качестве второй каменной киевской церкви.
Наличие одинаковых общих особенностей указывает на общий источник этой «яковлевско-георгиевской» версии XV-XVII вв. Существование такого общего источника у летописей этого периода признавалось всеми специалистами по русскому летописанию, хотя в его определении исследователи расходятся. Очевидно, что источник «яковлевско-георгиевской» версии следует искать там, где имелись церковные корпорации св. Иакова и св. Георгия. Церковь св. Иакова, в которой автор этой версии заставляет креститься своего героя, выдает его собственные пристрастия и, тем самым, указывает на вероятное место написания оригинала этих текстов. Исходя из законов человеческой психологии логично предположить, что автор «яковлевской» версии
Таблица 3. Летописи с «яковлевско-георгиевской» версией Корсунской легенды
|
№ /п ПСРЛ № тт. |
Летописные источники |
Церковь, в которой крестился Владимир в Херсонесе |
Церковь, построенная Владимиром в Херсонесе |
Церковь на холме Перуна в Киеве |
Первые построенные Владимиром церкви |
|
1 4. ч. 1 |
Новгородская IV летопись перв. пол. XV в. |
св. Иякова |
в Корсуни на горе |
св. Василия |
св. Георгия + две св. Богородицы: деревянная соборная во Владимире в Словеньской земле и каменная в Киеве |
|
2 42 |
Новгородская Карамзинская список кон. XV — нач. XVI в. |
св. Иакова |
в Корсуни на горе |
св. Василия |
св. Георгия + две св. Богородицы: деревянная соборная во Владимире в Словенской земле и каменная в Киеве |
|
3 6, ч. 1 |
Софийская первая старш. извода, кон. 70-х — нач. 80-х гг. XV в. |
св. Иякова |
в Корсуни на горе |
св. Василия |
св. Георгия + две св. Богородицы: деревянная во Владимире в Смоленской земле и каменная в Киеве |
|
4 23 |
Ермолинская, кон. 80 — нач. 90-х XV в. |
св. Иякова |
в Корсуни на горе |
отсутствует |
св. Георгия + две св. Богородицы: деревянная во Владимире на Клязьме Суздальской земли и Десятинная в Киеве |
|
5 25 |
Московский летописный свод конца XV в. |
св. Иакова |
в Корсуни на горе |
отсутствует |
св. Георгия + две св. Богородицы: деревянная во Владимире в Суздальской земле и в Киеве |
|
6 24 |
Типографская кон. XV — нач. XVI в. |
св. Иакова |
в Корсуни на горе |
отсутствует |
св. Георгия + две св. Богородицы: деревянная во Владимире в Суздальской земле и в Киеве |
|
7 26 |
Вологодско-Пермская, кон. XV — перв. пол. XVI в. |
св. Иякова |
отсутствует |
отсутствует |
св. Егорья + деревянная св. Богородицы во Владимире в Смоленской земле |
|
8 27 |
Сокращенный летописный свод 1493 г. |
св. Иакова |
в Корсуни на горе |
св. Василия |
св. Георгия + две св. Богородицы: деревянная во Владимире на Клязьме в Суздальской и Смоленской земле и в Киеве |
|
9 28 |
Летописный свод 1497 г., кон. XV — начало XVI в. |
св. Якова на Торгу |
в Корсуни на горе |
отсутствует |
св. Георгия + деревянная св. Троицы во Владимире на Клязьме Суздальской земли + св. Богородицы Десятинная в Киеве |
|
10 28 |
Летописный свод 1518 г. |
св. Иакова |
в Корсуни на горе |
отсутствует |
св. Георгия + две св. Богородицы: деревянная во Владимире на Клязьме в Суздальской земле и каменная Десятинная в Киеве |
На Руси церкви в честь св. Иакова не получили широкого распространения. Исключением был Новгород, в котором уже в XII в. существовали две церкви св. Иакова. Обе они находились на Софийской стороне: одна на юге — в Гончарском (Людином) конце на Добрынине улице, другая на севере — в Неревском конце на Яковлевой улице31. Из Новгородской первой летописи известно, что служители «святого Якова» имели самое непосредственное отношение к новгородскому летописанию. К клиру «святого Якова» принадлежал один из первых владычных хронистов священник Герман Воята († 1189), прослуживший в этой церкви 45 лет. Пономарем одной из Яковлевых церквей Тимофеем был написан древнейший русский датированный Пролог 1262 г. (Лобковский). Тимофей был также одним из переписчиков Новгородской первой летописи старшего извода. Согласно последним изысканиям, пономарь Тимофей был причастен не только к переписыванию летописи и пролога, но и договоров Новгорода с князем Ярославом Ярославичем 1264–1268 гг., а также ряда других документов. На основании этих данных один из современных историков, А. Е. Мусин, приходил к выводу, что несколько поколений притча Яковлевской церкви были связаны с владычной канцелярией и летописанием, ведшимся при епископском дворе св. Софии [Мусин, 2016, 80].
Но к какой из двух Яковлевых церквей относились новгородские летописцы XII–XIII вв.? Большинство исследователей полагали, что и священник Герман Воята, и пономарь Тимофей были служителями церкви св. Иакова на Добрынине улице в Людином конце (южная часть Софийской стороны). Относительно Тимофея Г. И. Вздорнов подкреплял этот вывод тем, что Лобковский пролог был написан Тимофеем для церкви Нерукотворного образа Спаса, стоявшей по соседству на той же Добрынине улице [Вздорнов, 1972, 260–264]. Однако далеко не все разделяют это мнение. В частности, А. Е. Мусин полагал, что речь все же должна идти о храме в Не-ревском конце. Во-первых, статус этой церкви был выше: в XIV в. она была одной из семи соборных церквей Новгорода. Во-вторых, неревская церковь св. Иакова постоянно фигурирует на страницах новгородских летописей, в отличие от лишь изредка упоминаемой Яковлевой церкви в Людином конце. Соборный статус одной из древнейших церквей Неревского конца мог способствовать формированию здесь просвещенного клира, связанного с владычной канцелярией. Дополнительное свидетельство вовлеченности духовенства Неревского конца в новгородское летописание Мусин усматривал в участии неревлянина Матфея Кусова во владычном летописании первой четверти XV в. [Мусин, 2016, 80–82].
Принадлежность новгородских летописцев XII–XIII в. к конкретной церкви св. Иакова все же остается под вопросом. Но в отношении XIV-XV вв. есть все основания полагать причастность к созданию «яковлевской» версии Корсунской легенды духовенства Неревского конца. Здесь можно опираться не только на предположения, но и на факты. Под 1311 г. НПЛ сообщает о строительстве архиеп. Давыдом каменной церкви св. Владимира на воротах Софийского Кремля: «Того же лета архиепископъ Давыдъ постави церковь камену на воротехъ от Неревьского конца святого Владимира» (НПЛ, 2000, 93). Сам новгородский владыка был тесно связан с боярством Не-ревского конца, на котором он имел свое подворье. При владыке Давиде (1308–1325) церковное строительство в Новгороде было преимущественно связано именно с этим концом Новгорода (НПЛ, 2000, 94, 335), [Давид, 2006, 561-562]. Связь духовенства Не-ревского конца с первой известной из источников церковью св. Владимира делает наиболее вероятным, что автором «яковлевской» версии, крестившим князя в «корсунской» церкви св. Иакова, был представитель клира церкви св. Иакова на Яковлевой улице Неревского конца Новгорода.
Все перечисленные выше письменные памятники с церковью св. Иакова имеют в качестве общего источника новгородское летописание. Но пока сложно решить, какая из новгородских летописей первой половины XV в. послужила оригиналом «яковлевско-георгиевской» версии Корсунской легенды. Ответ на этот вопрос зависит от того, как будет решена сложная и запутанная проблема соотношения и хронологии новгородского летописания XV в. Скорее всего, ее источником послужил новгородский общерусский свод — Новгородская IV летопись, или ее непосредственный протограф, созданные при архиеп. Евфимии II [Бобров, 2001, 169]. Любопытно, что к новгородским летописям первой половины XV в. восходят сразу три различных версии Корсунской легенды. Новгородская IV и ее последующие продолжения содержат «яковлевско-георгиевскую» версию, со второй половины XV в. получившую наибольшее распространение. Составленный в Новгороде Ипатьевский список содержит «софийско-предтеченскую» версию, а младшая НПЛ и Новгородская V — церковь св. Василиска.
Что именно Новгород был источником «яковлевско-георгиевской» версии, подтверждает появление в ней церкви св. Георгия32. Видимо, новгородский клирик был выходцем из Юрьева (Георгиевского) монастыря (или же стал монахом этого монастыря), раз он заставил Владимира построить первую каменную церковь в Киеве в честь св. Георгия, заботливо указав даже проложную дату памяти ее освящения, — 26 ноября33. Этим он не только нарушил нерушимую до этого традицию киев- ской «св. Богородицы», но и исказил историческую действительность. Князь Владимир не был создателем Георгиевского собора в Киеве. Эту церковь при основанном им монастыре создал его сын Ярослав в честь своего святого (крестильным именем Ярослава было Георгий)34. Правда, новгородский новатор «компенсировал» Богоматери этот урон, сочинив «двойную Богородицу»: «Постави Володимеръ в Киеве 1-ю церковь святаго Георгия ноября 26. И пришедъ ис Киева во Словеньскую землю, и постави градъ во свое имя Володимеръ… и церковь соборную святую Богородицю древяную постави, и вся люди крести Рускыя и наместницы» (Н4Л, 2000, 90). После этой деревянной соборной церкви Богородицы в выдуманном граде Владимире Словенской земли автор возвращается к исторической действительности и воспроизводит текст своего источника о строительстве Десятинной церкви в Киеве: «По семъ же Володимеръ… помышли създати церковь пресвятыя Богородица и, послав, приведе мастере отъ Грекъ» (Н4Л, 2000, 91). Переписчик XVI в., работавший над текстом Никоновской летописи, не рискнул с новгородской грубостью попирать традиции. Правда, он оставил «святого Иакова» в качестве крещальной корсунской церкви, но опустил «св. Георгия», сохранив Десятинную Богородицу в качестве первой каменной киевской церкви.
В группе летописей с «яковлевско-георгиевской» версией показательны также различия относительно места возведения деревянной церкви св. Богородицы. Новгородские летописи помещают ее в Словенской земле, что соответствовало этническому самосознанию новгородских словен. Это чтение присутствует в Новгородской IV летописи (Н4Л, 2000, 90), Новгородской Карамзинской (Карамз., 2002, 98), Новгородской IV по списку Дубровского (Н4ЛД, 2004, 43). Появление этой «добавочной» Богородицы, возведенной раньше киевской Десятинной, продиктовано стремлением новгородских идеологов утвердить не только политическое, но и религиозное первенство новгородской Словенской земли над киевской Русской. Эта уловка новгородского патриотизма служит еще одним веским подтверждением новгородского происхождения «яковлевско-георгиевской» версии Корсунской легенды.
Новгородские новаторы указали путь, по которому устремилась мысль других подражателей. В Софийской первой фигурирует не Словенская, а Смоленская земля: «Того же лета постави князь Владимеръ в Киеве перву церковь святого Георгия, ноября 26. Пришедъ ис Киева въ Смоленьскую землю и постави град въ свое имя Владимеръ, и спомъ осыпа, и церковь Святую Богородицю зборную древяну постави» (Соф. I, 2000, стб. 105). Та же версия присутствует в Вологодско-Пермской и Холмогорской летописях (Волог.-Перм., 1959, 31; Холм. 1977, 29). Очевидно, что северные летописцы почерпнули ее из Софийской летописи, куратор или составитель которой, по-видимому, оказался уроженцем Смоленской земли.
Суздальскую землю указывают все летописи московского происхождения: Ермолинская (Ерм., 2004, 15), Московский летописный свод конца XV в. (Моск. ЛС, 2004, 365), Летописный свод 1518 г. (ЛС 1518, 1963, 172), Типографская летопись (Тип., 2000, 39), Воскресенская (Воскр., 2001, 313), а также Летописный свод 1497 года (ЛС 1497, 1963, 18), хотя вместо «св. Богородицы» он указывает церковь Св. Троицы. Компромиссный вариант с одновременным упоминанием Суздальской и Смоленской земли присутствует в Сокращенном летописном своде 1493 года (Сокр. ЛС 1493, 2007, 215). В Тверском сборнике к Словенской и Суздальской добавлена еще и Ростовская область (Твер., 2000, стб. 113-114), что объясняется ростовским происхождением составителя этой летописи (о чем уведомляет сам автор). Таким образом, в изложении Корсунской легенды причудливым образом проявился не только присущий
Средневековью церковно-монашеский корпоративизм, но и неизжитый территориальный партикуляризм.
Из всех содержащих упоминание о церкви св. Георгия летописей выделяется Холмогорская — тем, что старается примирить сведения других источников с новгородской концепцией «яковлевско-георгиевских» церквей. Во-первых, она дает редкий вариант крещальной церкви Владимира в Корсуни — св. Богородицы, который, кроме нее, присутствует только в списках Радзивиловской летописи и в «Слове о том, како крестися Володимер, возмя Корсунь». Сохраняет она и традиционную церковь св. Василия на холме Перуна, опущенную во многих списках с «яковлевско-георгиевской» версией. Третьим отличием является то, что она старается найти компромисс этой версии с традицией ранних списков ПВЛ с их Десятинной Богородицей как первой каменной церковью в Киеве.
Не говоря прямо, что «св. Богородица» — первый каменный храм Киева, она все же помещает традиционную запись о замысле создания этой церкви раньше известия о других строительных мероприятиях Владимира. «В лето 6497. Князь великий Владимир помысли создати церковь Пречистыя Богородица и посла ко мастеры к Цареграду. И приведе мастеры от Грек». Затем сообщает о приходе князя Владимира из Киева «в Смоленскую землю», где он «постави град в свое имя Владимир и церковь Пречистую древяну постави». И только после этого идет запись о церкви св. Георгия, но с очень важной поправкой: «Того же лета заложи в Киеве церковь святаго великомученика Георгия, ю же празнуют ноября в 26 день, а соверши князь великий Ярослав» (Холм., 1977, 29). Это говорит о том, что ее составитель знал, что действительным создателем Георгиевского собора в Киеве был не князь Владимир, а его сын Ярослав. Таким образом, Холмогорская летопись соединила киевский вариант Корсунской легенды с поздненовгородским.
Чем объяснить эту тактику компромисса, столь выделяющую Холмогорскую летопись? Очевидно, причину следует искать в личности ее создателя. Как показал Я. С. Лурье, составитель этой летописи, написанной в середине XVI в. в Двинской земле, в Холмогорах или Вологде, не был простым компилятором. Он стремился обдуманно соединять свои источники и даже прибегал к своего рода «научным гипотезам» для согласования разноречий и противоречий в своих источниках. Эта нацеленность на синтез выразилась уже в самом названии рукописи: «Книга летописец Киевский и Володимерский и Московский». В качестве источника начальной части Холмогорской летописи Я. С. Лурье указал Типографскую летопись [Лурье, 1970, 135–137, 146–147]. Однако рассказ Типографской летописи о крещении представляет собой типичный образец «яковлевско-георгиевской» версии: св. Иаков — безымянная церковь в Корсуни на горе — пропуск св. Василия на холме Перуна — св. Георгий в качестве первой каменной церкви в Киеве — соборная деревянная Богородица в Суздальской земле — каменная Десятинная Богородица в Киеве (Тип., 2000, 36–39). В Холмогорской летописи линейка церквей другая. В ней соединен киевский вариант Корсунской легенды из Слова о том, как крестился Владимир, с поздненовгородским, аналогичным Софийской первой (град Владимир в Смоленской, а не Словенской или Суздальской земле). При этом автор (единственный из всех) скорректировал этот вымысел, чтобы согласовать его с исторической реальностью. В качестве корсунской церкви, где крестился князь Владимир, он указал «св. Богородицу». Поскольку источником этой версии является «Слово о том, како крестися Володимер возмя Корсунь», можно предположить, что в числе других холмогорский сводчик использовал и этот текст.
Версии Корсунских церквей
в позднесредневековых русских источниках
Таким образом, XV в. был творческой эпохой в русском, особенно новгородском, летописании. Последующие компиляторы XVI–XVII вв., работавшие на местах, либо сокращали свои источники, либо пытались соединить разноречивые сведения уже существовавших вариантов. В то время как новгородские клирики не стеснялись вносить корпоративный патриотизм в переписываемые ими тексты и ради этого сочиняли не только новые церкви, но и целые города. Примеров не-новгородского творчества значительно меньше. Помимо Владимирского летописца с его двойным Спасом и компилятивной Холмогорской летописи, можно привести Летописный свод 1497 г., где в качестве деревянной церкви во Владимире на Клязьме указана не св. Богородица, а Св. Троица (ЛС 1497, 1963, 18). Чья-то монашеская душа не выдержала и внесла родную обитель на скрижали истории35. Но наибольшую изобретательность в создании «владимировых» церквей проявило новгородское духовенство. Новгородский переписчик Ипатьевского списка, используя Корсунскую легенду, прославил родные ему св. Софию и св. Иоанна Предтечу, а составитель Новгородской IV — св. Иакова и св. Георгия. Создатель Новгородской первой летописи младшего извода в качестве крещальной церкви князя Владимира в Корсуни указал церковь св. Василиска, а его коллега, писавший в 60-е гг. XVI в. Троицкий список младшей НПЛ, — св. Климента (НПЛ, 2000, 545).
Кроме Троицкого списка младшей НПЛ, церковь св. Климента присутствует в списке Летописца, опубликованном М. Н. Тихомировым. Этот Летописец представляет собой отрывок из русской летописи с рассказом о крещении, помещенный в конце сборника исторических повестей второй половины XV в. Он содержит такую же линейку церквей, как и Троицкий список: св. Климента — безымянная в Корсуни на горе — св. Василия на холме Перуна — св. Богородицы в Киеве [Тихомиров, 1962, 171–173]36. Еще один рассказ о крещении князя Владимира с упоминанием церкви св. Климента зафиксирован в летописных выписках в сборнике первой половины XV в.37 Таким образом, появление «климентовского» варианта Корсунской легенды, как и «софийско-предтеченского» и «яковлевско-георгиевского», относится к первой половине XV в. Но где он мог возникнуть?
Св. Климент Римский был популярной фигурой на Руси еще с домонгольского времени. В Десятинной церкви хранилась драгоценная святыня — честная глава Климента папы Римского, обретенная в Херсонесе. Предполагают, что при Десятинной церкви существовал придел св. Климента. Однако в послемонгольское время уровень его почитания на Руси заметно снижается. Храмы в честь св. Климента известны лишь в крупных городах: Новгороде, Пскове и Москве. Исключение составляет Ладога, где церковь в честь св. Климента Римского была заложена еще в 1153 г. новгородским архиепископом Нифонтом [Климент Римский, 2014, 457]. Москва и Ладога в качестве места создания «климентовской» версии отпадают. Москва — потому что церковь св. Климента в Замоскворечье на Ордынке в начале XV в. вряд ли существовала. Первое упоминание о ней относится лишь к 1612 г. Ладога — потому что она никогда не была княжеским центром, а заказ на рукопись мог быть помещен только в достаточно крупной церкви, имевшей соответствующие кадры и возможности. Учитывая, что «климентовский» вариант содержит одна из новгородских летописей, наиболее вероятным местом его создания можно предполагать Новгород38. По крайней мере, Троицкий список НПЛ был создан в Новгороде. На это указывает, прежде всего, язык Троицкого списка, который, по оценке его публикаторов, носит явственно выраженные новгородские черты [НПЛ, 2000, 511]. Во-вторых, в основе этого списка лежат две более ранние новгородские летописи: Комиссионный список младшей НПЛ, дополненный по Новгородской V летописи [Клосс, 2000, VII]. На его происхождение указывает и содержащаяся в нем под 6497 (989) г. традиционная для новгородских летописей запись о приходе в Новгород Акима Корсунянина, и знаменитый рассказ о его расправе с новгородским Перуном. В то время как в отрывке о крещении, опубликованном М. Н. Тихомировым, рассказ о первом новгородском епископе и новгородском Перуне выпущен, что говорит о том, что этот сборник — не новгородского происхождения [Тихомиров, 1962, 171-173]39.
Однако в обеих летописях, послуживших источником для Троицкого списка, в качестве церкви, где крестился князь Владимир, указан храм св. Василиска. Следовательно, составитель Троицкого списка не мог извлечь из них упоминание о церкви св. Климента. Замена принадлежит самому составителю Троицкого списка. Что могло побудить его к такой замене? Ведь к 60-м гг. XVI в., времени создания Троицкого списка, уже имелись в наличии все семь вариантов именования церкви, где якобы крестился Владимир: от св. Богородицы до св. Спаса и св. Климента. Несмотря на столь широкий выбор, он остановился на такой церкви, которая в источниках XV в. фиксируется только в составе исторических сборников с извлечением из летописи неизвестного происхождения. Остается предположить, что к такой замене побуждала принадлежность составителя Троицкого списка к монастырской или церковной корпорации св. Климента.
Была ли такая церковь в Новгороде? Да, была. Центром «климентовской» версии могла быть церковь св. Климента на Иворовой улице (ныне Большая Московская). Согласно Новгородской IV летописи по списку Дубровского, в 1519 г. московский гость Василий Никитич Тараканов возвел новую каменную церковь Климента на Иворове улице, где за два года до этого (в 1517 г.) «падеся» старая каменная церковь в честь того же святого (Н4Л, 540; Н4ЛД, 2004, 216). Точное время ее возведения неизвестно. Новгородская III летопись сообщает, что каменная церковь в честь св. Климента на Торговой стороне была заложена еще в 1153 г. «боголюбивым епископом Нифонтом» (Н3Л, 1841, 214). Однако это сообщение следует отнести к разряду исторических мифов: поздняя летопись XVII в. приписала действительно построенную еп. Нифонтом в 1153 г. каменную церковь св. Климента в Ладоге Новгороду. Трудно допустить строительство двух одинаковых каменных церквей одним и тем же лицом в один и тот же год в двух разных местах. Как бы то ни было, в XVI в., когда создавался Троицкий список младшей НПЛ, каменная церковь св. Климента в Новгороде существовала. Строителем ее был московский купец Василий Тараканов, представитель крупнейшей московской купеческой фамилии, переселившейся в Новгород, на место «выведенных» в Среднюю Русь новгородских бояр и купцов. Василий Тараканов в качестве «купецького старосты» вместе с московскими наместниками великого князя «по государеву слову» вершил судебные дела в Новгороде [Каргер, 1980, 152–153]. Не исключено, что заказ на рукопись мог быть помещен в этой, построенной москвичом, к тому же торговым агентом самого великого московского князя, церкви. Судя по оставленному автографу в виде церкви св. Климента в Корсуни, именно клирик этой церкви в 60-е гг. XVI в. мог быть составителем Троицкого списка младшей НПЛ. Но если для Троицкого списка такая вероятность велика, то первоисточник «климентовской» версии XV в. нельзя считать установленным: первые памятники с этим вариантом Корсунской легенды относятся к первой и второй половине XV в. и содержатся в составе сборников с выписками из летописи неизвестного происхождения.
Остается еще Владимирский летописец середины XVI в., который последовательно называет церковь Спаса и в качестве крещальной корсунской церкви, и в качестве построенной на месте языческого капища в Киеве. Очевидно, что писавший его книжник был озабочен прославлением какой-то Спасской церкви. Название летописи — Владимирская — условно, и возникло по месту хранения рукописи — во владимирском Рождественском монастыре. Место ее составления неизвестно; на основании оригинальных московских известий первой четверти XVI в. исследователи предполагают, что автором ее был столичный житель [Новикова, 2009, IX]. Если это так, то остается предположить в нем монаха московского Андроникова монастыря, главным храмом которого была построенная в первой четверти XV в. церковь Спаса40. Составитель Владимирского летописца проявил наибольший фанатизм в прославлении своей церкви, «заставив» Владимира не только креститься в церкви Св. Спаса, но и построить посвященную Спасу церковь в Киеве.
Устюжская летопись начала XVII в. хотя и отличается уникальным составом перечисленных в церквей (крещальная церковь Спаса соседствует в ней с первой киевской церковью св. Георгия при отсутствии построенной князем Владимиром корсунской церкви и киевской на холме Перуна), но не заключает ничего оригинального. Это сильно сокращенная компиляция имевшихся в распоряжении составителя источников. Церковь Спаса, по-видимому, почерпнута из Владимирского летописца, а «св. Георгий» взят из варианта, близкого к Новгородской IV летописи по списку Дубровского (наличие «Словенской земли»), то есть из московских рукописей41. Запись о строительной деятельности князя Владимира представляет собой путаный пересказ «георгиевской» версии, причем остается непонятным — об одной или двух церквях св. Богородицы хотел сказать автор и какова последовательность в возведении церквей. «В лето 6499-го году. Нача здати церковь каменную святыя Богородицы, а в Сло-венскои земли град постави, наречь Володимер на Клязме, а первую церковь в Киеве постави святаго Еоргия и словены крести, церковь постави святыя пречистыя Богородицы» (УВЛ, 1982, 25). Аналогичное чтение содержится и в Архангелогородском летописце (УВЛ, 1982, 63-64). Составитель хотя и пытался, но так и не смог справиться с противоречиями в своих источниках. Нет оснований предполагать для церкви Спаса Устюжской летописи иной первоисточник, кроме Владимирского летописца, так как летописание и в Ростове, и в Устюге, который входил в состав Ростовской епархии, велось в главных городских храмах. В обоих случаях это были Успенские соборы, то есть церкви Успения Богородицы [Зиборов, 2002, 154].
Еще один случай с церковью Спаса был выявлен М. Н. Тихомировым в сборнике начала XVII в. В нем помещен отрывок из летописи с рассказом о крещении князя Владимира с 6494 по 6505 г. (до рассказа об осаде Белгорода, который в летописях идет сразу после крещения). Согласно этому отрывку, князь Владимир крестился «в церкви святаго Спаса посреди града Корсуня, церковь та на торговище» [Тихомиров, 1962, 92]. К сожалению, других церквей этого летописца публикатор не назвал.
И наконец, единственная летопись, линейка церквей в которой целиком совпадает со «Словом о том, како крестися Володимер возмя Корсунь», — это Радзивилов-ская летопись конца XV в.: св. Богородицы (корсунская крещальная) — св. Василия (киевская на холме Перуна) — св. Богородицы (первая киевская) (Радз., 1989, 51–54)42. В то же время в изложении самой легенды она следует традиции летописей конца XIV — начала XV вв. (Лаврентьевской и Ипатьевской).
Заключение
Какие выводы можно сделать из представленного материала?
Во-первых, данное исследование подтверждает точку зрения тех ученых, которые рассматривали Корсунскую легенду как тенденциозный вымысел, цель которого — приписать заслугу христианизации Руси исключительно князю Владимиру и доказать происхождение русского христианства от Византийской Церкви. И, тем самым, — скрыть первоначальную, не менее чем столетнюю, историю русского христианства IX–X вв. Полный произвол средневекового духовенства в указании церквей, выбор которых зависел прежде всего от корпоративной принадлежности писавшего, ярко демонстрирует тенденциозно-идеологический характер всего рассказа. Из всей номенклатуры церквей безусловно достоверной является лишь Десятинная церковь Богородицы в Киеве, которая присутствует практически во всех вариантах рассказа о крещении князя Владимира, летописных и внелетописных.
Очевидно и расхождение русских «источников» с археологическими и историческими реалиями Херсонеса. В работе харьковского археолога С. Б. Сорочана приведен список культовых памятников Херсона VI–X вв. Автор указывает, что список составлен на основании как письменных (агиографических и эпиграфических), так и археологических источников. В списке указано 49 культовых объектов, из которых более 30 — церкви. Указаны посвящения: св. мч. Луппа-воина, св. Лонгина, св. Фоки Навта, св. вмч. Феодора, св. Богоматери Влахернской, св. Леонтия Киликийского, св. ап. Петра, свв. апп. Петра и Павла, св. мч. Созонта [Сорочан, 2013а, 431–433]. Таким образом, из археологически выявленных храмовых построек средневекового Херсона точно известно посвящение девяти храмов. Под номером 33 списка культовых объектов С. Б. Сорочан называет еще церковь св. Василия на агоре (крестовидный храм № 27). Однако посвящение этого храма установлено им на основании субъективного убеждения в достоверности сообщения Лаврентьевской летописи о крещении князя в церкви св. Василия43. Другие археологи, признающие корсунское крещение Владимира, связывают место крещения князя с иными археологическими объектами44. Расхождения в оценках свидетельствует о субъективности всех допущений. Никакими реальными данными о посвящении херсонских церквей на агоре современные исследователи не располагают. Из числа известных посвящений херсонских церквей ни одна, за исключением загородной церкви св. Богоматери Влахернской, не имеет соответствия в русских источниках.
Что касается агиографической литературы, то в латинском варианте Жития с перенесением мощей св. Климента (Vita cum Translatione Sancti Clementis) в полном согласии со славянским Словом на перенесение мощей преславнаго Климента упоминается загородная церковь св. Созонта (находившаяся в предместье города) и церковь св. Леонтия. Кроме того, упомянут кафедральный собор Херсона: «большая базилика» (major basilica), в славянском варианте — «кафоликия церковь». Хотя посвящение этой церкви ни в латинской, ни в славянской версии не указано, в Житии Константина-Кирилла упомянута «Апостольская церковь» Херсона. На этом основании историки и археологи отождествляют кафедральный собор Херсона с церковью свв. Апостолов (в честь свв. Петра и Павла). В славянском Слове на перенесение мощей в числе участников процессии к мощам св. Климента назван также «поп церкви святого Прокопи-я»45. Таким образом, ни одна из известных по агиографическим памятникам херсонских церквей — св. Созонта, св. Леонтия, св. Прокопия, свв. Апостолов — не находит отражения в номенклатуре церквей Корсунской легенды.
Итак, имеющиеся в наличии письменные и археологические данные по церковной истории Херсонеса не подтверждают достоверности Корсунской легенды русских летописей и расходятся с ней в номенклатуре церквей. В то же время существовавшая в действительности соборная церковь свв. Апостолов — главный городской храм Херсонеса (где должно было проходить бракосочетание, и — согласно легенде — крещение русского князя) ни в одном из вариантов Корсунской легенды не отражена. Названные в летописях конца XIV-XVI вв. корсунские церкви являются продуктом фантазии русского духовенства. Вымыслом является и киевская церковь св. Василия, якобы стоявшая на месте бывшего языческого святилища на холме Перуна. Ранние киевские источники XI–XII вв. называют другую церковь св. Василия, находившуюся в княжеской резиденции в Вышгороде, а также церковь в честь первых киевских мучеников (Турова божница) на месте крещения киевлян. В проложных сказаниях — самых ранних памятниках владимировой агиографии — о церкви на месте языческого капища ничего не говорится. Казалось бы, радикальные расхождения между ранней и поздней исторической традицией, а также «данными» Корсунской легенды и других источников должны навсегда развеять миф о достоверности летописно-житийного рассказа о корсунском крещении русского князя. Несмотря на это, градус доверия к Корсунской легенде в академической среде продолжает расти.
Во-вторых, очевидно, что идеологическим центром распространения Корсунской легенды был не Киев, а Новгород Великий и Москва. Из двадцати трех рассмотренных летописей, содержащих Повесть временных лет с Корсунской легендой, восемь прямо связаны своим происхождением с Новгородом (Ипатьевский список Ипатьевской летописи, Новгородская четвертая, Новгородская Карамзинская, Софийская первая, Комиссионный и Троицкий списки младшей НПЛ, Новгородская пятая, Новгородская по списку Дубровского), а двенадцать имеют в числе своих источников новгородское летописание. Из трех оставшихся летописей две (нижегородская Лаврентьевская и западнорусская Радзивиловская) в номенклатуре церквей ближе всего стоят к «Слову о том, како крестися Володимер», а Радзивиловская в линейке церквей с ним полностью совпадает. Стоящий особняком Владимирский летописец с его Спасскими церквями (созданный, скорее всего, в московском Андрониковом монастыре) испытал влияние не только московских летописей (Симеоновской и Троицкой), но и новгородского летописания [Новикова, 2009, V]. При этом доминирующая в русских летописях новгородско-московского происхождения середины XV–XVII вв. «яковлевско-георгиевская» версия Корсунской легенды о крещении князя Владимира, безусловно, является созданием новгородского клира. Помимо летописей, она широко представлена и во внелетописных источниках. Кроме наиболее распространенного (с XV в.) Обычного жития Владимира в его различных редакциях (Обычное житие, 2014, 221–293), церковь св. Иакова присутствует в Троицкой редакции церковного
Устава князя Владимира и нескольких списках Повести о Николе Заразском46. Это наводит на мысль о существовании влиятельной церковно-монашеской группировки, связанной одновременно и с Юрьевым (Георгиевским) монастырем в Новгороде, и с подмосковным Троицким монастырем, которая и продвигала свой вариант Корсунского крещения князя.
С чем связана столь активная роль новгородского духовенства в продвижении Корсунской легенды? Есть мнение, что культ св. Владимира имеет новгородское происхождение. Возникшая еще в трудах дореволюционных историков Церкви, эта идея до сих пор имеет своих последователей47. По крайней мере, первая документально известная церковь св. Владимира зафиксирована именно в Новгороде: это надвратная церковь на Неревских воротах Софийского Кремля, построенная в 1311 г. новгородским архиепископом Давидом. Таким образом, точку в исследованиях ставить рано. И проблема крещения Руси, и проблема источников и генезиса Корсунской легенды нуждаются в новом изучении, свободном от средневекового и ученого мифотворчества.
Список литературы Церкви корсунской легенды
- Владимирский летописец // ПСРЛ. Т. 30. М.: Рукописные памятники древней Руси, 2009. С. 7-146.
- Вологодско-Пермская летопись // ПСРЛ. Т. 26. М.; Л: Изд. АН СССР, 1959. 413 с.
- Воскресенская летопись // ПСРЛ. Т. 7. М.: Языки русской культуры, 2001. 360 с.
- Ермолинская летопись // ПСРЛ. Т. 23. М.: Языки славянской культуры, 2004. 256 с.
- Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. 2. М.: Языки русской культуры, 1998. 648 с.
- Новгородская Карамзинская летопись // ПСРЛ. Т. 42. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. 225 с.
- Киево-Печерский патерик / Подг. текста, пер. и комм. Л. А. Дмитриева // Памятники литературы Древней Руси. XII в. М., 1980. С. 413-623.
- Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. Т. 1. М.: Языки русской культуры, 1997. 496 с.
- Летописный свод 1497 г. // ПСРЛ. Т. 28. М.; Л.: АН СССР, 1963. 423 с.
- Летописный свод 1518 г. // ПСРЛ. Т. 28. М.; Л.: АН СССР, 1963. 423 с.
- Московский летописный свод конца XV в. // ПСРЛ. Т. 25. М.: Языки славянской культуры, 2004. 488 с.
- Никоновская летопись // ПСРЛ. Т. 9. М.: Языки русской культуры, 2000. 288 с.
- Новгородская первая летопись старшего и младшего извода // ПСРЛ. Т. 3. М.: Языки русской культуры, 2000. 720 с.
- Новгородская третья летопись // ПСРЛ. Т. 3. СПб., 1841. С. 207-279.
- Новгородская четвертая летопись // ПСРЛ. Т. 4. Ч. 1. Изд. 3-е. М.: Языки русской культуры, 2000. 728 с.
- Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского // ПСРЛ. Т. 43. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.
- Новгородская пятая летопись // ПСРЛ. Т. 4. Ч. 2. Пг., 1917. 272 с.
- Обычное житие Владимира (РНБ ОР, Q. I.322) // Шахматов А. А. Жития князя Владимира: текстологическое исследование древнерусских источников XI-XVI вв. / Подг. текста, предисл., вступ. статья Н. И. Милютенко; отв. ред. Д. М. Буланин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. С. 221-230.
- Повесть о Николе Заразском (РГБ, Волоколамск. собр., № 526) // Лихачев Д. С. Повести о Николе Заразском // Труды Отдела древнерусской литературы / Ред. В. П. Адрианова-Перетц. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 7. С. 282-301.
- Проложное сказание о принесении перста св. Иоанна Крестителя из Царяграда в Киев при великом князе Владимире Мономахе // Никольский Н. К. Материалы для истории древнерусской духовной письменности // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 82. № 4. СПб., 1907. С. 56-57.
- Проложное житие Владимира // Шахматов А. А. Жития князя Владимира: текстологическое исследование древнерусских источников XI- XVI вв. / Подг. текста, предисл., вступ. статья Н. И. Милютенко; отв. ред. Д. М. Буланин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. С. 131-170.
- Радзивиловская летопись // ПСРЛ. Т. 38. Л.: Наука, 1989. 177 с.
- Съказание и страсть и похвала святюю мученику Бориса и Глеба // Библиотека литературы Древней Руси. XI-XII века. Т. 1. СПб.: Наука, 1997. С. 328-351.
- Слово о томъ, како крестися Владимиръ, возмя Корсунь // Шахматов А. А. Жития князя Владимира: текстологическое исследование древнерусских источников XI-XVI вв. / Подг. текста, предисл., вступ. статья Н. И. Милютенко; отв. ред. Д. М. Буланин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. Приложение 3. С. 350-361.
- Сокращенные летописные своды конца XV в. // ПСРЛ. Т. 27. М.: Языки славянских культур, 2007. 424 с.
- Софийская Первая летопись старшего извода // ПСРЛ. Т. 6. Вып. 1. М.: Языки русской культуры, 2000. 312 с.
- Тверской сборник // ПСРЛ. Т. 15. М.: Языки русской культуры, 2000. 432 с.
- Типографская летопись // ПСРЛ. Т. 24. М.: Языки русской культуры, 2000. 282 с.
- Устюжские и Вологодские летописи XVI-XVIII вв. // ПСРЛ. Т. 37. Л.: Наука, 1982. 227 с.
- Холмогорская летопись // ПСРЛ. Т. 33. Л.: Наука, 1977. С. 10-147.
- Баталов А. А., Беляев Л. А., Турилов А. А. Андроников в честь Нерукотворного образа Спасителя мужской монастырь // Православная энциклопедия. Т. 2. М.: ЦНЦ "Православная энциклопедия", 2001. С. 424-427.
- Артюхова Т. А., Луховицкий Л. В. Евтропий, Клеоник и Василиск, мученики Амасийские // Православная энциклопедия. Т. 17. М.: ЦНЦ "Право- славная энциклопедия", 2008. С. 356-358.
- Беляев С. А. Где крестился князь Владимир? (Предварительное сообщение) // Памятники культуры. Новые открытия. 1988 год. М.: Наука, 1989. С. 531-540.
- Беляев С. А. "Крести же ся в церкви святого Иакова, и есть церкви та стоаще в Корсуне посреде града, идеже торг деют корсуняне" (методика сопоставления письменных и археологических источников) // Проблемы исторического познания / Отв. ред. К. В. Хвостова. М., 2002. 248 с.
- Бобров А. Г. Новгородские летописи XV века. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. 287 с.
- Булычев А. А. Дионисий Суздальский и его время // Архив русской истории. Вып. 7. М.: Археографический центр, 2002. С. 7-33.
- Вздорнов Г. И. Лобковский пролог и другие памятники письменности и живописи Великого Новгорода // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. М.: Наука, 1972. С. 255-269.
- Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. Ч. 1. Изд. 2-е. М., 1901. 968 с.
- Печников М. В. Давид, архиепископ Новгородский // Православная энциклопедия. Т. 13. М.: ЦНЦ "Православная энциклопедия", 2006. С. 561-562.
- Дмитриев Л. А. Повесть о варяжской божнице // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 2. Л.: Наука, 1989. С. 225-227.
- Зиборов В. К. Русское летописание XI-XVIII веков: Учебное пособие. Хрестоматия. СПб.: СПбГУ, 2002. 512 с.
- Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Изд. 2-е. Сергиев Посад, 1914. 576 с.
- Каргер М. К. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. Т. 2: Памятники киевского зодчества X-XIII вв. М.; Л.: АН СССР, 1961. 661 с.
- Каргер М. К. Новгород. 4-е изд. Л.: Искусство, 1980. 246 с.
- Карпов А. Ю. Владимир Святой. М.: Молодая гвардия, 2015. 454 с.
- Карпов А. Ю. Перенесение перста св. Иоанна Крестителя из Византии на Русь в контексте византийской политики Владимира Мономаха. URL: https://www.portal-slovo.ru/history/35173.php (дата обращения: 03.10. 2020).
- Карпов А. Ю. Русская Церковь X-XIII веков. Биографический словарь. М.: Квадрига, 2017. 472 с.
- Виноградов А. Ю., Турилов А. А. Климент Римский на Руси // Климент, епископ Римский // Православная энциклопедия. Т. 35. М.: ЦНЦ "Православная энциклопедия", 2014. С. 413-462.
- Клосс Б М. Предисловие к изданию 1998 г. // ПСРЛ. Т. 2. М.: Языки русской культуры, 1998. С. E - N.
- Клосс Б. М. Предисловие к изданию 2000 // ПСРЛ. Т. 3. М.: Языки русской культуры, 2000. С. V-ХI.
- Лабутина И. К. Историческая топография Пскова в XIV - XV веках. М.: Наука, 2011. 344 с.
- Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в Х-XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики. М.: Индрик, 2006. 904 с.
- Повесть временных лет / Подгот. текста Д. С. Лихачева; пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. 1-е изд. Часть 2. Приложения. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 556 с.
- Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских прологов XII - первой трети XV веков. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 472 с.
- Лурье Я. С. Холмогорская летопись // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 25. М.; Л., 1970. С. 135-149.
- Лященко А. И. Заметка о сочинениях Феодосия, писателя XII века. Отчет о состоянии училища при реформатской церкви за 1899-1900. СПб., 1900. 36 с.
- Мусин А. Е. Загадки дома Святой Софии: Церковь Великого Новгорода в X-XVI вв. СПб.: Петербургское востоковедение, 2016. 240 с.
- Никольский Н. К. К вопросу об источниках летописного сказания о св. Владимире // Христианское чтение. 1902. Т. 214. Вып. 7. Ч. 1. С. 89-106.
- Никольский Н. К. Материалы для истории древнерусской духовной письменности // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. Т. 82. № 4. СПб., 1907. 168 с.
- Новикова О. Л. Предисловие // ПСРЛ. Т. 43. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 3-7.
- Новикова О. Л. Предисловие к изданию 2009 г. // ПСРЛ. Т. 30. М., 2009. С. V-XX.
- Петров Н. И. Историко-топографические очерки древнего Киева. Киев, 1897. 268 с.
- Прохоров Г. М. Кодикологический анализ Лаврентьевской летописи // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 4. Л., 1972. С. 86-104.
- Рапов О. М. О дате принятия христианства князем Владимиром и киевлянами // Вопросы истории. М., 1984. № 6. С. 34-47.
- Рыбина Е. А. Повесть о новгородском посаднике Добрыне // Археографический ежегодник за 1977 год. М.: Наука, 1978. С. 79 - 85.
- Сазанов А. В. Крещение князя Владимира в Корсуни: текст и археология // Вестник Московского института лингвистики. 2011. № 1. С. 128-149.
- Севастьянова О. В. Новгородская Четвертая летопись как источник по изучению политических взглядов новгородского архиепископа Евфимия II // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2010. № 2 (40). С. 67-73.
- Сербина К. Н. Предисловие // ПСРЛ. Т. 28. М.; Л.: АН СССР, 1963. С. 3-9.
- Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая пол. VI - первая пол. X вв.). Очерки истории и культуры. Ч. 1-2. Харьков, 2005. 1648 с.
- Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI - первая половина X вв.). Очерки истории и культуры. Т. 2. Ч. 2. Харьков; Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013. 672 с.
- Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI - первая половина X вв.). Очерки истории и культуры. Т. 2. Ч. 3. Харьков; Москва: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2013. 472 с.
- Сорочан С. Б., Зубарь В. М., Марченко Л. В. Жизнь и гибель Херсонеса. Севастополь: Библекс, 2006. 832 с.
- Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 1: Восточная агиология. М.: Православная энциклопедия, 1997. 732 с.
- Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Т. 3: Святой Восток. Ч. 2-3. М.: Православная энциклопедия, 1997. 700 с.
- Тихомиров М. Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. М., 1962. 183 с.
- Турилов А. А. Почитание Иоанна Предтечи у южных славян и на Руси // Иоанн Предтеча // Православная энциклопедия. Т. 24. М.: ЦНЦ "Православная энциклопедия", 2010. С. 528-577.
- Турилов А. А., Галко В. И. Сказание о принесении перста Иоанна Крестителя // Письменные памятники истории Древней Руси. СПб.: БЛИЦ, 2003. С. 220-221.
- Флоря Б. Н. К генезису легенды о "дарах Мономаха" // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования - 1987. М., 1989. С. 185-188.
- Хапаев В. В. Византийский Херсон на рубеже тысячелетий (вторая половина Х - первая половина XI века). Симферополь: Н. Орiанда, 2016. 652 с.
- Хапаев В. В. К вопросу о месте крещения князя Владимира в Херсонесе // Материалы Научной конференции [Ломоносовские чтения 2009 года] и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых [Ломоносов-2009] / Под ред. В. А. Трифонова, В. А. Иванова, В. И. Кузищина, Н. Н. Миленко, В. В. Хапаева. Севастополь, 2009. С. 104-106.
- Шахматов А. А. Жития князя Владимира: текстологическое исследование древнерусских источников XI-XVI вв. / Подг. текста, предисл., вступ. статья Н. И. Милютенко; отв. ред. Д. М. Буланин. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. 384 с.
- Шахматов А. А. Корсунская легенда о крещении Владимира // Шахматов А. А. История русского летописания. Т. 1. Кн. 2. СПб.: Наука, 2003. С. 305-379.
- Шахматов А. А. Повесть временных лет. Т. 1. Пг.: Изд. Археографической комиссии, 1916. С. I-LXXX.
- Шахматов А. А. Предисловие к изданию 1908 г. // ПСРЛ. Т. 2. СПб., 1908. С. III-XVI.
- Шестаков С. П. К вопросу о месте крещения св. Владимира // Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Т. 23. Вып. 5. Казань, 1908. С. 319-339.
- Шмидт С. О. Предания о чудесах при постройке новгородской ропаты // Историко-археологический сборник (к 60-летию А. В. Арциховского). М., 1962. С. 319-325.
- Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. / Изд. подг. Я. Н. Щапов. М.: Наука, 1976. 239 с.
- Яцимирский А. И. Феодосий Грек // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 41а. СПб., 1904. С. 911-912.