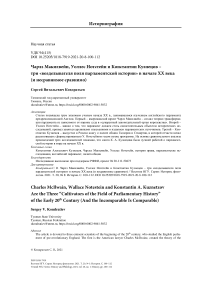Чарлз Макилвейн, Уоллес Нотстейн и Константин Кузнецов – три «возделывателя поля парламентской истории» в начале XX века (и несравнимое сравнимо)
Автор: Сергей Витальевич Кондратьев
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Историография
Статья в выпуске: 8 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена трем знаковым ученым начала XX в., занимавшимся изучением английского парламента предреволюционной Англии. Первый – американский юрист Чарлз Макилвейн – создал теорию трансформации парламента из зависимого от короны суда в «суверенный законодательный орган королевства». Второй – Уоллес Нотстейн – заявил о том, что парламент должен стать самостоятельным объектом исторических исследований, призвал заняться архивными изысканиями и изданием парламентских источников. Третий – Константин Кузнецов – выпустил в России книгу о палате общин Тюдоров и Стюартов, в которой отчасти начал реализовывать сформулированную У. Нотстейном годом позже программу. На основе сравнительного анализа произведений трех исследователей показано, что книга К. А. Кузнецова была лучшей работой о парламентской истории в мире на начало XX в.
Константин Алексеевич Кузнецов, Чарльз Макилвейн, Уоллес Нотстейн, история права, парламентские исследования, английский парламент, палата общин
Короткий адрес: https://sciup.org/147234673
IDR: 147234673 | УДК: 94(415) | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-8-100-112
Текст научной статьи Чарлз Макилвейн, Уоллес Нотстейн и Константин Кузнецов – три «возделывателя поля парламентской истории» в начале XX века (и несравнимое сравнимо)
Acknowledgements
The study was carried out with the support of RFBR, project no. 20-111-50473
Kondratiev S. V. Charles McIlwain, Wallace Notestein and Konstantin A. Kuznetzov Are the Three “Cultivators of the Field of Parliamentary History” of the Early 20th Century (And the Incomparable Is Comparable). Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2021, vol. 20, no. 8: History, pp. 100–112. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-202120-8-100-112
Русская историческая школа на рубеже XIX–XX вв. заметно влияла на мировую историческую науку. Особенно это справедливо в отношении русских франковедов [Чудинов, 2017, с. 13–14] и византинистов [Медведев, 2006, с. 114–137]. Влияние русских ученых на британскую науку ограничивается, пожалуй, только П. Г. Виноградовым [Малинов, 2005] и, возможно, А. Н. Савиным [Винокурова, 2000, c. 144] и И. И. Любименко [Arel, 2019, pp. 3–16, 20] 1. Вместе с тем в начале XX в. в России была издана работа, которая опережала аналогичные зарубежные исследования, но осталась в мире незамеченной. Это книга Константина Алексеевича Кузнецова (1883–1953) «Английская палата общин при Тюдорах и Стюартах» (1915).
История английского парламентаризма в науке конца XIX – начала XX в. была одной из актуальнейших тем. И не только по академическим причинам. Пока европейские страны с конституциями и представительными органами власти переживали политические катаклизмы, а то и революции, как «Весна народов» (1848–1849) или Парижская Коммуна (1871), Британия, не имевшая писаной конституции, демонстрировала удивительную устойчивость, экономические и внешнеполитические успехи. Полномочия ее парламента не были прописаны в каком-то законодательном документе. Его устройство сложилось исторически, а полномочия были запечатлены в каких-то старинных актах и юридических трактатах, многократно реинтерпретированных, т. е. опирались на противную модернизму традицию.
Вероятно, британский опыт, где стабильность только единожды, в середине XVII в., была надломлена революцией, где монархия не исключала парламент, а дополнялась им, особенно привлекал русских либералов, которые видели в нем устойчивость, традиционализм, здравое постепенное реформирование.
Английские либеральные историки XIX в., преимущественно историки права, перечитывая и цитируя древние статуты и правовые трактаты, воспевали английскую конституционную модель, уходящую корнями в донормандские времена, заимствуемую другими народа- ми, центром которой и гарантом свобод был парламент. А сама английская история повсеместно представлялась историей становления этой модели и борьбы за свободы [Дмитриева, 2011, c. 36–37]. Эту концепцию поставил под сомнение основатель критического направления Фредерик Мэтланд, который показал, что парламент долгое время оставался инструментом королевской власти [Там же, с. 37].
Идеи Ф. Мэтланда использовал и развил американский исследователь Чарлз Ховард Макилвейн (1871–1968), опубликовавший в 1910 г. монографию «Высокий суд парламента и его супрематия», где попытался проследить становление представительного органа и определить время, когда законодательство (legislation) отделилось от судопроизводства (adjudication, litigation) [McIlwain, 1910, pp. 4–6, 148, 188, 219, 238].
Начав с истоков, Ч. Макилвейн пришел к выводу, что парламент в Англии появился после нормандского завоевания. Слово «парламент» находилось в правовом и административном обороте задолго до возникновения во второй половине XIII в. самого института и обозначало конференцию, встречу, место встречи, где Королевский совет (Curia, court, consilium), состоящий из феодальных магнатов, в присутствии монарха творил суд, обсуждал проблемы управления и финансов. В документах так и говорилось: «королевский совет в его парламенте» (King’s Council in his Parliament). Король в своем совете был законодателем. Экстраполяция понятия «парламент» на сословно-представительный орган происходит в середине XIII в. Функции (власти) в таком совете еще не были расчленены. Они были «слиты», «едины», «смешаны» (fusion). В XI–XII вв., после судебной реформы Генриха II Плантагенета, выделяются собственно суды – Суд Общих тяжб, Суд Королевской скамьи, Палата Казначейства и др., появляются королевские судьи. Королевский совет стоял выше других судов, сохранял функцию судопроизводства, но исполнял ее заметно реже. Он стал именоваться «королевский суд в его совете его парламента» (King’s Court in his Council in his Parliament), куда для выработки решений помимо баронов призывались судьи [Ibid., pp. 16, 25–38, 119, 122, 174, 175, 182–185, 188, 237–239, 290, 293].
Возникновение парламента в XIII в., по Ч. Макилвейну, было расширением королевского совета за счет представительства рыцарей от графств и горожан, в котором по-прежнему доминировала судебная функция, а он сам долгое время оставался «высоким судом». Деятельность обеих палат парламента всегда ассистировалась судьями королевства. В Средние века право было продуктом судов, а законы не принимались, а «декларировались» судьями как старинные обычаи. Сама идея законотворчества (idea of “making” of law) была чужда средневековому образу мысли. Парламент, наряду с другими судами, разбирая поставленные перед ним властью проблемы или петиции с мест, выносил решения, т. е. производил аналогичные декларации. Законодательство не было изначальным занятием парламента. Возникающие и не определенные нормы права интерпретировались и менялись в дальнейшем. Такими же декларациями были «вольности» (первоначально привилегии, франшизы), пожалованные королем и ставшие затем «главным наследием нации». В XVI в. из таких деклараций с многочисленными отсылками к обычаям, авторитетам и прецедентам вырастет идея «фундаментального», «незыблемого» права, которое выше королевской власти и статутов парламента. Звучащие со второй половины XIII в. заявления о том, что «право выше короля», относились к правовой традиции (общему праву), но не парламентским актам. Последние, как судебные решения, могли даже подвергаться коррекции судьями или объявляться противоречащими общему праву [Ibid., pp. 25–26, 42–49, 51–53, 70–72, 84, 185–187, 197–203, 327].
Отсутствие четкого водораздела между законодательством и судебной деятельностью придавало парламенту ту гибкость и адаптивность, которые позволили затем ему перехватить власть и полномочия у короны. Трансформация парламента из «высокого суда» («юридическое верховенство») в «законодательное собрание» («законодательный суверенитет») затянется до XVI в. и окончательно победит в годы Английской революции. По мере появления новых судебных институтов парламент превращался в стоящий над другими «важнейший» «экстраординарный», «превосходящий» остальные, «исправляющий», т. е. «лечащий»
(supreme court of remedial jurisdiction) и представляющий всё общество суд. Его законодательными актами первоначально были решения по исправлению собственных ранее вынесенных вердиктов и вердиктов других судов. Так он превращался в «законодательный орган» (legislature), в котором росло влияние палаты общин. Но в отличие от королевской власти, издававшей прокламации, и некоторых других советов его акты были достаточно редкими, поскольку монархи собирали парламент после длительных, в несколько лет, перерывов. Следствием редкости и непродолжительности парламентских сессий становилась деградация судебной функции парламента и повышение законодательной в виде принятия статутов и вотирования субсидий. Но только «шок» гражданской войны окончательно превратил парламент в «суверенный законодательный орган королевства», и закончил инверсию института [McIlwain, 1910, pp. 90–94, 109, 117–121, 131–133, 135–137, 145, 146, 156, 170, 191, 204–209, 212, 296, 315–317, 319, 356, 374, 376].
Картина трансформации «высокого суда» и совета в суверенный законодательный орган, нарисованная Ч. Макилвейном, была стройной и логичной. Вот только его концепция, или, скорее, теория, опиралась преимущественно на литературу и небольшое число давно изданных и хорошо известных правовых источников. В работе практически не затрагивалась проблема представительства, выборности и отношений между депутатами и властью. Может быть, именно поэтому, получив известность, книга Ч. Макилвейна не оставила заметного следа в историографии.
Произошедшие в исторической науке сдвиги активно требовали расширения источниковой базы, введения в оборот эмпирического материала и архивных изысканий. Этот запрос уловил знаменитый вигский исследователь, выходец из семьи религиозных диссентеров, Самюэл Гардинер. Сочиняя 18-томную историю Англии первой половины XVII в., стремясь не упустить ни одной детали и ни одного события, историк обратился к архивным материалам, многие из которых он впервые ввел в оборот. Было очевидно, что в своем обширном политическом нарративе, центром которого была Английская революция (гражданская война, по терминологии автора), С. Гардинер затронул разные проблемы, в том числе парламент. Он использовал несколько «поденных записей», или дневников (diary), парламентских клерков и даже издал их [Gardiner, 1862]. Английская революция, по мнению вигско-либерального историка, была борьбой отстаивающего свободы подданных парламента и деспотической королевской власти [Кондратьев, 2010, с. 6].
Подлинная революция в изучении английского представительного института начнется с призыва, сделанного в 1916 г. американскими исследователями Уоллесом Нотстейном (Миннесота) и Роландом Ашером (Вашингтон), более детально исследовать историю островного права, государственных институтов и парламента [Notestein, 1919; Usher, 1919].
О необходимости изучать парламент в этой паре писал, собственно, У. Нотстейн. Воздав должное С. Гардинеру «как величайшему историку гражданской войны», описавшему ее с «позиции либерализма», он заметил, что скрупулезное хронологическое воссоздание событий не приближает ни к пониманию образа жизни и образа мысли людей, ни к пониманию «классовых различий» XVII в. Симпатии вигского историка были, очевидно, на стороне «парламентской партии», участвующей в гражданской войне, но его работы не привнесли какого-то знания о самом парламенте. С. Гардинер, по словам У. Нотстейна, был «пионером», который «вырубил деревья, расчистил кустарник, выкорчевал пни и подготовил землю к вспашке». Но на этом расчищенном поле можно получить результат только за счет его «интенсивного возделывания», т. е. за счет новых тематических направлений [Notestein, 1919, pp. 391–393].
По мнению У. Нотстейна, историю стюартовских парламентов следует рассматривать «в свете предшествующих веков», поскольку иначе невозможно понять устройство (constitution) Англии, относиться критически к широко известным парламентским журналам и речам видных депутатов, но главное расширить источниковую базу за счет введения в оборот ранее неизвестных («открытых после Гардинера») «дневников», других «записей» (notebooks)
клерков и сделать источники доступными исследователям, т. е. кропотливо заниматься изданием парламентских материалов времен правления ранних Стюартов. И далее, У. Нотстейн приводит на трех страницах перечень того, что следует издавать. В заключение он упоминает еще две важные проблемы: изучение самих депутатов (membership), исследование их интересов и «рост организованной оппозиции» в парламентах предреволюционной Англии [Notestein, 1919, pp. 394–399]. Подготовленное к «вспашке» парламентское поле на долгое время станет главным приложением сил для У. Нотстейна, который позднее издаст многотомные дебаты палаты общин за 1621 и 1629 гг. [Tyacke, 2013, pp. 532–533].
С концептуальной точки зрения У. Нотстейн останется в русле вигско-либеральной традиции. В 1924 г. он будет говорить, что в течение всего XVI в. палата общин процедурно укреплялась и всё решительнее претендовала на статус главного законодательного органа. Она превращалась в оппозиционную силу, реализовавшую, в конце концов, свою «победоносную инициативу» и «сковавшую» цепи, обуздавшие королевскую власть [Notestein, 1924].
У. Нотстейн не знал, что в России уже была напечатана книга, автор которой отчасти начал реализовывать изложенную им годом позже программу. Этим автором был К. А. Кузнецов, профессор Новороссийского университета. До того, как попасть в Одессу, К. А. Кузнецов успел закончить юридический факультет Императорского Московского университета (1907). Когда революционной зимой 1905–1906 гг. занятия в Москве прервались, К. А. Кузнецов отправился в Гейдельбергский университет (Германия), где «кончил курс <…> по философскому факультету» и написал под руководством Георга Елинека работу «Применение двухпалатной системы в Северной Америке», посвященную, очевидно, Конгрессу США, за которую получил степень доктора философии 2. В 1907 г. К. А. Кузнецова оставили при Московском университете, в 1908 г. он сдал магистерский экзамен и был отправлен в заграничную командировку в Лондон, где пробыл не менее 2,5 лет, с февраля 1908 по сентябрь 1911 г. 3 В декабре 1911 г. К. А. Кузнецова принимают приват-доцентом по кафедре государственного права в Московский университет 4, откуда он отправляется во Владивосток, где между октябрем 1912 и декабрем 1913 г. работает профессором Восточного института, читая курсы по международному и государственному праву. Здесь он подготовил и опубликовал книгу «Опыты по истории политических учений в Англии (XV–XVII веков)», которую 12 октября 1913 г. защитил в Московском университете как магистерскую диссертацию [Березкин, 2005, с. 151–153].
С начала 1914 г. ученый перебирается в Новороссийский университет, где был принят на кафедру энциклопедии и истории философии права исполняющим должность экстраординарного профессора 5. И здесь, в Одессе, через год он издает книгу о парламенте «Английская палата общин при Тюдорах и Стюартах», которую позднее защитит в Харькове как докторскую диссертацию. Очевидно, что центральными в правоведческой карьере ученого были 2,5 года, проведенные в Лондоне, где он собрал материал и на магистерскую, и на докторскую диссертацию. Особенно много отсылок к архивам было в его докторской диссертации. «Палата общин», писал он в предисловии к книге, была написана «внутри Британского Му- зея и <…> внутри Государственного Архива (Record Office)» [Кузнецов, 1915, c. VII], т. е. во многом на тех самых архивных материалах, которые планировал вводить в оборот и издавать У. Нотстейн. За год до У. Нотстейна К. А. Кузнецов ставил аналогичную задачу. Он констатирует, отдавая должное С. Гардинеру, что «государственные учреждения и политические идеи» Тюдоров и Стюартов изучены «крайне экономно». И пишет: «Я поставил себе целью просмотреть те муниципальные отчеты, дневники и т[ому]. под[обное], которые так или иначе связаны с внутренней жизнью палаты общин. Улов оказался немалым, и я убедился, что есть целый ряд источников, которые настоятельно требуют опубликования». В первую очередь, отмечает он, «следует поставить систематическую обработку и критическое издание парламентских дебатов. Нельзя ограничиваться несколькими сборниками <…> нужно взрыть поглубже и пошире наличные хранилища документов; на основании целого ряда отчетов и дневников попытаться реконструировать день за днем жизнь парламента, чтобы таким путем заполнить отсутствие удовлетворительных «официальных» журналов. Но программа, сформулированная К. А. Кузнецовым, оказалась шире обозначенной спустя год в США. Он указывает на необходимость «издания детального словаря членов парламента». И далее: «Я не вижу, чтобы в науке ясно осознавался подобный пробел, а без его заполнения нельзя дать общей картины тех колебаний, какие претерпевали социальные ингредиенты парламента» [Там же, с. VII–IX]. Отметим, что последняя задача, пусть не идеально, найдет воплощение только спустя почти столетие в 6-томном издании на 6,5 тыс. страницах [History of Parliament…, 2010] 6. Сочиняя книгу о «законах и учреждениях», К. А. Кузнецов не забывал, как сказали бы сегодня, об антропологии – «о людях с их убеждениями» [Кузнецов, 1915, с. XII]. И в этом он тоже опережал время.
Первый отдел книги К. А. Кузнецова посвящен тому же, о чем была книга Ч. Макилвейна. Он так и называется «Высокий суд парламентский». Но в отличие от Ч. Макилвейна, который, как мы видели, полагал, что парламент изначально был судом, а история парламента была движением от судебной функции к законодательной и процессом обретения суверенитета, русский ученный мало писал о законодательной власти парламента и настаивал на том, что параллель между парламентом и судом возникает только в эпоху Тюдоров, а утверждается вообще в конце XVI в. 7 Законодательная же власть и суверенитет, подчеркивает он, принадлежали парламенту и никем не оспаривались, поскольку депутаты представляли всю «землю» (мы бы сегодня сказали «страну». – С. К. ), а король считался членом парламента, его частью. «“Высший” судебный характер парламента и его суверенное положение <…> не выступают в качестве начал, друг друга вытесняющих». Но доктрина суверенности парламента с трудом пробивала себе дорогу в умах самих парламентариев, поскольку над ними нередко довлел дух ограниченного корпоративизма, противоречащий базовым интересам подданных, отсюда злоупотребления депутатов парламентскими привилегиями, зависимость депутатов от отдельных лордов, членов Тайного совета и короля [Там же, с. 6, 7, 9, 164, 165, 209].
Инициатором и главной заинтересованной стороной доктрины о парламентском суде, по мысли К. А. Кузнецова, выступала палата общин. Признание за нижней палатой судебных функций уравнивало ее с палатой лордов и придавало ей относительную «самостоятельность» перед лицом монарха. Признание парламента судом, во-первых, делало его государственным учреждением, а во-вторых, возвышало над другими институтами и судами. Сформулированная «к концу XVI в. доктрина о парламенте и в частности о палате общин как о суде <…> спаивала прочной юридической связью» массу депутатов, вырабатывала корпоративное единство, «противопоставляло внешнему миру в качестве компактного государст- венного органа», утверждала «идею народного представительства» [Кузнецов, 1915, с. 14, 19, 20, 27, 28, 34–36, 50, 55, 62, 63, 86, 165]. В XVI и XVII вв. вес палаты общин растет. В XVI в. он усматривает это в том, что многие советники короны, раньше заседавшие в палате лордов, переместились в нижнюю палату, а XVII в. – в том, что нижняя палата, спокойно при Тюдорах относившаяся к их присутствию, теперь требует удаления королевских поверенных [Там же, c. 166–174, 217]. Судебность нижней палаты историк видит также в становлении ее процедур и делопроизводстве. Именно в XVI в., по аналогии с другими судами, в палате регулярно начинают протоколироваться прения и вестись журналы [Там же, c. 37–40]. Судеб-ность палаты подтверждается автором многочисленными примерами преследования должностных лиц графств и Лондона, отказывающихся выполнять решения и распоряжения общин [Там же, c. 134–152]. Корпоративизм – «целостность» – палаты видна в отстаивании ею своих привилегий, прежде всего свободы слова и свободы от ареста, в борьбе с абсентеизмом и другими уклонениями депутатов [Там же, c. 57–65, 94–105, 110, 111].
Но название книги К. А. Кузнецова, оговорим это, в значительной степени шире, чем ее содержание, что заметил еще Н. И. Палиенко [1916, c. 7], выступающий оппонентом на защите К. А. Кузнецовым докторской диссертации. Она еще очень далека от «реконструкции день за днем жизни парламента». В ней отсутствует описание процедур созыва парламента, открытия сессий, выборов спикера, разбираемых во всех парламентах Тюдоров и Стюартов вопросов, нет характеристик комитетов, принятых законов и вотированных субсидий, нет даже попытки проследить горизонтальные и вертикальные связи депутатов и много другого. Все эти вопросы будут поставлены позже, вызовут шумные споры и найдут своих многочисленных исследователей [Дмитриева, 2011, с. 43–93].
Если первый отдел повествует о росте значимости нижней палаты парламента и самосознания депутатов как представителей «нации», то остальные 2/ 3 книги посвящены избранию депутатов палаты общин от городов и графств. Двести страниц монографии наполнены многочисленными, часто непохожими друг на друга избирательными казусами. Их много, но все-таки недостаточно, чтобы подвергнуться какой-то определенной типологизации. К тому же они очень разные. Автор иронизирует в адрес тех исследователей, в трудах которых история становится красивой теорией – по его словам, «математически-прямолинейной». В подлинной же истории наличествует «пестрота», «скрупулезное учитывание конкретных фактов – порой убийственно мелких, нудно-унылых, но без которых не правомерно никакое, в том числе историческое, обобщение» [Кузнецов, 1915, с. 251, 281]. Второй и третий отделы исследования К. А. Кузнецова можно назвать «микроисторическими», где историк, как писал в своей рецензии А. Н. Савин, «дозволяет себе роскошь обстоятельности», представляет «сочные картины быта», «стремится прорваться в гущу действительности» [Савин, 1916, с. 102], и одновременно, добавим от себя, в отличие от современных нам микроисториков пытается вывести некие генерализации.
Из приводимых многочисленных, «пестрых», а иногда и повторяемых казусов им рисуется следующая картина.
-
1. В палате общин при Тюдорах и Стюартах формируется и крепнет идея свободы депутатского избрания. Идея, как говорит К. А. Кузнецов, «свободных выборов» регулярно поднимается в ходе проверки этих самых выборов и при получении различных жалоб. По мнению автора, раннестюартовская Англия была ближе к реализации этой идеи, чем Англия времен революции, когда политические партии старались любыми способами обеспечить прохождение своим кандидатам и всячески исключить чужих. К. А. Кузнецову удается в жалобах с мест и выборных разбирательствах палаты услышать идею «общего избирательного права» и предложения о реформе избирательной системы. Он говорит о «демократизме» палаты общин, о демократических устремлениях депутатов, которые были выражены даже отчетливее, чем у выступающих какое-то время в годы революции за всеобщее избирательное право левеллеров. Этот «демократизм», оговаривается он, используя при этом слово «идеалистический», депутаты высказывали неосознанно: «подсознательная сила толкала их на-
встречу <…> “народу”» [Кузнецов, 1915, с. 133–149, 192, 195, 212–214, 215, 216, 222, 225, 231–243, 246–255, 286, 287].
-
2. В отличие от Средних веков, когда парламентские выборы больше были делом короны и элиты страны, о чем свидетельствуют факты представительства от нескольких мест одного и того же депутата, при Тюдорах и особенно при Стюартах существенно вырастает вес представительства и депутатского звания. Появляется конкуренция, или, по выражению К. А. Кузнецова, «“раскрепощение” избирателя», «“пробуждение” инертного городского избирателя». Претенденты подчас дают взятки, или покупают необходимые в королевской канцелярии приказы, чтобы были объявлены дополнительные выборы в месте, которое лишилось по каким-то причинам депутата. При ранних Стюартах в ряде городов проходят конкурентные «параллельные выборы» – от организованной олигархии или администраторов и от низов (общин), причем палата, проверяя выборы, сплошь и рядом утверждает оба состава. Города, утратившие по каким-то причинам избирательное право и забывшие о нем, вдруг его вспоминают, проводят изыскания в архивах старых хартий и даже иногда возвращают себе возможность избирать депутатов [Там же, с. 111, 129, 144, 186, 187, 195, 263, 264, 265, 271, 272, 278, 291, 292, 294, 297–302, 308, 309, 311, 315–319].
-
3. К. А. Кузнецов не согласен с представителями критического направления, считавшими парламент послушным инструментом в руках королевской власти. Он приводит примеры отстаивания палатой своих прав, сопротивления палаты общин, отказов выполнять даже королевские директивы, пишет об «оппозиции» короне [Там же, с. 114, 123–126, 267, 268, 239].
-
4. Очевидно, книга К. А. Кузнецова посвящена тем же сюжетам, о которых в 1980-х гг. будут писать Джон Грюнфельдер [Gruenfelder, 1981] и Марк Кишлэнски [Kishlansky, 1986]. Как бы ни хотелось К. А. Кузнецову видеть в риторике парламентариев рост демократизма, но подавляющее число собранных им казусов говорит о пассивности избирателей и предре-шенности избраний или даже о фактических назначениях. Корона, королевские советники, должностные лица, влиятельные люди сплошь и рядом предписывают городам, кого им избирать, либо добывают для городов хартии для избрания своих людей [Кузнецов, 1915, с. 133, 136, 137, 177, 199–201, 218, 261–263, 267–273, 296]. Королевские советники и чиновники – очень часто члены нижней палаты [Там же, с. 162–172]. Патроны городов, они же, как правило, их благотворители, имеют одно из мест, принадлежащее городу, а выборщики просто утверждают номинантов [Там же, с. 230, 231, 236, 237, 263, 264]. Депутатские места удерживаются отдельными семьями и передаются по наследству [Там же, с. 197, 208, 301, 302]. Нередко депутатов избирают только городские советы [Там же, с. 178–181, 193, 230]. Приведены примеры рассылки городами пустых бланков, в которые патроны просто вписывают имена нужных людей [Там же, с. 266]. Повсеместно за городскими мэрами и рекордерами (протоколисты, судьи. – С. К. ) городов закреплялись фактически депутатские звания. Иногда к ним добавляются шерифы графств [Там же, с. 118, 119, 160, 162, 163, 274–278, 283– 289]. Часто депутатами становились «малолетки», имеющие именитых и влиятельных родителей [Там же, с. 208, 240–242, 312, 313]. В книге есть и другие примеры выборных манипуляций. Иначе говоря, приведенные кейсы часто говорят противоположное тому, что писал автор, а именно: в Англии Тюдоров и ранних Стюартов в целом (но при наличии исключений) имели место не выборы, а то, что М. Кишлэнски назвал позднее «парламентской селекцией» (parliamentary selection) [Kishlansky, 1986, p. 12], т. е. отношениями патроната – клиентелы и подтверждением имеющегося личного или группового превосходства и доминирования.
Вероятно, чувствуя шаткость своих построений, К. А. Кузнецов мало пользуется термином «оппозиция», поскольку тогда предстояло обнаружить организованную силу с программой, повсеместно старающуюся провести в парламент своих кандидатов, чего в то время просто не было.
Кроме упомянутых выше, книга К. А. Кузнецова содержит еще несколько ценных наблюдений, также опережающих время. К. А. Кузнецов, во-первых, задолго до основателя Кем- бриджской школы исследователей политической мысли Джона Покока [Pocock, 1957] обратил внимание, что коммонеры, антиквары и юристы мыслят установками общего права, которое ведет начало с «незапамятных времен», «времен, лежащих по ту сторону памяти». Но оно подвергалось интерпретациям и меняло первоначальный смысл [Кузнецов, 1915, c. 184, 185, 194]. «Перед нами, – говорил К. А. Кузнецов во время защиты диссертации, – нация, которая <…> оборачивается без стыда на прошлое и свои новые требования стремится вложить в старые формулы» (Южный край, 1916, 12 окт., л. 4). Во-вторых, он упоминает, что политическое размежевание в тюдоровской и раннестюартовской Англии проходило между «двором и страной» [Кузнецов, 1915б с. 219], о чем позднее будут писать Хью Тревор-Ропер и Перец Загорин [Trevor-Roper, 1951, p. 45; Zagorin, 1969, p. 32].
К. А. Кузнецова отличало еще и то, что он специально отказался от марксизма и уже вошедшей в моду теории классовой борьбы. На его взгляд, политическая борьба, в том числе за более свободные конкурентные выборы, делила людей иначе. Как правило, одну и ту же позицию занимали лучшие и обычные люди графств и городов. По его мнению, размежевание происходило не по социальному признаку. Людей объединяло единство умонастроений, приверженность общим идеям и ценностям.
Видимым недостатком монографии была ее композиционная рыхлость, хаотичность и беспорядочность приводимых казусов, к некоторым из них автор обращался по нескольку раз. В 1913 г. А. Н. Савин отмечал у К. А. Кузнецова трудолюбие, способности, литературную одаренность, умение «двигать исследование вперед» и тем «представлять немалый интерес для англичан». И одновременно он же писал о «возбуждении досады у компетентного читателя», называя кузнецовскую манеру писать «безостовной, беспочвенной, случайной, отрывочной <…> эскизной, капризной и полукритичной» [Савин, 2015, c. 342, 347].
В ходе защиты докторской диссертации К. А. Кузнецова в Императорском Харьковском университете, которая состоялась 9 октября 1916 г. (Южный край, 1916, 6, 12 окт.), оппонент профессор Н. И. Палиенко отметил, что избранная автором тема «сравнительно мало освещена в научной литературе», и высоко оценил привлеченный диссертантом архивный материал. Но, по его мнению, в диссертации явно преувеличен демократизм палаты общин в области избирательного права [Палиенко, 1916, c. 6, 7, 9] (Южный край, 1916, 12 окт., л. 4). Профессор А. Н. Фатеев назвал диссертацию К. А. Кузнецова о парламенте «последним словом науки» (Южный край, 1916, 12 окт., л. 4). Присутствующий при защите известный анти-ковед В. П. Бузескул счел необходимым выступить и подчеркнуть, что К. А. Кузнецов «подошел к теме как историк». «Мы, историки, – заключил он, – должны быть особенно благодарны за то, что К. А. Кузнецов такую тему разработал именно на основании источников, и теперь я выражаю всю радость и всю благодарность за это» (Южный край, 1916, 12 окт., л. 4).
Таким образом, очевидно, что написанная К. А. Кузнецовым диссертация, изданная в 1915 г. в Одессе в виде книги, учитывала все достижения англо-американской историографии и была лучшей для конца 1920-х – 1930-х гг. Сочиняя ее, он оставался в русле вигско-либе-ральной традиции, но значительно превосходил британских и американских историков по охвату исследуемого материала и постановке проблем. Думается, что Октябрьская революция, которая изолировала отечественных историков от мировой науки, а самого К. А. Кузнецова заставила сменить научный и исследовательский профиль, были основными причинами незаслуженного забвения и периферийности проведенного русским историком права исследования.
Получив степень доктора государственного права, К. А. Кузнецов продолжал преподавать в Новороссийском Императорском университете, на Одесских высших женских курсах 8 и в Одесской консерватории, где читал лекции по истории, как писал сам, «преимущественно русской музыки» 9. На юридическом факультете университета он всё больше отдавался фи- лософии права и настаивал на введении специализаций. Свои семинары он посвящал античной Греции и даже публиковал об этом специальные работы 10. После Февральской революции 1917 г. историк принимает активное участие в общественной жизни Одессы. Он пишет и издает проект Конституции России [Кузнецов, 1917]. Сохранилось упоминание о том, что в конце 1917 г. он участвовал в написании Конституции Одессы 11. После Октябрьской революции он сотрудничает с Одесским Народным университетом (1917–1920) [Корнюш, 2015, с. 218]. В 1919 г. историк покидает Одессу и два года проводит у родителей в Новочеркасске 12. В 1921 г. К. А. Кузнецов переезжает в Москву и, навсегда оставив историю права и историю Англии, полностью отдается изучению и преподаванию истории музыки [Тетерина, 2020].
List of Sources
Yuzhnyi krai [South Region], 1916, Oct. 6, 12. (in Russ.)
Список литературы Чарлз Макилвейн, Уоллес Нотстейн и Константин Кузнецов – три «возделывателя поля парламентской истории» в начале XX века (и несравнимое сравнимо)
- Березкин А. В. Историк государства и права Англии К. А. Кузнецов // Проблемы социальной истории и культуры средних веков и раннего Нового времени. СПб., 2005. Вып. 5. С. 147–156.
- Винокуровa М. В. А. Н. Савин // Портреты историков: Время и судьбы. Москва; Иерусалим, 2000. Т. 2. C. 143–154.
- Дмитриева О. В. Парламент и политическая культура в Англии второй половины XVI – начала XVII в.: Дис. … д-ра ист. наук. М., 2011. 1436 с.
- Кондратьев С. В. Английская революция XVII в. М.: Академия, 2010. 192 с.
- Корнюш Г. В. Внесок професора М. М. Ланге в організацію Одеського народного університету (1917–1920) // Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». Харків, 2015. Вип. 50. С. 213–221.
- Кузнецов К. А. Английская палата общин при Тюдорах и Стюартах. Одесса: Тип. «Техник», 1915. XXIV + 320 с.
- Кузнецов К. А. Новая русская конституция. Одесса: Акционер. Юж.-Рус. об-во печатного дела, 1917. Вып. 1: Проект организации высших государственных учреждений. 20 с.
- Малинов А. В. Павел Гаврилович Виноградов: cоциально-историческая и методологическая концепция. СПб.: Нестор, 2005. 216 с.
- Медведев И. П. Петербургское византиноведение. Страницы истории. СПб.: Алетейя, 2006. 334 с.
- Палиенко Н. И. Отзыв о диссертации К. А. Кузнецова «Английская палата общин при Тюдорах и Стюартах» // Зап. Харьков. ун-та. 1916. Кн. 4 [ч. офиц.]. С. 1–10.
- Савин А. Н. Рец. Кузнецов К. А. Английская палата общин при Тюдорах и Стюартах. XXIV + 320. Одесса. 1915 // Исторические известия. 1916. № 1. С. 101–105.
- Савин А. Н. Университетские дела. Дневник 1908–1917. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. 524 с.
- Тетерина Н. И. Историк права и историк музыки: К. А. Кузнецов (1883–1953) // Художественная культура. 2020. № 4. С. 426–457.
- Чудинов А. В. История Французской революции: пути познания. М.: РОССПЭН, 2017. 282 с.
- Arel M. S. English Trade and Adventure to Russia in the Early Modern Era: The Muscovy Company, 1603–1649. Lanham, Lexington Books, 2019, 349 p.
- Gruenfelder J. R. Influence in Early Stuart Election, 1604–1640. Columbus, Ohio State Uni. Press. 1981, 282 p.
- History of Parliament: The House of Commons, 1604–1629. A. Thrush and John P. Ferris (eds.). Cambridge, Cambridge Uni. Press. 2010, vol. 1–6.
- Kishlansky M. A. Parliamentary Selection: Social and Political Choice in Early Modern England. Cambridge, Cambridge Uni. Press, 1986, 258 p.
- McIlwain Ch. High Court of Parliament and its Supremacy. New Haven, Yale Uni. Press, 1910, 409 p.
- Notestein W. Stuart Period: Unsolved Problems. In: Annual Report of the American Historical Association for the year 1916. Washington, 1919, pp. 389–399.
- Notestein W. Winning of the Initiative by House of Commons. Oxford, Oxford Uni. Press, 1924, 53 p.
- Pockok J. G. A. Ancient Constitution and the Feudal Law. A Study of English Historical Thought in 17th Century. Cambridge: Cambridge Uni. Press, 1957, 261 p.
- Sommerville J. House of Commons 1604–1629 by Andrew Thrush, John P. Ferris. English Historical Review, 2012, vol. 127, no. 529, pp. 1519–1524.
- Thompson Ch. Review of The History of Parliament: The House of Commons 1604–1629. Reviews in History, 2011, no. 1129. URL: https://reviews.history.ac.uk/review/1129 (дата обращения 05.03.2021).
- Trevor-Roper H. Gentry, 1540–1640. London, Cambridge Uni. Press, 1953, 55 p.
- Tyacke N. Collective Biography and the Interpretative Challenge of Early-Stuart Parliamentary History. Parliamentary History, 2013, vol. 32, pt. 3, pp. 531–554.
- Usher R. G. Unsolved Legal and Institutional Problems in the Stuart Period. In: Annual Report of the American Historical Association for the year 1916. Washington, 1919, pp. 401–404.
- Wilkes D. E. Habeas Corpus Proceedings in High Court of Parliament in the Reign of James I, 1603–1625. American Journal of Legal History, 2014, vol. 54, no. 2, pp. 200–263.
- Zagorin P. Court and the Country: Beginning of the English Revolution. New York, Atheneum, 1970, 366 p.
- Южный край. 1916. 6, 12 окт.