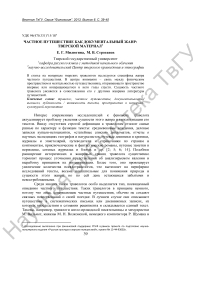Частное путешествие как документальный жанр: тверской материал
Автор: Милюгина Елена Георгиевна, Строганов Михаил Викторович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 6, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье на материале тверских травелогов исследуется специфика жанра частного путешествия. В центре внимания – связь между физическим пространством и ментальностью путешественника, открывающего пространство впервые или возвращающегося в него годы спустя. Сущность частного травелога уясняется в сопоставлении его с другими жанрами литературы путешествий.
Травелог, частное путешествие, документальность / вымысел, публичность / интимность текста, пространство в историко-культурной перспективе
Короткий адрес: https://sciup.org/146121340
IDR: 146121340 | УДК: 94(470.331)"15/18"
Текст научной статьи Частное путешествие как документальный жанр: тверской материал
Интерес современных исследователей к феномену травелога актуализирует проблему уяснения сущности этого жанра и типологизации его текстов. Ввиду отсутствия строгой дефиниции к травелогам относят самые разные по характеру и функции тексты: средневековые ения, деловые
записки купцов-негоциантов, «статейные списки» дипломатов, отчеты о научных экспедициях географов и натуралистов, путевые дневники и хроники, журналы и эпистолярий, путеводители и справочники по странам и континентам, приключенческие и фантастические романы, путевые заметки в периодике, сетевых журналах и блогах и др. [2; 5; 6; 14]. Подобное расширение исторических и жанровых границ травелога существенно тормозит процесс уточнения представлений об анализируемом явлении и выработку принципов их интерпретации. Более того, оно провоцирует увеличение количества псевдотравелогов, что вытесняет на периферию исследований тексты, весьма показательные для понимания природы и сущности этого жанра, но по сей день остающиеся забытыми и невостребованными.
Среди многих типов травелогов особо выделяется тип, посвященный описанию частного путешествия. Таких травелогов в принципе немного, потому что лица, совершающие частные путешествия, обычно не создают связных повествований о своей поездке. В лучшем случае они описывают путешествие в систематических письмах или дневниковых записях, из которых впоследствии в сознании реципиента и складывается единый текст. Таковы, например, травелоги англо-ирландской писательницы и мемуаристки М. Вильмот, княжны М. Н. Волконской, немецкого композитора Р. Шумана и его жены пианистки К. Шуман и некоторых других. М. Н. Волконская, направляющаяся в 1810 г. в Петербург вместе с отцом Н. С. Волконским, описывает свое первое посещение Тверского края [4]. Шуманы, решившие в 1844 г. навестить родственников в сельце Сосновицы, также впервые открывают для себя тверскую провинцию [15].
Основная модальность их путевых эго-текстов – переживание новизны увиденного, удивление узнавания, эмоциональная реакция на радости и горести тверского локального текста. Камерность их заметок выражена и в том, что в них минимально представлены наблюдения пространственновременного и социокультурного характера, зато отмечены детали сугубо личные, интимные: удобная / неудобная коляска, утоление голода в придорожном трактире, путевые хлопоты и невзгоды, трогательная встреча с родными, интимные напутствия и сувениры на память и проч.
Интимность свойственна и путешествию М. Вильмот, посетившей Тверской край трижды (1803, февраль и октябрь 1808); в отличие от Волконской и Шуманов, она описывает и достопримечательности Твери и тверской провинции, но ее оценки носят сугубо личный, вкусовой характер [3]. Следует, впрочем, учитывать, что все названные лица являются либо деятелями искусства, либо людьми, не равнодушными к слову, поэтому их тексты предполагают ту или иную степень публичности. Совершенно иной характер имеют такие травелоги, в основе которых лежит совершенно частное путешествие, не предполагающее никакой публичности.
Среди текстов о Тверском крае, которыми мы сейчас располагаем [12; 13], к этому типу, согласно выработанной нами методологии исследования жанра [7; 8] и форм текстуализации культурного пространства [9; 10], относятся два травелога. Первый принадлежит известному писателю, одному из основателей русской агрономической науки А. Т. Болотову [1]. Он совершил поездку из Московской губернии в Кашин в 1770 г. для участия в разделе наследства своего покойного зятя между его второй женой и дочерьми от первого брака, племянницами Болотова. Свои мемуары Болотов адресовал «для своих потомков», то есть детям и младшим родственникам.

Будучи писателем, Болотов должен был думать, разумеется, и о более широком читателе, но прямой уверенности у нас в этом нет. В этом травелоге, описывающем частное путешествие, мы находим совершенно иную точку зрения на описываемый материал. Прежде всего, это перемещение из Богородска в Кашин трудно даже назвать путешествием, это просто деловая поездка. Болотов, конечно, описывает дорогу, но он слишком сосредоточен на цели своей поездки, чтобы отвлекаться на описание процесса путешествия. Кроме того, взгляд помещика Московской губернии на помещичью и крестьянскую жизнь Тверской губернии не сосредоточен на выискивании экзотизмов и провинциализмов. Даже если Болотов и замечает таковые, он совершенно равнодушно фиксирует их и не использует их для построения объемных концепций и обобщений: «Я нашел тут дом, совсем отменный от дома г. Баклановского, и обхождение совсем другого рода. Вместо того что там было всё более по-деревенски и без дальних затеев и церемониалов, тут, напротив того, всё было по-московски, всё прибористо, щеголевато и хорошо, и все порядки и обхождении совсем инаково, нежели в том угле, где жил г. Баклановский и где всё было смешано еще несколько с стариною» [1, с. 80– 81]. Болотов фиксирует, но не высказывает своих предпочтений: для него сельский дом Баклановского (впрочем, с новомодными садовыми затеями и растениями) и столичные манеры кашинского дома Колычевой равноценны. Как явствует из травелога, Болотов ранее бывал в Кашинском уезде, но это было давно, поэтому все впечатления его от встреченных мест имеют живой, непосредственный характер. Болотов по дороге в Кашин и в самом Кашине постоянно встречает людей, знавших семью его покойной сестры и ожидавших его приезда. В связи с этим Болотов замечает: «Все меня не

знаючи знали, а я никого не знал и не Кашин, Болотов дает краткое описание вдаваться в подробности ему некогда.
ведал» [1, с. 71]. Впервые посетив города, но он не на экскурсии, и
Второй травелог принадлежит чиновнику Департамента путей
сообщения и публичных зданий А. М. Петропавловскому, который совершил путешествие по Тверской губернии в 1852 г. с целью навестить родные мес и побывать на могиле недавно умершей матери. Из самого текста соверш неясно, кому он адресован, между тем четкая структурированност внятность описания свидетельствуют, что он является результатом дос длительной работы. В одном месте Петропавловский замечает, что «пи
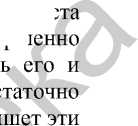
строки спустя уже три года» [11, с. 320]. На самом же д записками продолжалась до 1858 г. Однако эта тщательная о ле работа над работка текста ексте открыто о окружения
не предполагала доведения его упоминаются многие лица Петропавловского, отдельные до печати, поскольк из семьи и дом детали частной
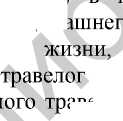
которые не
Петропавловского авелога, поэтому мы
планировались к обнародованию. Таким образом, представляет собой наиболее чистую форму частн будем обращаться в первую очередь к нему.
Петербургский житель Петропавловский родился и до двадцати одного года жил в Тверской губернии. Но с 1834 по 1852 г. он не бывал здесь, поэтому весь текст построен на напряженном сравнении того, что было, и того, что есть сейчас. Подъезжая из Петербурга к Твери, путешественник переезжает Волгу по мосту, который, при всех перестройках, сохранился на том же месте и в наше время: «А вот и мост, переброшенный дивно чрез широкую, быструю, величественную и неукротимую в прежние времена Волгу. На средине этого моста исчезает в настоящее время вся древняя поэзия, возвеличившая и прославившая Волгу в старинных наших песнях. Волга представляется теперь взору путешественника, въехавшего на мост, небольшой речкой» [11, с. 306]. Петропавловский отмечает, что технический прогресс изменяет и историко-культурную перспективу.

Волга, которая ранее казалась неодолимым препятствием для путешественника, с высоты железнодорожного моста кажется на самом деле небольшой рекой, что особенно заметно человеку, приехавшему из Петербурга, где Нева значительно шире. Далее с железной дороги (в районе нынешней платформы Пролетарская) путешественник видит «Желтиков монастырь, заветную святыню Твери. Правее от него стоит тот же темный бор, который некогда служил рекреационным местом для тверских студентов семинарии» [11, с. 306]. «Темный бор», судя по описанию, должен был занимать площадь от современного парка Пролетарка и до кинотеатра «Мир».
Следующий раздел своего путешествия Петропавловский прямо называет «Воспоминания о прежнем виде местоположения», подчеркивая сопоставление прежнего и нынешнего состояния пространства: «Но напрасно мы будем искать ту молодую сосновую рощу, которая красовалась некогда между монастырями, девичьим <Христорождественский женский монастырь> и Желтиковым, осеняя правый берег излучистой р. Тьмаки. Всё исчезло с лица земли: одно лишь воспоминание осталось о живописно извивающихся в роще тропинках, пересекавшихся в нескольких местах пашнями, засеянными хлебом. Теперь негде уже тверским студентам, как бывало прежде, прогуливаться при восхождении солнца и беседовать с Сократом о бессмертии души или с Платоном о высочайшем существе. Замолк и шум водопада, производимого мельничною плотиною, шум, вторимый некогда эхом, отражавшимся от Желтиковского бора при утреннем куковании порхавшей в нем кукушки. Мельницы тут вовсе не существует, а вместо ее воздвигнуто здание для подъема воды и доставления ее отсюда версты за две с половиной на Тверскую станцию железной дороги посредством подземных труб. Шагах в пятистах от Христорождественского девичьего монастыря, где прежде в густоте лесной развесистые кусты приманивали нас темно-вишневыми, спелыми, сочными и лакомыми ягодами гонобобля, или болиголова, пролегает теперь железная дорога, по сторонам которой остались одни только кочки, покрытые тощим и сухим мхом, закопченным дымом, вылетающим густыми облаками из железных труб паровозов. Свистнул свисток – соловей-разбойник настоящего времени – и поезд как вкопанный стал на Тверской станции» [11, с. 307]. Как видим, всё описание строится на противопоставлении тогда и теперь . Впрочем, Петропавловский совершенно лишен стремления строить на этом противопоставлении какие-то концепции: либо воспевать технический прогресс, приводящий к усовершенствованию жизни человека, либо элегически оплакивать былую невинность человека, близкого к природе.

Петропавловский не идеологизирует свой травелог, и в этом его исключительное достоинство. Во время учебы в Твери он восемь раз менял жилье, и семь квартир находились в Затьмачье: «Поэтому Затьмацкая часть и вдоль и поперек протоптана была моими следами. Прошло уже 23 года, как нога моя там не была. Туда стремилось мое желание при выходе из ворот квартиры Алексея Павловича» [11, с. 311]. И чуть ниже: «...мне хотелось повидаться с незабвенными местами моих любимых прогулок, когда я жил в Твери; но места эти, как и люди, в продолжение 23-х лет совершенно изменились» [11, с. 318]. Простодушие рассказчика весьма привлекательно, и читатель с удовольствием следует за ним.
По приезде Петропавловского в родной Кашин сравнительная чуткость усиливается необычайно: «Котловина перед <родным> домом казалась гораздо ниже, а косогор, идущий далее в улицу, гораздо круче, чем он был прежде» [11, с. 355]. Самое большое впечатление производит на автора травелога кашинская церковь Петра и Павла, в которой служил его отец и которая в периоды жизни на чужбине (Тверь, Москва, Петербург) всегда зримо представлялась ему: «Церковь стоит на прежнем месте, но не имеет прежнего вида»; «Большой новой колокол на колокольне звучит громче и сильнее прежнего, но не так звучит, как прежний колокол. Всё изменилось в церкви Петра и Павла, исключая стен и ее фасада» [11, с. 360]. И вслед за этим Петропавловский делает очень важное наблюдение для понимания структуры его травелога: «Удивительное явление в душе человеческой. С этого времени прежний вид церкви редко приходит мне на память, а новый никогда не представляется моему воображению. Затем пресеклось и томительное, на чужой стороне, чувство моей привязанности к этой церкви – чувство, которое не оставляло меня до сего времени ни в Твери, ни в Москве, ни в Петербурге» [11, с. 360]. Приехав встретить былое, родное, любимое, Петропавловский остается разочарован. Изменение впечатлений о Волге, изменение окрестностей Твери и самой Твери Петропавловский фиксирует достаточно равнодушно. Но изменения самого родного и любимого он воспринимает не как изменения, но как измену, как обман.
Путешественник, видящий то или иное явление впервые, удивляется ему. Путешественник, приехавший в ранее хорошо знакомые ему места, переживает радость воспоминания. Он может сокрушаться переменам: «...и отправились в свой сад. Тут истинное было для меня наслаждение: каждый

кусточек осмотрел я, с каждым деревцом поздоровался; но и тут некоторых не нашел; особенно жаль мне было любимую мою яблоньку, на которой родились превосходные вкусом яблоки; за ней я преимущественно ухаживал, удабривая землю, на которой она стояла; давно, сказали мне, она пропала, верно, скучая обо мне, засохла» [11, с. 361]. Он может радоваться неизменности: «Возвращаясь домой, рассматривал я с особенным вниманием деревянный дом, который стоит рядом с домом Серге оновича Косухина.
в в ошем состоянии; он сь духовное приходское 1 сентября 1816 года. Вся ась воображению моему
Замечательный для меня дом находится покрыт и обшит новым тесом. Прежде в училище, в 1 класс которого поступил я первоначальная школьная жизнь моя живою картиною» [11, с. 364]. Но в л предмет (ни в садовых яблонях,
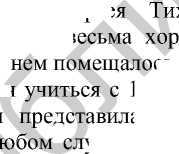
ед учае он ценит не сам по себе
примечательного), а свою п такой путешественник путе прошедшем, и видит всё не ст

ств стом деревянном доме нет ничего или ином предмете. Иначе сказать,
не столько в настоящем, сколько в в нынешнем, актуальном виде, сколько в
былом: былой красоте, Разумеется, с путешествия объекты. и само путешествие предполагало не только посещение мемориальн начимых мест, но и знакомство с новыми местами. Дело в том, что Петропавловский со своим отцом и семьей сестры едут из Твери в Кашин через Калязин, и до Калязина они плывут по Волге. Этот путь никому из нихкне был известен, поскольку все они ранее при поездках из Кашина в Тверь и обратно пользовались сухопутным транспортом, так что это была для них ознакомительная рекреационная поездка. Вполне естественно, что никаких воспоминаний с новыми местами у Петропавловского не было связано, и в этой части его травелог весьма обычен. Особую ценность придает ему не только редкий способ передвижения – на лодке, что было сопряжено с известными опасностями, но и эта специфическая «мемуарная» точка зрения.
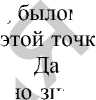
м величии, былом простодушии и т. д.
и зрения описаны не все встреченные во время
Кажется, что даже если бы какой писатель захотел построить на этом свое произведение, он не достиг бы своей цели лучше, чем сделал это непрофессионал Петропавловский.
PRIVATE TRAVEL AS A DOCUMENTARY GENRE:
Tver State University
1The department of Russian language with the methods of elementary education 2research center of Tver’s local history and ethnography

The article investigates specific genre of private travel on the material of the Tver travelogues. Its explores the relationship between physical space and the mentality of traveler, who opens a space for the first time or returns to it after a while. The private travelogue’ essence becomes clear in comparing it with other genres of travel writing. Key words: travelogue, private travel, documentary / fiction, publicity / intimacy of the text, the space in the historical and cultural perspective.

Об авторах:
МИЛЮГИНА Елена Георгиевна – доктор филологических наук,