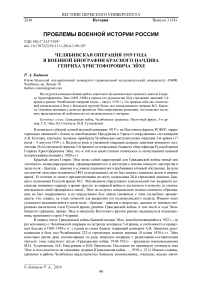Челябинская операция 1919 года в военной биографии красного начдива Генриха Христофоровича Эйхе
Автор: Бадиков Р.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Проблемы военной истории России
Статья в выпуске: 3 (34), 2016 года.
Бесплатный доступ
Исследуется командно-боевая работа известного большевистского военного деятеля Генриха Христофоровича Эйхе (1893-1968) в период его руководства 26-й стрелковой дивизией 5-й армии в рамках Челябинской операции (июль - август 1919 г.). Он проявил себя как талантливый военачальник в боях с Волжской группой белых под командованием генерала В.О. Каппеля. Основное внимание уделяется принятым Эйхе оперативным решениям, что позволяет составить представление об особенностях его полководческого «почерка».
Гражданская война, челябинское сражение, восточный фронт, 5-я армия, г.х. эйхе, в.о. каппель, м.н. тухачевский
Короткий адрес: https://sciup.org/147203753
IDR: 147203753 | УДК: 930.2":355"1919" | DOI: 10.17072/2219-3111-2016-3-99-107
Текст научной статьи Челябинская операция 1919 года в военной биографии красного начдива Генриха Христофоровича Эйхе
В контексте событий летней военной кампании 1919 г. на Восточном фронте РСФСР, территориально связанной с боями за освобождение Предуралья и Урала от вооруженных сил адмирала А.В. Колчака, ключевое значение приобрела Челябинская наступательная операция 5-й армии (17 июля – 4 августа 1919 г.). Ведущую роль в указанной операции сыграли действия воинского коллектива 26-й стрелковой дивизии 5-й армии и ее начальника, бывшего обер-офицера Русской армии Генриха Христофоровича Эйхе, что в той или иной степени отмечалось в отечественной военной историографии начиная с 1920-х гг.
Красный латыш Генрих Эйхе являл собой характерный для Гражданской войны новый тип «полевого» командира-практика, сформировавшегося и постигшего основы военного мастерства в звене полк – бригада – дивизия в условиях перманентного пребывания в боевой обстановке. Будучи достаточно молодым человеком (1893 года рождения), он не был связан с военным делом в мирное время1. В отличие от своего предшественника на посту начальника 26-й стрелковой дивизии, бывшего полковника Русской армии М.С. Матиясевича (представлял классический тип кадрового военспеца, начавшего карьеру в армии задолго до мировой войны и достигшего к моменту ее окончания высшего штаб-офицерского чина)2, Эйхе не получил специального полного военного образования, не был «кадровиком» и по определению был лишен связанных с этим служебных преимуществ, что, однако, не стало помехой для раскрытия его полководческого таланта. Именно опыт успешного вождения войск в звене полк – бригада – дивизия в непростых, далеких от типовых оперативно-тактических схем Русской армии, реалиях Гражданской войны, в том числе в ходе Челябинского сражения, принес Эйхе в масштабе Восточного фронта реноме выдающегося военачальника, признанного героя 5-й армии.
В период после Гражданской войны бывший начдив Эйхе, демобилизовавшийся в 1922 г., не раз вспоминал о Челябинской операции на встречах ветеранов 5-й армии, в особенности в приватных беседах в 1920–1930-е гг. с одним из своих боевых товарищей комкором А.Я. Лапиным, руководившим в боях под Челябинском 232-м стрелковым полком дивизии. В конце 1920-х гг. Эйхе некоторое время даже полемизировал по ряду вопросов операции с редакторами-составителями третьего тома известного труда «Гражданская война. 1918–1921» – крупными военачальниками М.Н. Тухачевским, Н.Е. Какуриным и И.И. Вацетисом. Последние не преминули упомянуть имя Эйхе в этом контексте на страницах издания [Гражданская война… , 1930, с. 211]. Иными словами, сражение в районе Челябинска представлялось бывшему военачальнику, очевидно, весьма значи-
мой вехой собственного боевого прошлого, неизменно актуальным воспоминанием.
Причина внимания Эйхе к событиям Челябинской операции вполне объяснима. Как в советской историографии, так и в новейших исследованиях действиям Эйхе и руководимой им 26-й стрелковой дивизии придавалось значение стержневого фактора, обусловившего крах разработанного белыми замысла челябинских «канн»3. Естественным образом Эйхе на ментальном уровне импонировала высокая оценка его достижений в этот период. Подобное реноме военачальник всячески стремился поддерживать, в том числе посредством авторских военно-исторических работ4. Не случайно его первая известная публикация затрагивает прежде всего проблематику сражения под Челябинском (при этом акцентируется роль 26-й стрелковой дивизии) [ Эйхе , 1928, с. 190–193]. Решающее значение этой операции в контексте заключительного этапа борьбы между силами красных и армией адмирала Колчака он подчеркивал также в своем итоговом историческом труде [ Эйхе , 1966, с. 252–262].
Высокая оценка Эйхе в связи с Челябинской операцией не лишена оснований. Именно его уверенные, инициативные, продуманные боевые решения способствовали ряду поражений и фактическому «выключению» из замысла челябинских «канн» южной ударной группировки белых – Волжской группы (командующий – генерал В.О. Каппель) 3-й армии, долженствовавшей осуществить глубокий охват правого фланга 5-й армии (командующий – М.Н. Тухачевский). Не меньшее значение имело и спланированное Эйхе взятие 4 августа 1919 г. казачьей столицы региона – Троицка, что привело к перехвату тыловых коммуникаций Южной (казачьей) армии белых и, как следствие, к территориальному расколу стратегического фронта адмирала Колчака.
Начиная рассмотрение челябинской вехи военной биографии Эйхе, прежде всего, следует сосредоточить внимание на особенностях его оперативной работы по организации ввода дивизии в бой 17–22 июля 1919 г. Речь идет о ранней фазе Челябинской операции, когда 26-я стрелковая дивизия успешно реализовала задачу взлома и ликвидации мощного укрепленного рубежа упомянутой Волжской группы Каппеля (бывшего I Волжского корпуса). Поскольку в ходе этой частной операции инициатива находилась у красных, исследование указанного комплекса событий позволит составить представление о природе оперативно-тактических решений Эйхе в условиях штурма временных (полевых) фортификационных позиций противника.
Цель ликвидации оборонительного рубежа (две линии) Волжской группы, укрепившейся в районе Миасского завода, станицы Чебаркульской, д. Курамино5 (60–110 км к западу и юго-западу от Челябинска), косвенно вытекала из приказа командующего 5-й армией Тухачевского от 16 июля 1919 г. (РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 137. Л. 46). Первичное решение Эйхе в русле соответствующей директивы нельзя назвать удачным. В стремлении ускорить выполнение задачи начдив отказался от характерных для него тактических действий на флангах противника, требовавших времени для перегруппировки сил и налаживания межбригадного взаимодействия. Положившись на наступательный порыв красноармейцев, он отдал указание овладеть первой линией укреплений Каппеля (Ку-рамино – Миасский завод – с. Непряхино – д. Верхне-Карасинский6) сходу, одним сосредоточенным фронтальным ударом 1-й бригады (командир – С.-Г.С. Терегулов) на Миасский завод. Отказ начдива от вспомогательных обходных маневров, надо полагать, был обусловлен не только временным фактором, но и характером местности. Протянувшийся севернее и южнее завода господствующий Чашковский хребет (500–600 м), по данным историка И.В. Купцова, в тот момент был хорошо укреплен белыми [ Купцов , 2006, с. 202], что, по сути, исключало фланговый охват миасских позиций. Так или иначе, предпринятое Эйхе в спешке 17 июля «шаблонное» наступление в лоб 1-й бригады успеха не имело. Прорвать сходу рубеж волжан, усиленный проволочными заграждениями, ее войскам не удалось. Неудача заставила Эйхе начать поиск иного решения операции и в целом более творчески подойти к ее планированию.
В основу нового оперативного плана военачальник положил многократно проверенную, «классическую» для себя идею ночной комбинированной (одновременно с фронта и фланга) атаки позиций противника. Здесь Эйхе проявил исключительную находчивость. Поскольку фланговый обход укреплений белых крупными войсковыми массами был по указанным причинам затруднителен, он решил задействовать в соответствующем маневре силы только одного малого рейдового отряда, сформированного в этот же день из добровольцев 226-го стрелкового полка (командир – Д.И. Косич). Отряду Эйхе поставил задачу оперативного, в сущности, значения – вывести из строя мощный артиллерийский заслон группы Каппеля, развернутый в тыловой полосе последней, север- нее Миасского завода. По мнению военного теоретика П.А. Санчука, которое мы склонны разделить, «этот маневр блестяще был выполнен…» [Санчук, 1930, с. 73]. Совершив лесными тропами фланговый обход завода, отряд в ночь на 18 июля 1919 г. нанес внезапный удар с тыла по позициям артиллерии волжан, в результате чего было захвачено 9 орудий, взято в плен более 200 артиллерийских специалистов (РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 170. Л. 150–151; Д. 316. Л. 102). Организованный Эйхе и Косичем маневр имел для Волжской группы серьезные негативные последствия. Историк Н.Ю. Бринюк, в частности, отмечала, что белые понесли «…невосполнимые людские потери: был захвачен личный состав Самарских конных батарей Каппеля, воевавший … с самого начала борьбы на берегах Волги в 1918 г.» [Бринюк, 2014]. Успешные фланговые действия рейдового отряда в сочетании с начатым одновременно Эйхе фронтальным наступлением 1-й бригады 26-й стрелковой дивизии на миасские позиции противника привели к общему отступлению Волжской группы Кап-пеля на второй, последний, укрепленный рубеж (станица Кундравинская7 – Чебаркульская – д. Верхне-Карасинский) уже к рассвету 18 июля.
Очевидная дезорганизация сил Волжской группы обусловливала необходимость развить успех вверенной Эйхе дивизии в оперативную глубину с целью нанесения решительного поражения группировке левого крыла 3-й армии белых. По мысли военачальника, обеспечить достижение этого оперативного результата должна была ликвидация упомянутой второй линии полевых фортификационных укреплений волжан.
Организованная Эйхе соответствующая наступательная операция (19–22 июля 1919 г.) представляет интерес в контексте нашего исследования, главным образом как пример разумного, хотя и не бесспорного, решения пойти на двусторонний охват укрепившейся группировки противника в дивизионном масштабе и его успешной реализации. Судя по имеющимся в нашем распоряжении источникам, ни до, ни после июля 1919 г. в карьере Эйхе как начальника дивизии более не имел места опыт единовременного ввода в сражение столь крупных войсковых масс8, причем посредством широких фланговых маневров, масштабных по размаху и общей глубине прорыва (до 17– 20 км). В силу указанных причин разработанный Эйхе тактический взлом второй оборонительной линии Волжской группы правильно рассматривать в качестве одной из важных составляющих его военно-теоретического наследия.
По замыслу операции следовало создать две смешанные ударные группировки для глубокого охвата соответственно правого и левого флангов группы Каппеля: северной (233-й стрелковый полк) и южной (227-й, 228-й, 229-й, 230-й, 231-й стрелковые полки). Подобное решение вытекало из трезвой оценки Эйхе естественных характеристик укрепленной позиции белых и расстановки их главных сил. Опираясь на линию девяти крупных озер (от оз. Кундравинское до оз. Малое Миассо-во) и за счет этого сократив протяженность фронта Волжской группы, Каппель развернул основные очаги сопротивления в чрезвычайно узких межозерных перешейках к западу и северо-западу от станицы Чебаркульской (центр группы). На этом же участке был сосредоточен наиболее сильный блокирующий заслон волжан с 2 бронепоездами и 22 орудиями, прикрывавший железнодорожную линию Златоуст – Челябинск [ Лучевников , 1958, с. 168]. В данных условиях, когда бесперспективность фронтальной атаки была очевидной, решение совершить двусторонний фланговый маневр следует признать совершенно правильным. Благодаря этому, как справедливо отмечал позже Эйхе, «мы не только овладеваем без боя укрепленной и сильной … позицией, но вынуждаем противника принять бой в том районе, где у него нет никаких преимуществ» [ Эйхе , 1931, с. 109].
Не вдаваясь в детали операции, что выходит за пределы исследования, отметим: фактическим результатом инициированного Эйхе концентрического наступления ударных групп 26й стрелковой дивизии 19–22 июля 1919 г. через станицу Кундравинскую и д. Сарафаново в район д. Мельников, д. Малков9 (южная группа) и через Верхне-Карасинский и Непряхино на д. Баранов-ский10 (северная группа) явилась окончательная ликвидация укрепленного рубежа волжан на левом крыле 3-й армии белых. Сброшенные с него силы Волжской группы Каппеля покинули пределы Троицкого уезда и начали стремительный отход к Челябинску. Иными словами, в территориальном отношении операция Эйхе обернулась безусловным успехом (подробнее см. [ Эйхе , 1931, с. 108–109]).
Тем не менее именно взлом второй оборонительной линии Каппеля западнее Челябинска мы склонны оценивать не иначе, как сражение «потерянных возможностей». Совершенно очевидно, что общая тактическая схема Эйхе при внесении в нее некоторых корректировок позволяла достиг- нуть цели стратегического масштаба – уничтожения основных сил Волжской группы путем их блокирования в «мешке» в районе станицы Чебаркульская, д. Барановский. Предпосылкой этого явилось занятие Барановского «южанами» к утру 22 июля, вследствие чего силам Каппеля был отрезан путь к отступлению на Челябинск. В этом смысле только изначальная (заложенная планом Эйхе) малочисленность южной ударной группы (500 штыков при 14 пулеметах) 26-й стрелковой дивизии позволила волжанам избежать практически неминуемого тактического окружения. Прорываясь на восток, крупные войсковые массы 1-й Самарской и 3-й Симбирской стрелковых дивизий Волжской группы без особых усилий выбили «южан» из Барановского, обеспечив себе коридор для отхода вдоль железнодорожной магистрали Златоуст – Челябинск. Крайне непропорциональное распределение сил и средств во фланговых ударных группировках явилось, таким образом, ключевой ошибкой начдива Эйхе в данной операции. В вину военачальнику следует также поставить излишне академичный подход к боевому применению вверенных ему конных подразделений и частей. По большому счету в оперативном решении он отводил им пассивную роль. 2-й Петроградский кавалерийский полк в 130 сабель был сосредоточен напротив чебаркульских позиций исключительно с целью фронтального сковывания белых. Приданная Эйхе усиленная кавалерийская бригада И.Д. Каширина также выполняла (за исключением боя у Кундравинской 19–20 июля) вспомогательную функцию – обеспечение правого фланга боевых порядков дивизии11. Иными словами, формат использования Эйхе имеющихся в его распоряжении маневренных сил легкой кавалерии мы вынуждены признать принципиально ошибочным. Последней было бы разумнее придать качество ударного «тарана» в контексте тактических действий, направленных на охват укрепленных позиций Волжской группы.
Справедливости ради подчеркнем, что операцию 26-й стрелковой дивизии 19–22 июля 1919 г. все же нельзя характеризовать как проходившую в отсутствии высокоманевренных сил и средств. Так, северная группа по решению Эйхе была усилена отрядом бронеавтомобилей, который, как удалось установить, весьма эффективно способствовал продвижению правого фланга дивизии (ГА РФ. Ф. Р-5881. Оп. 1. Д. 416. Л. 101–103). Однако действия отряда не могли обеспечить той блестящей перспективы, которая открывалась перед Эйхе в случае ввода им в глубокий прорыв на флангах волжан крупных масс кавалерии. Несостоявшиеся, таким образом, чебаркульские «канны» в сочетании с относительно благополучным уходом Волжской группы на восток создали предпосылки перехода 3-й армии белых в контрнаступление и осуществления противником ответного замысла – двустороннего окружения под Челябинском 5-й армии красных (челябинские «канны»).
Сложно предположить, как развивалась бы стратегическая обстановка на челябинском направлении, если бы начдиву Эйхе удалось завершить тактическое окружение сил волжан под станицей Чебаркульской 19–22 июля. Однако генерал Каппель, проигрывая сражение на исключительно выгодных укрепленных позициях, все же обрел ресурсы для стабилизации состояния войск и вышел из намечающегося «котла». Успех отхода Волжской группы с миасско-чебаркульских позиций в этом смысле приобретал особенно большое значение, поскольку позволял белым развернуть на ее основе южную ударную группировку 3-й армии, призванную осуществить фланговый охват армии Тухачевского (функция левого крыла челябинских «канн»). С этой целью группе Кап-пеля, закрепившейся к 24 июля южнее Челябинска (оз. Смолино – пос. Шумаковский – станица Еманжелинская12 – оз. Большой Сарыкуль), решением командующего 3-й армией белых генерала Сахарова была придана 12-я Уральская стрелковая дивизия на правах ударной. Усиленной Волжской группе в соответствии с замыслом «канн» предписывалось путем разгрома 26-й стрелковой дивизии Эйхе реализовать глубокий охват правого крыла 5-й армии и замкнуть в ее тыловой полосе кольцо окружения совместно с наступавшей севернее Челябинска основной ударной группировкой генерала С.Н. Войцеховского (Уфимская группа 3-й армии) [ Сахаров , 1923, с. 116].
Этот масштабный план, как известно, потерпел неудачу. Одну из основных причин подобного исхода операции следует искать в результатах очного противостояния Эйхе и Каппеля 25– 29 июля 1919 г. в районе к югу от Челябинска (заключительный этап Челябинской операции). В этот временной промежуток, как справедливо подчеркивал историк Спирин, «наступательные действия … Каппеля были парализованы героическими усилиями 26-й дивизии. Поставленной задачи корпус (Волжская группа. – Р.Б. ) не выполнил» [ Спирин , 1957, с. 215–216]. Как показало исследование, соответствующий оперативно-тактический результат был во многом «рукотворным», явившись следствием умелого управления со стороны Эйхе, начальника 26-й стрелковой дивизии.
Уже на склоне лет, в 1960-е гг., военачальник, вспоминая о Челябинском сражении, остроумно заметил, что «Каппель … мой старый "знакомый". <…> Теперь – в конце июля 1919 г. – мы с ним снова оказались лицом к лицу» (ОПИ ГИМ. Ф. 602. Ед. хр. № 66. Л. 178 об.–179). Тактическое мероприятие, заложившее, по сути, основу будущего поражения группы Каппеля, Эйхе разрабатывал за считаные часы до начала ее наступления в рамках плана челябинских «канн». Опираясь на данные разведки, начдив своевременно вскрыл факт перегруппировки ударной 12-й Уральской стрелковой дивизии белых в районе пос. Шумаковский, пос. Тимофеевский13. Без мер маскировки ее силы в ночь с 24 на 25 июля выдвигались форсированным походным порядком на исходный рубеж атаки. Столь грубое пренебрежение фактором внезапности не осталось без внимания Эйхе. Он воспользовался ошибкой противника и инициировал развитие сосредоточенного упреждающего удара по скученным маршевым колоннам уральцев на рассвете 25 июля [ Тарасов , 1975, с. 85–86]. Последовавшая за этим полная утрата боеспособности 12-й Уральской дивизией, часть личного состава которой перешла при этом на сторону красных, заставила Каппеля отказаться от запланированного на 25 июля общего наступления Волжской группы [ Санчук , 1930, с. 75–76]14 и поставить перед командующим 3-й армией вопрос о дополнительном выделении ему из армейского резерва 13-й Казанской стрелковой дивизии. Исходя из этого, операцию по двустороннему охвату и окружению 5-й армии генерал Сахаров вынужден был начать силами только одной северной ударной группировки Войцеховского вне поддержки южной группировки Каппеля, чье наступление начдиву Эйхе удалось сорвать.
Отметим, что после подхода из резерва армии 13-й Казанской дивизии Волжская группа приобрела явный перевес15 над силами Эйхе и с двухдневным запозданием (27 июля) все же предприняла попытку нанести поражение численно уступавшей 26-й стрелковой дивизии. Однако благодаря оперативному переходу начдива от наступательного формата действий к тактике подвижной, маневренной обороны атакующий потенциал волжан на всем протяжении дивизионной оборонительной полосы был нивелирован. Первостепенной задачей для Эйхе в этом плане явилось активное сковывание частей Каппеля. Позднее военачальник дал развернутое описание особенностей выполнения указанной задачи: «Противостоять … превосходящим силам 26 дивизия … могла, действуя активно … наступая и сковывая этим силы белых. <…> Это и определило характер наших действий. Переходя с утра в наступление, мы занимали ряд ближайших деревень. К вечеру же мы должны были отходить из-за недостатка патронов. К утру, пополнившись патронами … опять овладевали теми деревнями, которые накануне были оставлены, но только для того, чтобы к вечеру опять оказаться в … исходном положении» (ГАНО. Ф. П-5. Оп. 2. Д. 1387. Л. 24]. В краткой форме суть подобной тактики выразил 31 июля 1919 г. начальник штаба 5-й армии Я.К. Ивасиов в разговоре по прямому проводу с В.Е. Гарфом, начальником оперативного отдела штаба Восточного фронта: «…с юго-востока от города (Челябинска. – Р.Б. ) 26-я дивизия то атакует, то отбивает атаки противника» (РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 170. Л. 150–151). Это был, по воспоминаниям Эйхе, «…единственный способ сковывать превосходящие силы противника и обеспечить фланги и тыл 27-й и 35-й дивизий, ведущих ожесточенные бои северо-западнее и севернее Челябинска» (ОПИ ГИМ. Ф. 602. Ед. хр. № 66. Л. 179). Тем не менее даже в таком относительно «щадящем» режиме противостояния безвозвратные и санитарные потери дивизии Эйхе за 27–28 июля достигли 525 человек, тогда как за всю предшествовавшую неделю (20–26 июля) убыль воинского контингента ограничилась показателем в 211 человек [ Эйхе , 1931, с. 94–95].
В боях на ближних подступах к Челябинску 25–29 июля четко проявилось такое важное качество военачальника Эйхе, как способность к бескорыстной помощи соседу, в данном случае – 27-й стрелковой дивизии, принявшей на себя основной удар северной группировки Войцеховского. В разгар боев, 28 июля, Эйхе безусловно выполнял приказ Тухачевского о передаче в распоряжение начальника 27-й дивизии А.В. Павлова 233-го стрелкового полка и артиллерийской батареи (РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 137. Л. 73), хотя этим ослаблялся левый фланг 26-й стрелковой дивизии. Более того, один из опубликованных оперативных документов 27-й дивизии показывает, что уже к 22 июля в составе ее 3-й бригады действовала еще одна переданная Эйхе батарея – 8-я легкая [Гражданская война… , 1962, с. 335]. В этой связи участник Челябинского сражения, ветеран 27-й дивизии Н.В. Краснопольский вспоминал: «На помощь нам подошла легкая батарея 26-й дивизии. <…> Более того … Г.Х. Эйхе по собственной инициативе поддержал нас, перебросив в Челябинск 3-ю бригаду (часть ее сил. – Р.Б.). Особенно большую помощь нам оказал 233-й … полк, совершивший со- крушительную атаку восточнее пос. Першино» [Краснопольский, 1959, с. 20]. Значение оказанной Эйхе поддержки подтверждается донесением начдива Павлова в РВС 5-й армии от 1 августа 1919 г. «С подходом левофланговых частей 26-й дивизии к нам на помощь, – подчеркивал Павлов, – … дивизия перешла по всему участку фронта в решительное наступление, сбивая противника на северо-восток…» (цит. по [Гражданская война… , 1962, с. 348–349]). Успех взаимодействия 27-й и войск левого крыла 26-й дивизий явился следствием выработки Эйхе и Павловым плана совместных действий на совещании в Челябинске вечером 26 июля [Купцов, 2002, с. 260].
Между тем с началом активных действий в интересах Павлова Эйхе оказывался в непростой ситуации. В силу постановки Тухачевским 25 июля дополнительной задачи овладения Троицком (на 110 км южнее Челябинска), базой Южной (казачьей) армии, начальник 26-й дивизии вынужден был действовать одновременно в двух территориальных направлениях. Несмотря на очевидные риски подобной оперативной конфигурации, Эйхе уверенно выполнил как эту задачу, так и остававшуюся неизменной ключевую миссию сковывания левого крыла челябинских «канн» (группы Каппеля). Путем сложной перегруппировки под давлением волжан 1-я и 3-я бригады дивизии к концу 27 июля были выдвинуты по его решению на выгодную оборонительную полосу в 25–30 км (пос. Коркинский – пос. Сухомесовский)16. Благодаря этому на главном операционном направлении дивизии (в полосе наступления резервной 13-й Казанской дивизии белых) удалось создать исключительно высокую оперативную и огневую плотность. В то же время оборону центрального и правофлангового участков, а также функцию вспомогательного удара на Троицк (взят 4 августа17) начдив Эйхе обеспечивал за счет образованного маневренного соединения – кавалерийской груп-пы18 во главе со слушателем Академии Генерального штаба РККА В.Д. Соколовским, которому была подчинена вся дивизионная конница. Поступив таким образом, Эйхе, очевидно, сделал выводы из собственного неудачного опыта использования легкой кавалерии на начальном этапе Челябинской операции.
В результате рассмотренных оперативных решений красного начдива Эйхе наступательная инициатива на фронте вверенной ему 26-й стрелковой дивизии к первым числам августа 1919 г. всецело переходит к красным. Разбитая Волжская группа генерала Каппеля, не реализовав задачи флангового охвата 5-й армии и утратив в противостоянии с силами Эйхе значительную часть боевого состава, была поставлена перед необходимостью поспешного отступления на северо-восток. Ее участие в Челябинской операции завершилось тяжелым поражением, глубину которого мы имеем возможность реконструировать на основании «трофейных» сводок штаба 5-й армии. Проведенные нами на их основании подсчеты показали, что с 18 июля по 8 августа 1919 г. дивизией Эйхе было взято в плен 5.592 военнослужащих, а также 370 дезертиров (РГВА. Ф. 185. Оп. 3. Д. 334. Л. 81, 84). Тем не менее наиболее важный итог военно-управленческой работы Эйхе во второй половине июля 1919 г. выразился не столько в разгроме Волжской группы его «старого знакомого» Каппеля, обретении пленных, сколько в срыве плана генерального сражения белых у Челябинска и первоначально диктуемого противником замысла стратегического двустороннего окружения 5-й армии.
Челябинская операция явилась одной из наиболее неоднозначных страниц военной биографии Эйхе. Его объективный вклад в победу красных под Челябинском бесспорен, но более детальное рассмотрение боевых решений военспеца и реализованных им оперативных идей позволить нам выделить ряд эпизодов, граничащих с откровенной нецелесообразностью. В первую очередь необходимо упомянуть ряд ошибочных действий начдива на начальной стадии операции: неподготовленное фронтальное наступление 1-й бригады на миасские позиции; пассивное применение внушительных масс легкой кавалерии; непропорциональное распределение сил во фланговых ударных группировках при наступлении в районе Чебаркульской. Тем не менее, из этих неудачных решений, за исключением последнего, Эйхе удалось в известной мере извлечь уроки и в дальнейшем нивелировать их (соответствующими контрмерами), частично либо полностью исправить. Иными словами, способность к быстрой переоценке текущей обстановки и отказу от явно нецелесообразных мер явилась основным эмпирическим капиталом, который военачальнику Эйхе удалось извлечь из опыта управления 26-й стрелковой дивизией в ходе Челябинской операции.
Список литературы Челябинская операция 1919 года в военной биографии красного начдива Генриха Христофоровича Эйхе
- Боевое расписание по данным к 1-му августа 1919 г. М., 1919. 70 с
- Бринюк Н.Ю. Июль 1919 года в жизни генерала Каппеля//RUSK.RU. 2014. URL: http://rusk.ru/st.php?idar=67015.htm (дата обращения: 11.05.2016)
- Варгин Н.Ф. Из истории борьбы с Колчаком//Вестник Ленинградского университета. Сер.: История, язык, литература. 1960. Вып. 4. № 20. С. 40-53
- Гражданская война. 1918-1921. Т. 3: Оперативно-стратегический очерк боевых действий Красной Армии. М.; Л., 1930. 560 с
- Гражданская война на Южном Урале. 1918-1919: сб. док. и матер. Челябинск, 1962. 440 с
- Краснопольский Н. В боях за освобождение Челябинска: Из воспоминаний батарейца. Челябинск, 1959. 22 с
- Купцов И.В. Челябинск. Июль - август 1919 г. // Челябинск неизвестный: краевед. сб. Челябинск, 2002. Вып. 3. С. 241-273
- Купцов И.В. Челябинская операция//Челябинская область: энциклопедия. Челябинск, 2006. Т. 7. С. 201-206
- Лучевников П.С. Гражданская война на Южном Урале (1918-1919 гг.). Челябинск, 1958. 194 с
- Петров П.П. Роковые годы. 1914-1920. Калифорния, 1965. 271 с
- Санчук П. Челябинская операция летом 1919 г. // Война и революция. 1930. № 11. С. 63-83
- Сахаров К.В. Белая Сибирь (Внутренняя война 1918-1920 гг.). Мюнхен, 1923. 324 с
- Спирин Л.М. Разгром армии Колчака. М., 1957. 296 с.
- Тимошков С. Разгром южной армии Колчака (август - сентябрь 1919 г.) // Военно-исторический журнал. 1940. № 3. С. 33-56
- Челябинская область. 1917-1945 гг.: сб. док. и матер. Челябинск, 1998. 302 с
- Эйхе Г.Х. 5-я армия в борьбе за Западную Сибирь//Гражданская война. 1918-1921. Т. 1: Боевая жизнь Красной Армии. М.; Л., 1928. С. 190-193
- Эйхе Г. Тактические поучения Гражданской войны: исследование тактики Красной Армии в борьбе против Колчака и на Дальнем Востоке. М., 1931. 189 с
- Эйхе Г.Х. Опрокинутый тыл. М., 1966. 384 с
- Тарасов Е.П. Краском Генрих Эйхе. М., 1975. 151 с