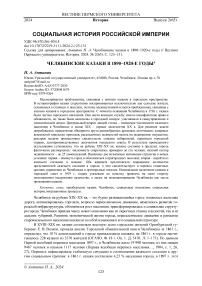Челябинские казаки в 1890-1920-е годы
Автор: Антипин Н.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Социальная история Российской империи
Статья в выпуске: 2 (65), 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблематика, связанная с жизнью казаков в городском пространстве. В историографии казаки стереотипно воспринимаются исключительно как сельские жители, селившиеся в станицах и поселках, поэтому малоизученной остается проблематика, связанная с жизнью казаков в городском пространстве. С момента основания Челябинска в 1736 г. казаки были частью городского населения. Они несли военную службу, имели специфические права и обязанности, но также были включены в городской социум: участвовали в самоуправлении и экономической жизни. Центральный вопрос данной статьи - изменение численности казачьего населения в Челябинске в конце XIX - первые десятилетия XX в. Для решения задачи потребовалось привлечение обширного круга разнообразных архивных источников: клировых ведомостей городских приходов, раскладочных ведомостей налога на недвижимое имущество, реестров выдачи промысловых свидетельств, списков избирателей, переписки городской управы, делопроизводственных документов городского совета. В результате проведенного исследования установлено, что на рубеже XIX-XX вв. казачье сословие в пределах города фактически растворилось: численность сократилась примерно до ста человек, казачий сектор недвижимости - до 25 домовладений. Выявлены две возможные жизненные стратегии в новых условиях: первая - покинуть город и обосноваться в пригородных поселках; вторая - перейти из казачьего сословия в мещане. Оба варианта предполагали сокращение количества представителей казачьего сословия в городе, о чем свидетельствует и перевод станичных органов управления из Челябинска в пригородные поселки. Номинальное включение казаков в городской совет в 1919 г. скорее указывало на попытку привлечь на свою сторону оппозиционно настроенное казачество, а также на позиционирование Челябинска как места проживания казаков.
Оренбургские казаки, челябинск, социальные изменения, социальная история, миграционные процессы
Короткий адрес: https://sciup.org/147245320
IDR: 147245320 | УДК: 94(470.56)-054.5 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-2-123-131
Текст научной статьи Челябинские казаки в 1890-1920-е годы
Челябинск на рубеже XIX–XX вв. ‒ это бурно развивающийся город: появилась железная дорога, активизировалась торговля, возросло переселенческое движение, наметилось развитие городской инфраструктуры, обозначился рост населения, трансформировалась и социальная структура города. Челябинск привлек массу нового населения как из окрестных станиц и волостей, так и из дальних губерний. Развитие экономической жизни города, переселенческое движение и размытие старожильческого населения повлекли за собой изменения в его социальной структуре.
В XVIII–XIX вв. казаки составляли весомую долю городских жителей Оренбургской губернии. Е. В. Волков, проведя анализ Городовой обывательской книги Челябинска за 1861 г., определил, что 10 % домовладений в городе принадлежали казакам; на 1861 г. в городе насчитывалось 228 казаков из 5370 жителей (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5470. Л. 1–173). По данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г., в Челябинске жило 19 998 человек, из них мещан 9467 человек и казаков 1117 человек (Первая всеобщая перепись населения…, 1904, с. 1, 26, 27). Перепись зафиксировала стабильную ситуацию в соотношении казачьего сословия к другим социальным группам: в 1861 г. казаки составляли 4,25 % населения города, в 1897 г. этот
показатель составил 5 % [ Волков , 2022]. Однако в дальнейшем, в начале XX в., все заметнее становится миграционный поток: к 1908 г. численность населения Челябинска достигла 60 тыс. человек, а значит, с момента переписи она выросла в три раза [ Алеврас , 2000, 2022; Никонова , Тимофеев , 2022]. В историографии казаки стереотипно воспринимаются исключительно как сельские жители, селившиеся в станицах и поселках, поэтому малоизученной остается проблематика, связанная с их жизнью в городском пространстве [ Ганин , 2008; Годовова , 2020; Волков , 2022]. Возникают вопросы: как в конце XIX ‒ первые десятилетия XX в. изменилась численность казачьего сословия в Челябинске? чем занимались городские казаки и какова была их судьба в первые десятилетия XX в.?
Если для XVIII ‒ середины XIX в. существуют такие исторические источники, как обывательские книги, ревизские сказки, которые содержат комплексные сведения о составе и численности населения Челябинска, то для второй половины XIX в. и первых десятилетий XX в. таких источников нет. Отсюда возникает трудность в изучении трансформации социального состава населения в условиях бурно развивающегося и изменяющегося города. В настоящей статье привлекаются разнообразные материалы: клировые ведомости городских приходов, раскладочные ведомости налога на недвижимое имущество, реестры выдачи промысловых свидетельств, списки избирателей, переписка городской управы, документы городского совета и другая делопроизводственная документация, отложившаяся в фондах Объединенного государственного архива Челябинской области.
Челябинск был центром обширной станицы. На 1901 г. в Челябинский станичный юрт входили г. Челябинск и 26 поселков: Шершневский, Мысовский, Кайгородовский, Трифанов-ский, Малышевский, Полетаевский 1-й, Полетаевский 2-й, Чипышевский, Троицкий, Киселевский, Бутаковский, Черняковский, Сосновский, Никольский, Першинский, Круглянский, Чури-ловский, Коноваловский, Тугайкульский, Фотеевский, Глубокинский, Дударевский, Сухоме-совский, Исаковский, Синеглазовский, Смолинский (Списки населенных мест Оренбургской губернии, 1901, с. 249–251). К 1916 г. в состав юрта добавились Костылевский, Шугаевский, Колупаевский поселки (Список населенных мест Челябинского уезда, 1916, с. 192–195). С XVIII в. в городе располагалась войсковая станичная изба [ Самигулов , 2015, с. 69–70], затем станичное правление, только в конце XIX в. правление переехало в Никольский поселок, а оттуда уже в 1910-е гг. ‒ в Сосновский поселок.
Перенос станичного правления из города в пригородные поселки ‒ одно из свидетельств трансформации социального состава городского населения. По-видимому, в этом проявилась попытка приблизить органы управления станицей к местности их компактного проживания. Одно из косвенных доказательств того, что в Челябинске существенно сократилось казачье население, встречается в справочном издании «Список населенных мест Челябинского уезда», выпущенном в 1916 г. В нем сведения о численности казачьих дворов и населения города не указаны, хотя для всех остальных станичных центром такие сведения имеются (Список населенных мест Челябинского уезда, 1916). Это может свидетельствовать о невозможности выявить и точно подсчитать казачье население Челябинска.
К 1916 г. в Челябинске действовало почти два десятка православных храмов, часть из них имела статус приходских, а потому в них велся учет населения приходов, отражавшийся в ежегодных отчетах ‒ клировых ведомостях. Приходскими церквями были Христорождественский собор, Свято-Троицкая, Александро-Невская и Рождество-Богородицкая церкви (табл. 1).
Из клировых ведомостей видно, что в двух городских православных приходах (Христо-рождественского собора и Свято-Троицкой церкви) учитывались оренбургские казаки. Казаки жили в приписанных к ним поселках, располагавшихся в окрестностях Челябинска: Каштак-ском, Казанцевском, Першинском, Фотеевском и Смолинском. При этом в границах города они не были зафиксированы. В 1912 г. в приходах Христорождественского собора и СвятоТроицкой церкви учтено 2305 казаков, в 1916 г. ‒ 2277 казаков. Однако точно нельзя сказать, что казаки названных и других окрестных поселков все жили по месту «приписки», встречаются случаи, когда казаки из ближайших поселков жили в Челябинске: например, казаки- старообрядцы Сосновского поселка Акиндин Иванов и Антоний Давыдов с семьями жили в городе (ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 4. Д. 482. Л. 354 об. – 355; Д. 510. Л. 88 об. – 89).
Таблица 1
Численность и состав городских приходов
(ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 3. Д. 335. Л. 25, 124, 135, 153; Д. 367. Л. 20, 32, 47, 114)
|
Год |
Христорожде-ственский собор, кол-во прихожан |
Свято-Троицкая церковь, кол-во прихожан |
Александро-Невская церковь, кол-во прихожан |
Рождество-Богородицкая церковь, кол-во прихожан |
|
1912 |
3825 В том числе: казаков 487 старообрядцев 89 |
5879 В том числе: казаков 1818 старообрядцев 616 |
1367 В том числе: старообрядцев 48 |
7445 В том числе: старообрядцев 240 |
|
1916 |
3644 В том числе: казаков 330 старообрядцев 114 |
5787 В том числе: казаков 1947 старообрядцев 634 |
1326 В том числе: старообрядцев 45 |
6078 В том числе: старообрядцев 164 |
|
Социальный состав приходов |
Духовенство, военные, мещане, разночинцы, старообрядцы |
Духовенство, статские, купцы, крестьяне, ме щане, старообрядцы |
Духовенство, дворяне, крестьяне, военные, мещане, старообрядцы |
Духовенство, дворяне, крестьяне, военные, мещане, статские, старообрядцы, инославные, иноверцы, сектанты |
В табл. 1 также обозначены старообрядцы, которые, безусловно, не являлись прихожанами названных церквей, но формуляр клировых ведомостей предполагал учет всего населения, проживающего на территории прихода. Основная часть старообрядцев ‒ это те же казаки окрестных поселков, но, по-видимому, часть из учтенных старообрядцев ‒ городские жители, при этом их социальный статус в документах не определен. Таким образом, клировые ведомости городских православных приходов не фиксируют к 1917 г. сколько-нибудь значительного количества казачьего населения в черте города.
Метрические книги трех старообрядческих церквей, располагавшихся в городе [ Антипин , Шестаков , 2021], показывают, что среди прихожан действительно было казаки, а также мещане и купцы. Однако, например, среди записей о рождении, смерти и бракосочетании, сделанных в метрических книгах Покровской, Никольской, Свято-Троицкой церквей в 1912 и 1916 гг., не встречаются упоминания городских казаков, но встречаются казаки окрестных поселков Челябинской и Миасской станиц (ОГАЧО. Ф. И-226. Оп. 4. Д. 482, 510, 541, 656, 804). Безусловно, возможно предположить, что в эти годы в семьях городских казаков не рождались, не умирали и не сочетались браком, что также говорит о малочисленности этой группы городского населения.
Численность казаков также возможно оценить с помощью списков избирателей. В списке избирателей на выборах гласных в городскую думу на 1906–1909 гг. из 799 человек было всего 22 представителя казачьего сословия. Все они вошли в состав избирателей по имущественному цензу. Причем восемь человек ‒ это жены и вдовы казаков (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 831. Л. 16–19). Женщины не могли голосовать, но имели право доверить право голоса своему мужу или сыну, как это делала Анфиса Смолина, каждые выборы выдававшая доверенность своему мужу (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6982. Л. 2, 8). К этому списку следует добавить казаков-пенсионеров. На 1906 г. их было всего четверо: есаулы Алексей Медведев и Григорий Стариков (он включен в список домовладельцев), хорунжий Халендулла Саутов и войсковой стар- шина Иван Харин (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 883. Л. 39–39 об., 40). На выборах в городскую думу в 1914 г. могло участвовать 1039 человек, из них 27 представителей казачьего сословия (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1176).
На выборах в Государственную думу в 1907 г. в списке избирателей (всего в списке Челябинского съезда городских избирателей было 4656 человек) значились 123 казака, из них большинство получило право голоса на основании того, что они занимались торговлей, служили в винных лавках в городе или на железной дороге, получали пенсию, а как казаки были приписаны к пригородным казачьим поселкам. 23 казака имели недвижимость или арендовали жилье, двое владели промышленным заведением в городе (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 883. Л. 489– 495 об.; Д. 921. Л. 1–92 об.).
Однако в городе продолжали жить потомки казаков и те, кто совсем недавно принадлежал казачьему сословию. Безусловно, они оставались носителями казачьей культуры, несли в городское пространство свои бытовые привычки, язык, постепенно встраиваясь в городской социум, обогащали его казачьим компонентом. На рубеже XIX–XX вв. заметны процесс перехода казаков в другие сословия, прежде всего мещанское, и связанное с этим переселение в Челябинск, который привлекал массу нового населения, в том числе казаков, проживавших в окрестных станицах и поселках.
Если переселение не требовало решения формальностей, то переход в новое сословие был связан с необходимостью получения разрешения на выход из казачьего сословия и разрешения на прием в мещанское сословие. В Объединенном государственном архиве Челябинской области в фонде Челябинского мещанского старосты сохранились общественные приговоры мещанского общества о принятии в свой состав выходцев из других сословий. К сожалению, комплекс документов фрагментарный, но за 1899 г., судя по всему, приговоры сохранились в полном комплекте (ОГАЧО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 256, 258). Примечательно, что основную часть принятых в мещанское сословие Челябинска в этот год составили оренбургские казаки, хотя встречаются крестьяне, мещане, купцы из различных местностей Российской империи. Всего за 1899 г. в Челябинское мещанское общество было принято 206 семей казаков, что составило 1036 человек. Интересно, что география казаков-переселенцев ограничивалась ближайшей округой: существенная часть казаков прибывала из поселков Челябинской, Долгодеревенской, Миасской, Еткульской станиц. При этом в списках встречаются почти все поселки Челябинской станицы: Шершневский, Кайгородовский, 2-й Полетаевский, Чипышевский, Троицкий, Черняковский, Сосновский, Николаевский, Першинский, Круглянский. Чуриловский, Конова-ловский. Тугайкульский. Фотеевский, Дударевский, Сухомесовский, Исаковский, Синеглазов-ский, Смолинский, но нет заявлений о переходе в мещане Челябинска от казаков, живших в самом городе. Редки случаи переселения из более отдаленных станиц, самые дальние из них: Коельская, Травниковская, Кундравинская, Звериноголовская. Возможно предположить, что городские казаки могли переезжать в близлежащие поселки, сохраняя сословный статус, а им «на смену» приходили выходцы из казачьего сословия, решившие перейти в мещане. Переходившие в мещанское сословие казаки приобретали не только новые права, но и обязанности, в том числе они касались и воинского долга. Так, в 1897–1899 гг. в запас армии было зачислено 26 бывших казаков, в 1900 г. ‒ 13 чел., 1901 ‒ 17 чел. (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 610).
Челябинск в исследуемый период переживал градостроительный бум, застраивались свободные дворовые места в обжитой части города, на смену деревянным строениям приходили каменные и многоэтажные здания, нарезались новые кварталы на окраинах, велось оживленное строительство в новых «районах» города: в Пригородной, Дешевой и Сибирской слободах, в Заречье и Заручейной частях. Раскладочные ведомости налога на недвижимое имущество зафиксировали ситуацию с расселением казаков в городской черте (табл. 2).
Самой зажиточной была усадьба урядника Василия Колбина. Он жил на ул. Солдатской, на его дворовом месте стояли два двухэтажных дома (полукаменный и каменный), две избы, погреб, амбар, каретник, баня, конюшня, каменные амбары ‒ все это оценивалось в 3500 руб. На Христорождественской площади располагалась усадьба полковника Федора Старикова: по- лукаменный дом, пять амбаров, две конюшни, баня ‒ 3000 руб. (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 353.
Л. 15 об. ‒ 16; 91 об. ‒ 92).
Таблица 2
Домовладения казаков в черте г. Челябинска, 1896 г. (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 353)
|
Название улицы/площади |
Количество домов казаков |
Оценочная стоимость, руб. |
|
Уфимская улица |
4 |
3700 |
|
Христорождественская площадь |
1 |
3000 |
|
Никольская улица |
2 |
1750 |
|
Мастерская улица |
7 |
4675 |
|
Ключевская улица |
1 |
0* |
|
Солдатская улица |
3 |
5300 |
|
Солдатская площадь |
1 |
300 |
|
Казарменная улица |
2 |
400 |
|
Восточный бульвар |
2 |
400 |
|
Заручейная улица |
1 |
0* |
|
Северный бульвар |
3 |
450 |
|
Миасская улица |
1 |
600 |
|
Исетская улица |
1 |
200 |
|
Южный бульвар |
2 |
150 |
|
Азиатская улица |
1 |
1000 |
|
Оренбургская улица |
3 |
275 |
|
Александровская площадь |
2 |
1280 |
|
Скобелевская улица |
1 |
600 |
|
Кыштымская улица |
1 |
650 |
|
Преображенская улица |
1 |
50 |
|
Екатеринбургская улица |
4 |
2050 |
|
Береговая улица |
2 |
350 |
|
Северный бульвар |
1 |
0* |
|
Всего |
47 |
27180 |
* Примечание. «Малоценные» строения, не облагавшиеся налогом.
Раскладочная ведомость по налогу на недвижимое имущество за 1896 г. примечательна тем, что в ней аккуратно фиксировался сословный статус владельцев. В последующие годы эти сведения в раскладочных ведомостях указывались эпизодически. Так, в ведомости 1908 г. зафиксировано всего четыре домовладения, принадлежавших представителям казачьего сословия (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 929). Поэтому данные 1896 г. о казачьей недвижимости целесообразно сравнить со сведениями об имущественном статусе, которые содержатся в списках избирателей. В 1906 г. ‒ 22 казачьих домовладения (суммарная оценочная стоимость ‒ 17 250 руб.), в 1914 г. – 25 казачьих домовладений (суммарная оценочная стоимость ‒ 29 350 руб.) (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 831. Л. 16–19; Д. 1176. Л. 4–21). Таким образом, в 1890–1910-е гг. количество казачьих домовладений сократилось в два раза, при этом повысилась средняя оценочная стоимость казачьей усадьбы с 578 руб. в 1896 г. до 1174 руб. в 1914 г. В казачьем секторе недвижимости исчезли «малоценные» усадьбы, а сохранившиеся судьбы повысили свою стоимость за счет перестройки и расширения. Из этого можно сделать вывод, что Челябинск на рубеже веков стали покидать несостоятельные казаки.
По данным списка избирателей, имеющих право участвовать в выборах гласных городской думы, в 1906 г. в Челябинске было 22 собственника недвижимого имущества из казачьего сословия. Суммарно их собственность оценивалась в 17 250 руб., в среднем ‒ 780 руб. на казака. Выше всех стоял подъесаул Иван Заплатин (1800 руб.), ниже ‒ подъесаул Григорий Стариков (300 руб.) (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 831. Л. 16–19). Таким образом, по сравнению с 1861 г., когда в Городовой обывательской книге было записано 62 казака-домовладельца (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 5470), их количество за 45 лет сократилась почти в три раза.
Город давал возможности заниматься торговлей, держать промышленное заведение, участвовать в управлении бизнесом (приказчики). И казаки были вовлечены в экономическую жизнь Челябинска. Об этом свидетельствуют промысловые свидетельства (подобие лицензий), которые выдавались городской управой. За 1907–1917 гг. было выдано около 3000 промысловых свидетельств, из них 51 ‒ представителям казачьего сословия. Казаки также арендовали городскую землю: в 1900-е гг. казаки И. С. Караваев, И. Д. Казанцев, Я. С. Казанцев, С. Е. Струпин, С. Н. Третьяков арендовали участки в Пригородной и Дешевой слободах (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6960. Л. 82 об., 153 об.; Д. 6955. Л. 3; Ф. И-3. Оп. 1. Д. 619. Л. 7).
В связи с предпринимательской деятельностью казаков возникали казусы. Например, в 1902 г. казак Луговского поселка Усть-Уйской станицы Яков Андреев привез в Челябинск 40 возов арбузов, самовольно занял городское место, отказался платить за аренду, чем вызвал недовольство городских властей (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 697а. Л. 265–265 об.). Другое разбирательство связано с казаком Першинского поселка Порфирием Пастуховым, занимавшимся ломовым извозом. В 1912 г. городская управа предъявила ему счет на 225 руб. за неоплату знаков за извозный промыслен и пени, в 1913 г. сумма выросла до 337 руб. 50 коп. Как оказалось, казак содержал до 30 лошадей, на которых возил с мельницы Степановых, что недалеко от Першинского поселка, в город крупчатую муку и мякоть, а из города на мельницу рожь и пшеницу. Таким образом, казак заезжал на территорию города и должен был уплачивать сбор «по высочайше утвержденному 26 января 1887 г. мнению Государственного совета о сборе в пользу Челябинска с извозного промысла» (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1116. Л. 3–20).
Расположение Челябинска в окружении казачьих земель и поселений предполагало, что казаки активно присутствуют в городском пространстве, включены в повседневную жизнь города. Так, в городской больнице пользовались лечением казаки 1, 2 и 3 военных отделов Оренбургского казачьего войска, за что правления названных отделов заплатили в городскую казну почти 9000 руб. (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 525. Л. 1, 13, 14, 23‒25). О вовлеченности казаков в городскую жизнь говорят случаи из повседневной жизни, отраженные в делопроизводственной документации городской управы. Так, в феврале 1900 г. казак Ильинского поселка Яков Курочкин разбил фонарь на улице Уфимской у тюрьмы, за что вынужден был заплатить 5 руб. (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 525. Л. 82–83 об.). В 1902 г. подъесаул Смирных пожаловался уездному исправнику на полицейского надзирателя Нефеда Лоскутова, который следил за порядком на мосту и грубо общался, нанес оскорбление казаку (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 697а. Л. 82).
Городские казаки, имевшие недвижимость и занимавшиеся предпринимательством, участвовали в общественной жизни города, были включены в органы местного самоуправления, однако и из этой сферы городской жизни они уходят в начале XX в. Самым ярким представителем казачьего сословия Челябинска был урядник Василий Колбин (1854–1911). Он занимался разработкой каменных карьеров, построил электростанцию, жертвовал крупные суммы на образование и церкви, в 1900-е гг. перешел в купечество. Предприниматель был единственным гласным городской думы ‒ казаком в созыве 1898–1901 гг., после его выхода из сословия казаки в думу не избирались (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 619, 650, 699, 725, 831, 858, 907). На выборах 1906 г. из 40 избранных гласных и 10 кандидатов не было ни одного казака, не было их и в последующих созывах (ОГАЧО. Ф. И-1. Оп. 1. Д. 6982. Л. 111–111 об.). Грамотные представители казачьего сословия избирались присяжными заседателями. Так, по данным на 1910 г., из 268 человек присяжных заседателей, избранных в Челябинске, 12 были из казаков (ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 987. Л. 3 об. – 18).
После 1917 г. Челябинск оказался вовлечен в масштабные события Гражданской войны: здесь дважды устанавливалась советская власть; у «стен города» развернулось одно из крупнейших сражений Гражданской войны ‒ Челябинское; после 1919 г. еще пару лет большевистской власти в регионе сопротивлялись повстанцы, ядро которых составляли казаки; наконец, вместе с армией А. В. Колчака отступили тысячи казаков, бежали на восток и жители Челябинска [ Нарский , 2001; Кобзов , Шведов , 2017]. Остались ли после всего этого в городе казаки? Официально провозглашалось, что и при советской власти в Челябинске жили казаки. Об этом свидетельствует и название совета, вновь созданного в 1919 г., ‒ Челябинский городской совет рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов (ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 1. Д. 45. Л. 36). Однако в действительности обнаружить казаков в советском Челябинске не так просто: согласно многочисленным учетным документам депутатов совета, членов разнообразных секций, казаков среди них нет (Там же. Д. 46, 50, 56, 61, 62, 67, 68, 95, 612). Примечательно, что и в разработанной ведомости учета представительства городских слоев населения казаки также не фигурируют (Там же. Д. 61. Л. 8 об. ‒ 9). Казаки в городском совете присутствовали только на официальных бланках и в названии органа власти, откуда они исчезли к концу 1920-х гг.
Тем не менее казаки в Челябинске остались. Об этом свидетельствуют списки членов старообрядческих общин, составленные в 1923 г. в процессе регистрации общин и оформлении аренды церковных зданий. В составленных списках указывался дореволюционный сословный статус прихожан. В Никольской старообрядческой общине из 71 члена общины не было ни одного казака (ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 4. Д. 2. Л. 13–15). В Свято-Троицкой старообрядческой общине состоял 51 человек, из них двое принадлежали к казачьему сословию: Афанасий и Евдокия Мальцевы 1885 года рождения (Там же. Д. 4. Л. 11–14). К 1927 г. община выросла до 66 человек, и в новом списке уже не указывалось дореволюционное социальное положение, а Мальцевы записаны как служащий и жена служащего (Там же. Л. 36–39). Самой крупной была Покровская старообрядческая община, в ней по списку было 230 человек ‒ в основном мещане и крестьяне, но встречаются и казаки: Яков и Ефросинья Смолины (Челябинск); Абрам, Елена и Степанида Ивлевы; Анисья Казанцева, Николай и Ульяна Вишняковы (пос. Круглянский Челябинской станицы); Варвара Малых, Татьяна Ильиных, Антон и Евдокия Кондаковы, Степанида и Александра Ильиных, Степан и Павла Струнины (Челябинск) (ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 4. Д. 11. Л. 15 об. – 25). Итак, на 1923 г. во всех старообрядческих общинах Челябинска состояло 18 представителей казачьего сословия, из них 12 человек жили в городе. Зафиксированное соотношение сословий указывает на то, что и до масштабных потрясений казаки не занимали доминирующего положения в старообрядческих общинах.
Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. на фоне бурного экономического и социального развития Челябинска наблюдалась трансформация прежней структуры городского социума. Казачье сословие в пределах города фактически растворилось. В условиях активизации градостроительства, появления новых кварталов существенно сократился казачий сектор недвижимости, который в 1917 г. составлял около 25 домовладений. Точную численность казачьего сословия в Челябинске установить невозможно, но, по косвенным данным, она могла составлять примерно 100 человек. Изменившийся социально-экономический профиль города предоставлял казакам две возможные жизненные стратегии: первая, если казаки сохраняли верность сословию, ‒ покинуть город и обосноваться в пригородных поселках, в которых можно было сохранить привычный уклад жизни, нести службу и работать на земле; вторая, если казаки готовы были меняться и встраиваться в новые условия, ‒ перейти из казачьего сословия в мещане, что означало разрыв с привычным образом жизни, отказ от военной службы и земельных наделов. Оба варианта предполагали сокращение количества представителей казачьего сословия в городе, о чем свидетельствует и перевод станичных органов управления из Челябинска в пригородные поселки. Однако казаки продолжали присутствовать в городском пространстве: они занимались торговлей, извозным промыслом, арендовали земли, их часто можно было встретить на улицах, они посещали местные ярмарки и увеселительные мероприятия, пользовались услугами городской больницы.
Изменение формального сословного статуса еще не означало изменение привычек, мировоззрения, быта, норм семейных отношений и прочего, свойственного казачьей культуре. Несмотря на исход казаков из города, Челябинск сохранял статус станичного центра, а в 1918 г. в период активной фазы Гражданской войны на Южном Урале на короткое время стал центром 4-го округа Оренбургского казачьего войска. Номинальное включение казаков в городской совет после установления советской власти скорее свидетельствовало о попытке местных властей консолидировать общество, привлечь на свою сторону оппозиционно настроенное казачество, нежели о существенном представительстве казачества в городе и местных органах власти. Любопытно, что новые власти и в 1920-е гг. продолжали позиционировать Челябинск как место проживания казаков, потерявших свой сословный статус, но, по-видимому, сохранявших верность привычному образу жизни и традициям.
Список литературы Челябинские казаки в 1890-1920-е годы
- Алеврас Н.Н. Социально-демографический портрет Челябинска 1897 года // Челябинск неизвестный: краевед. сб. Челябинск, 2002. Вып. 3. С. 80-93.
- Алеврас Н.Н. Челябинск в XVIII - начале XX века: социально-демографические процессы // Вестник Челяб. гос. ун-та. 2000. № 1 (11). С. 20-35.
- Антипин Н.А., Шестаков А.М. Инфраструктура челябинских старообрядцев (1905-1930 гг.) // Вестник Южно-Урал. гос. ун-та. Социально-гуманитарные науки. 2021. Т. 21, № 3. С. 32-39.
- Волков Е.В. Оренбургские казаки в пространстве дореволюционного города: к вопросу о подходах в области социальной истории // Архив в социуме - социум в архиве: материалы V Всерос. науч.-практ. конф. Челябинск, 2022. С. 265-268. EDN: BEMRHG
- Ганин А.В. Накануне катастрофы. Оренбургское казачье войско в конце XIX - начале ХХ вв. (1891-1917 гг.). М.: Центрполиграф, 2008. 688 с.
- Годовова Е.В. Повседневная жизнь российского казачества во второй половине XIX - начале XX вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2020. 382 с. EDN: WIQDMS
- Кобзов В.С., Шведов И.В. Урал в период потрясений 1917-1921 годов. Челябинск, 2017. 453 с. EDN: ZUTKDR
- Нарский И.В. Жизнь в катастрофе: Будни населения Урала в 1917-1922 гг. М.: РОССПЭН, 2001. 632 с. EDN: MHJRPM
- Никонова О.Ю., Тимофеев А.А. Железная дорога и миграция в уездном городе Челябинске в конце XIX - начале XX в. // Уральский исторический вестник. 2022. № 1 (74). С. 137-146. EDN: RJZZPG
- Самигулов Г.Х. Из истории Челябинска: в 3 кн. Кн. 1. Крепость и провинциальный город с 1736 по 1781 год. Челябинск: Каменный пояс, 2015. 140 с.