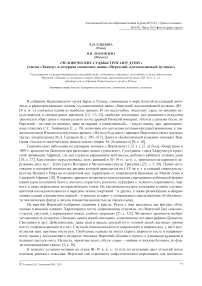«Человеческие судьбы трогают душу» (читая «Энеиду» и созерцая мозаичное панно «Вергилий, вдохновляемый музами»)
Автор: Ельцова Елена Николаевна, Лекомцева Надежда Витальевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Фигуры интертекста в системе выразительных средств языка
Статья в выпуске: 5 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены и систематизированы тематические, сюжетные, образные, аллюзийные и иные связи поэмы Вергилия «Энеида» и мозаичного панно «Вергилий, вдохновляемый музами» (III-IV в. н. э.), хранящегося в собрании Национального музея в Тунисе.
Текст, интертекстуальность, античная живопись, поэтика
Короткий адрес: https://sciup.org/14822310
IDR: 14822310
Текст научной статьи «Человеческие судьбы трогают душу» (читая «Энеиду» и созерцая мозаичное панно «Вергилий, вдохновляемый музами»)
В собрании Национального музея Бардо в Тунисе, славящемся в мире богатой коллекцией античных и раннехристианских мозаик, художественное панно «Вергилий, вдохновляемый музами» (IIIIV в. н. э.) считается одним из наиболее ценных. И это неслучайно, поскольку здесь, по мнению искусствоведов и литературных критиков [12; 13; 24], наиболее достоверно для мозаичного искусства запечатлен образ самого значительного поэта древней Римской империи. «Поэты у римлян были; но Вергилий - не один из великих, даже не первый, а единственный», - такую оценку дает древнеримскому классику С.С. Аверинцев [1, с. 19], возвышая его над всеми поэтами-предшественниками, а также писателями Италии последующих времен. «Поэтом будущего» нарекает Вергилия в своих научных трудах литературовед М.Л. Гаспаров [6, с. 395-415]. Данте в «Божественной комедии» называет Вергилия «честью и светочем всех певцов земли» (перев. М. Лозинского) [8, с. 10].
Сравнительно небольшая по размерам мозаика с Вергилием ( 1,23 х 1,22 м ) была обнаружена в 1895 г. археологом Дюпоном при раскопках дома в тунисском г. Сусе (ранее: город Хадруметум в римской провинции Африка), где она служила украшением таблинума , рабочего кабинета хозяина дома [10, с. 27]. Как считают искусствоведы, поэт, живший в 70-19 гг. до н. э., запечатлен на картине в окружении двух муз - Клио (музы Истории) и Мельпомены (музы Трагедии) [25, с. 5-26]. Панно изготовлено в тессерной технологии, расцвет которой приходится на I-IV вв н. э. и ставшей символом искусства Великого Рима на подвластной ему территории от современной Британии до Малой Азии и Северной Африки [10]. В картине древнего мозаичиста использованы соразмерные кубической формы камни ( opus tesselatum ) белого, желтого, охристого, розового, пурпурного, зеленого, коричневого, черного и иных переходных колористических тонов. Их хаотически-пестрое сочетание в одних случаях, цветовая последовательность в передаче четких очертаний - в других, а также разнообразие в направлениях кладки одноцветных камней - в третьих создают у созерцающего представление об объемности человеческих фигур и легком изяществе накинутых на героев одежд.
На картине Вергилий изображен сидящим в кресле. Рядом с ним находятся две фигуры, облаченные в женские одеяния. Характеризуя поэта, современники отмечали, что Вергилий был «высокого роста, смуглый, с деревенским лицом, слабого здоровья» [21, с. 352]. Мозаичист древности изобразил внешность создателя «Энеиды» аналогичной описанию, оставленному историографами (Донатом, Светонием и др.). Действительно, даже сидя в кресле, рослый поэт головой своей достигает уровня плеч у сопровождающих его муз. Смуглый темноволосый поэт широкоплеч и широкоскул, у него мускулистая шея, крупные кисти рук. Свободные одежды не могут скрыть широкую кость и напряженность мышц у восседающего на кресле человека. Вергилий облачен в тунику с длинными рукавами и пышную светлую тогу . На ногах, вероятнее всего, обуты соцци – «низкие и плоские ботинки, по форме напоминающие тапки» [3, с. 30].
К моменту создания мозаики на стыке III-IV в. н. э., то есть по истечении двух столетий после кончины римского классика, Вергилий сам становится мифологическим персонажем для потомков.
Его жизненный путь обрастает мифами и домыслами [см.: 23, с. 63-65]. Читатели «Энеиды» верят в мистическую ауру поэта и его контакты с могущественными внеземными силами: слишком достоверным в своей подробности кажется авторское описание пребывания Энея в преисподней:
550 Огненный бурный поток вкруг Тартара мчится,
Мощной струей Флегетон увлекает гремучие камни. <...>
557 Слышится стон из-за стен и свист плетей беспощадных, Лязг влекомых цепей и пронзительный скрежет железа <...>.
576 Гидра огромная там, пятьдесят разинувши пастей,
Первый чертог сторожит. В глубину уходит настолько Тартара темный провал, что вдвое до дна его дальше, Чем от земли до небес, до высот эфирных Олимпа. <...> 614 Казни здесь ждут. <...>
616 Катят камни одни, у других распятое тело
К спицам прибито колес.
624 <...> Все дерзнули свершить и свершили дерзко злодейство.
(«Энеида», кн. VI) *
Напротив, в Элизиуме благочестивому Энею открываются иные виды: зелень счастливых дубрав, где приют блаженный таится (кн. VI, 639). Здесь ему встречаются души тех, кто средь живых о себе по заслугам память оставил (кн. VI, 664).
Преклоняясь пред звучной торжественностью и содержательностью вергилиева слова, древний мастер-мозаичист возводит своего героя на трон (по существу, как царя поэтов) и при помощи ровных мозаичных кубиков-тессер тщательно прорисовывает его благородный костюм. Он облекает его в свободную тунику и тогу белого цвета (у римлян бытовало понятие toga frequens – «чистая» [3, с. 32]). Поскольку цвет ткани в реальной жизни и в искусстве римлян всегда имел сакральное значение [11, с. 76; 20, с. 96], то рука Вергилия, прижатая к светлым одеждам на груди, призвана, по замыслу художника, символизировать чистоту духа и искренность помыслов древнего классика. Узкая вертикальная полоса ( клавус ) синего цвета, начинающаяся у горловины туники, подчеркивает принадлежность поэта к сообществу свободных граждан, всадников . Поверх туники опоясана тога белого цвета.
Начиная со II в. до н. э., светлая тога стала неотъемлемой частью костюма поэтов и свободных граждан Римской империи [3, с. 32]. Изготавливалась она из тонкой шерсти или льна, имела форму эллипса размером примерно 6 х 2 метра, т. е. ширина ее равнялась тройной длине тела от ступни человека до плеча. Такая ткань требовала тщательной импровизации при подготовке к ее ношению: при помощи разных приспособлений (щипцов, дощечек, замачивания специальным раствором) специально обученные рабы заранее подбивали линии складок на тогах своих господ, а в концы тоги для предотвращения соскальзывания ткани с плеч вшивали свинцовые гирьки. Складка ( sinus ), шедшая наискосок из-под правого плеча к левому, была характерна для ношения тоги в постреспубликанский период [11 с. 68]. На панно из музея Бардо в одеянии поэта древним мозаичистом как раз представлен стиль ношения тоги времен императора Августа, искренне благоволившего к Вергилию и в свою очередь ставшего почетным героем-современником его знаменитой поэмы «Энеида». По умыслу Вергилия, это об Августе в стародавние времена предвещает Энею тень его отца - старца Анхиза:
793 Август Цезарь, отцом божественным вскормленный, снова
Век золотой вернет на Латинские пашни, где древле
Сам Сатурн был царем, и пределы державы продвинет <...>
(«Энеида», кн. VI)
Как свидетельствует историограф Г.Т. Светоний, Август Октавиан «о себе дозволял писать только лучшим сочинителям и только в торжественном слоге» [19, с. 72]. Вергилий же был именно тем автором, чьи сочинения неоднократно звучали в присутствии самого императора. Оттого его строки должны были носить провидческий характер и отражать политические и философские воззрения своего времени.
851 Римлянин! ты научись народами править державно -
В этом искусство твое! - налагать условия мира -
Милость покорным являть и смирять войною надменных!
(«Энеида», кн. VI)
Но вернемся к нашей мозаике. Отражая при помощи узко-ленточного клавуса на плече своей художественной модели социальный статус свободного гражданина (всадника) Римского государства, древний мозаичист, вместе с тем, настойчиво внедряет созерцающим панно «Вергилий, вдохновляемый музами» мысль о подлинно «имперской» значимости «гражданина Поэта» - властителя дум среди его современников и творческого последователя Гомера. При помощи светло-коричневых тессер, позволяющих сымитировать на тоге объемность складок (см. зигзагообразный рисунок на подоле), художник одновременно творит иную символическую реальность на плоскости ткани тоги. Льющаяся с плеч поэта широколенточная вертикальная кайма, отороченная золотистым линейным рисунком, придает ему более высокую социальную значимость: мозаичистом III-IV в. н. э. Вергилий приравнивается к статусу государственного мужа, сенатора, вещателя философско-исторических истин.
Подобно именитым ораторам, во время своих выступлений закладывавшим правую руку за синусоидальную складку тоги на груди, Вергилий с мозаики также опускает пальцы правой руки в складки ткани. Левой рукой он уже развернул свои свитки. Еще минута, и древнеримский поэт разразится торжественными строками поэмы «Энеида». На коленях поэта лежит свиток папируса со словами из 8-ой и началом 9-ой строки из первой главы «Энеиды»: «Musa mihi causas memora quo numine laeso, quidve...» («Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине / <Так царица богов...>», пер. С. Оше-рова). Обращение Вергилия к музам, которых еще Гомер характеризовал как «вездесущих и всезнающих все в поднебесной» («Илиада», II, 485) - это отражение античного мировоззрения на художественное творчество и искусство в целом.
На мозаичной картине по левое плечо от Вергилия располагается высокая фигура в женском одеянии и с женской маской в руках. По замыслу древнего художника, это муза Трагедии - Мельпомена. Однако отчасти грубоватые черты лица, небрежная прическа, короткие пряди растрепанных на макушке под короной волос и угловатое строение фигуры акцентируют внимание зрителя на признаках маскулинности в женском образе. Похоже, автор мозаичной кладки затевает замысловатую игру со зрителем, созерцающим эту каменную картину, на выявление знатоков античной мифологии, истории, содержания вергилиевых сочинений и традиций древнеримского театрального искусства. Не исключено, что по замыслу автора мозаичного панно, в образе Мельпомены представлен актер, играющий в некоем сценическом действе определенный трагический персонаж (как известно, в античном театре, надев маски и соответствующие одежды, все женские роли исполняли мужчины [16, с. 74]). На двойственную сущность мозаичного образа музы нарочито намекают сценические атрибуты - высокие котурны и маска.
Здесь на исполняющем женский образ актере надета длинная в рост человека туника с узкими до запястий рукавами (так называемая, таларис ) [3, с. 30]. Она подвязана широким поясом под импровизированной невысокой грудью и тонкой шнуровкой на поясе, что вкупе с пышноволосой маской в левой руке безоговорочно персонифицирует этот образ с женской ролью. Одеяние актера насыщенно-красного цвета и сложный парик женской маски из уложенных в несколько рядов длинных кос, увенчанных небольшой золотистой короной, подчеркивают принадлежность театральной героини к царскому роду.
Туника украшена богатым орнаментом, который по-своему напоминает декоративный фон, имитируемый на римских театральных подмостках (как фиксируют И.М. Тронский, В.В. Головня, М.Е. Сергеенко и др., ко II в. н. э. римляне уже активно использовали в театрах декоративную завесу из полотняной ткани) [см.: 7; 11 с. 68; 20, с. 104-105; 21, с. 302]. Собственно, напоминанием присутствия в мозаике духа божественной Мельпомены становится именно это платье-занавес, а также пышная прическа, корона и ладонь правой руки, по-женски горестно приложенная к лицу музы (мужеподобному).
Как нам представляется, платье-занавес скрывает в себе шифрограмму трагической истории Карфагена и Дидоны. Все геометрические обозначения в сочетании с их цветовой гаммой имеют глубокое символическое значение. Напомним, что круг в античном искусстве олицетворял небо, квадрат -землю [14, с. 133-144 ; 2, с. 60-98]. Бесконечное протяженное время бессмертных богов представлено светоносным фоном неба и золотистыми овалами лиц. Вертикаль же платья-занавеса имеет отчетливо просматриваемую трехчастную структуру: деяния из мифологического отдаленного времени занимают верхнюю иерархию, события времени давнопрошедшего - среднюю часть, недавно случившегося - нижнюю. Горизонтальные белые линии на тунике Мельпомены четко очерчивают границы этих событий.
Массивное квадратное украшение синевато-красного цвета с четырьмя удлиненными разводами на невысоком холме груди (попутно заметим, эстетическим каноном римлянок была грудь небольших размеров и для того использовались специальные тугие повязки - фасции [3, с. 32]) призвано напомнить зрителю миф о зарождении города Карфагена. Он вел свое начало от возвышенности Бирса с обыкновенной бычьей шкуры, разрезанной на тонкие ремни, при помощи которых был очерчен массивный периметр прибрежной земли, дарованной Дидоне североафриканскими кочевниками под строительство нового города. Потому-то поставленная на этом месте цитадель носила название Бирса (по-гречески βύρσα - «снятая шкура»). Некоторые ученые считают, что это слово может быть греческой адаптацией семитского слова, обозначающего крепость, так как позднее холм стал использоваться как цитадель Карфагена (по-финикийски borsa - «укрепленное место»).
Возвышаясь над окружающей местностью, холм представлял естественное укрепление. Античные авторы сравнивали Бирсу с афинским Парфеноном. «Бирса располагалась на холме высотой 63 метра. Она была обнесена стеной с узкими воротами. В случае опасности внутри этой крепости могли укрываться защитники города. В мирное время здесь хранились казна и государственные архивы» [5, с. 236]. «На вершине Бирсы, на высокой террасе, располагался храм Эшмуна, окруженный священными кипарисами, - самый знаменитый и богатый храм Карфагена. К нему вели шестьдесят огромных ступеней. В минуту опасности эта лестница перекрывалась. На плоской крыше храма <…> могло уместиться несколько сотен человек. В дни падения Карфагена в храме Эшмуна укрывались последние защитники города» [Там же, с. 237]. Сегодня здесь располагается археологический парк, где можно увидеть элементы карфагенских архитектурных строений (колонны, остатки терм) и разбитых скульптур (Ника, менада, возничий), а также чудом уцелевшие античные барельефы (Афина с доспехами, Сирес / Церера с плодами) и фрагменты мозаик.
Редкий для тунисского побережья декоративный камень синего цвета, из которого состоит квадратное украшение на груди Мельпомены, завозился сюда с восточного побережья Средиземноморья, Александрии и Финикии. В данном случае он экстраполирует сведения мифа об изгнаннице-финикийке, прибывшей морем к гавани перед холмом Бирса из отдаленных краев.
Присмотревшись внимательнее, можно увидеть, что белые мозаичные разводы в набедренной части туники, которые первоначально можно принять за обычные складки одежды Мельпомены, очерчивают контуры фронтона и портиков некоего храма или дворца сразу в 3-х проекциях (вид спереди, сбоку и сверху). Простирающаяся над дворцовым строением золотистая пальмовая ветвь повествует о времени благоволения богов к народу, выстроившему свой могущественный город на берегу моря (так, символика серовато-голубых водяных знаков следует сразу же у подножья портиков храма).
В то же время графические обозначения нижней части пурпурной туники, облекающей бедро, голень и согнутое колено актера, вызывают у зрителя ассоциацию с зубцами и бойницами рушащихся во время пожара массивных крепостных укреплений великого города Карфагена, которому, как и Трое, уготована трагическая участь от рук воинственных пришельцев.
В руках трагедийного актера, облаченного в женскую тунику и массивный темный плащ, находится женская маска с изысканной высокой прической и золотистой короной. Рот маски широко открыт, словно она взывает о помощи. Полы темного плаща актера плавно переходят в одеяние этой маски. Кажется, что темная стола (длинная женская туника) просто обвисает на отчего-то ставшим невесомым теле этой женщины. К тому же обнаруживается, что мозаичист использует такую технику кладки тессер, что у созерцающих картину создается впечатление, что стопы актера в котурнах геометрически сливаются в единый образ с обликом куклы-маски. Возникает ощущение, что у нее подкашиваются ноги. Вглядываясь внимательнее, можно увидеть сплошные темно-красные разводы в области груди и живота женской фигуры в тунике. А в складках нарядно отороченных рукавов отчетливо прорисовывается кривое лезвие окровавленного тонкого кинжала (ряд красных тессер контрастно дублируется белыми мозаичными кубиками). Несомненно, по замыслу мозаичиста, здесь изображена покинутая Энеем Дидона, смертельно ранившая себя кинжалом в грудь и восходящая на пылающий жертвенный костер, который имитируется ярко-пурпурным одеянием музы Трагедии («<...> костер несчастной Элиссы / Город весь озарял», Кн. V, 3/4). По животу Дидоны красными потоками струится кровь. Стекая, она образует массивную темную лужу под ногами. Обратим внимание, что ранее в проекции актера это пятно мыслилось как светотень от его котурнов. Из глаз обреченной на неминуемую гибель царицы по ее груди и рукавам потоками нисходят слезы. Переполняя подставленную чашу ладони трагедийного актера, струйки горестных слез, представленных белыми крупинками-тессерами, изобильно насыщают темную ткань. Но женщина-маска еще жива. Ее отчаянные взоры устремлены к музе Истории, которой Дидона пророчествует равно трагическую кровавую судьбу Латинского континента и выстроенного ею города:
590 Кудри терзая свои золотые, стонет Дидона:
612 «<...> Если должен проклятый достигнуть
Берега и корабли довести до гавани, <...>
615 Пусть войной на него пойдет отважное племя, <...>
624 <...> Пусть ни союз, ни любовь не связуют народы!
628 Берег пусть будет, молю, враждебен берегу, море -
Морю и меч - мечу: пусть и внуки мира не знают!»
(«Энеида», кн. IV)
Действительно, через столетия процветающий при Дидоне Карфаген потерпит поражение в кровавых битвах от Рима и в 146 г. до н. э. будет снесен до основания с лица земли вместе с его постройками и несчастными жителями. Кровь, стенания смертельно раненых защитников города, пепел жилищ ожидают ранее процветающую столицу Средиземноморья. О том подробно повествуют труды историков Т. Ливия, Г.Т. Светония, Т. Моммзена, М. Ур-Мьедана [15; 19; 18; 22].
По правую руку Вергилия изображен образ музы Истории - Клио. Выявляя архетипическую сущность этого мифологического образа, исследователь Р. Мейер отмечает, что для любого автора (поэта, историографа) «восстановление события в воображении (например, сражения) на котором не присутствовал - задача не из лёгких», а историческое сопереживание - это вообще «сверхчеловеческая задача, требующая помощи божественной силы». Оттого муза Клио «предстает как архетипическая фигура воображения и вдохновения <...>. Ее задача, как инициатора сюжетной линии, вдохновить историю поэта. Она - мифическое существо, соединяющее промежуток между прошлым и настоящим. Она одаривает поэта возможностью видеть прошлое и рассказывать историю так, как будто бы он сам был свидетелем событий» [17].
Несмотря на женственно обаятельный облик Клио на тунисской мозаике, она ничуть не уступает по силе трагизма своей единокровной сестре Мельпомене. Образ Клио создается из абриса ее озабоченного лица, глубоких вопрошающих глаз, а также роскошной волнистой прически, округлых открытых плеч, полноватых рук и тонких пальцев, сжимающих свиток. Несомненно, в нем запечатлены деяния смертных, вовлеченных в ход неотвратимых исторических событий, регулируемых, по верованиям древних, бессмертными олимпийскими богами.
Узкие плечи, невысокая грудь, изящный стан, широкие бедра образуют пропорциональное единство этого живописного и гордого образа. На музе Истории накинута свободно задрапированная ниспадающая роскошная ткань, которая подвязана на поясе и закреплена на плече застежкой- фибулой . Подол складчатого паллиума (пеплоса) украшен инститой - плиссированной оборкой [3, с. 32]. Архитектурную стройность и уподобленную колоннам-портикам античных дворцов и храмов статность придают Клио вертикальные разводы на ее одежде. На мозаичной кладке они прорисованы драгоценными зеленовато-синими переливающимися камушками.
Сине-зеленый цвет ткани платья оттеняется драпировкой цвета золотистой охры, которая ассоциируется с крупными языками всеохватного пламени. Это зрительное ощущение усиливается сочетанием золотистого, желтого, красного, голубоватого, темно-зеленого, серого, черного бликов в костюме Клио, напоминая триаду пожара: огонь, тлеющие синеватые угольки и пепел. Внимательному зрителю у ног Клио открывается профильное изображение сброшенного воинского шлема с прорезью для глазниц и прорисовкой ровного ряда зубов, что невольно сближает его с тлеющим черепом. И этот ассоциативный ряд тянет за собой новые военно-исторические атрибуты: колено Вергилия напоминает выпукло-острый щит, а угловатые очертания его трона наводят на мысль о золотистом копье-молнии, идущем от плеча Клио и воткнутом в землю, символизируя необходимость прекращения кровопролитных войн. Образ орудий войны, забытых в мирные времена, встречается при описании Элизиума:
651 Храбрый дивится Эней: вот копья воткнуты в землю,
Вот колесницы мужей стоят пустые, и кони
Вольно пасутся в полях.
(«Энеида», кн. VI)
Трагическое начало проступает и в «вертикали» центрального образа панно - Вергилия. Эмоции сочувствия страждущим в бедах, скорби о рано ушедших в мир иной, боли за враждующее напрасно человечество читаем на лице и в широко открытых глазах Поэта, чья поэма наполнена антивоенным пафосом. Рисуя готовящихся к баталиям людей, он с сожалением констатирует: Больше ни серп не в чести, ни плуг: пропала к орудьям / Мирным любовь; лишь наследственный меч накаляется в горне (Кн. VII, 635/636). На мозаичном панно черный проем под троном Вергилия наводит на мысль о потайном входе в подземное царство и пребывании Энея в преисподней: встрече там вергилиева героя с душами многих его друзей, кровавыми мечами вершивших историю своей эпохи и нашедших мучительный конец в жарких сражениях на поле брани.
Таким образом, автор древнего мозаичного панно концептуально выдерживает трагическую линию в судьбах всех своих персонажей - и зримо представленных на картине, и подразумеваемых. Вслед за создателем «Энеиды», которого современники называли «автором побежденных» [9, с. 20], он вправе повторить: «Человеческие судьбы трогают душу» [26, с. 108] * (как вариант: «Страдания смертных трогают душу» / «Слезы людей трогают душу»).
Примечательно, что Вергилию принадлежит и другая крылатая фраза, где заявлен великий гуманистический почин: «Перековать мечи на серпы» [Там же, с. 108], впоследствии в ХХ веке н. э. подхваченный руководством ООН. Данная идея своеобразно преломляется в панно древнего мозаичиста, солидарного с поэтом Вергилием в его антивоенном пафосе. Попробуем и мы, созерцая картину, разобраться в этом.
Как нам видится, мастерство светотени многообразно и умело продемонстрировано древним художником на мозаичном рисунке. Все линии, начиная с обрамления картины и складок одежд, подчеркивают стройность замысла художника, следование классическим образцам в прорисовке предметов и образов. И только несколько «небрежно» выполненные художником очертания подставки для ног Вергилия и ее массивная светотень цепляют своей неожиданностью воображение зрителя, уже привыкшего к соразмерности и четкости линий. Одновременно здесь же неким «диссонансом» ко всей композиции картины выступает ножка трона со стороны музы Трагедии: она похожа то ли на лапу льва, то ли на чей-то мощный кулак, сжимающий некий согнутый пластинчатый предмет в руках. Внимательно исследуя этот предмет, обнаруживаем в нем металлический отсвет, красные блики на сгибе и форму заостренного меча на конце. Возникает ощущение, что это лезвие заржавевшего, погнутого оружия, напоминающего теперь крестьянский серп или лемех плуга с остатками прилипших комьев земли. Ко всему, левый рукав туники Вергилия вкупе со свисающей тканью тоги образует очертания изогнутого и по сути невостребованного во времена отсутствия воинственных баталий щита. Похоже, автор мозаики вслед за Вергилием утонченными изобразительными средствами нарисовал собственную поэму о войне и мире.
Создается впечатление, что человек, заказавший или сам сотворивший мозаику с Вергилием и музами, был подлинным знатоком искусства и современной ему действительности. Он обладал глубокими знаниями в области римской и греческой мифологии. Хорошо знал многовековую историю Римской империи. Интересовался военным искусством. Ему были знакомы законы архитектуры. Он владел навыками аналитического прочтения художественного текста. Имел солидные познания в области театрального искусства. Был носителем и знатоком традиционной римской культуры. Обладал прозорливостью и высоким провидческим даром.
В художественном панно мозаичиста удачным образом объединились архаический миф, сюжеты реальных исторических событий Древнего Рима, афористическая поэзия Вергилия, законы античной сценографии и особые принципы геометрического построения рисунка. Вслед за Вергилием древний мастер-мозаичист оставил свой завет потомкам: беречь землю от войн, уметь сострадать людям в их бедах, искренне любить каждого человека, чей земной век и так недолог. По Вергилию, гуманистичным гражданином вселенной может считаться в реальности тот человек, душу и сердце которого слезы рядом живущих смертных действительно трогают до глубины и побуждают к действенной помощи и активному состраданию.
Список литературы «Человеческие судьбы трогают душу» (читая «Энеиду» и созерцая мозаичное панно «Вергилий, вдохновляемый музами»)
- Аверинцев С. С. Поэты. М.: Школа «Языки рус. культуры», 1996. \
- Акимова Л. И. К проблеме «геометрического» мифа: шахматный орнамент//Жизнь мифа в античности. Материалы научной конференции «Випперовские чтения -1985». Вып. XVIII.Ч. I. С. 60-98. URL: http://ec-dejavu.ru/p/Publ_Shahmat.html.
- Блохина И. В. Всемирная история костюма, моды и стиля. Минск: Харвест, 2009.
- Вергилий. Собрание сочинений/Вступ. ст. В.С. Дурова. СПб.: Биографический институт «Студиа Биографика», 1994.
- Волков А. В. Карфаген. «Белая» империя «черной» Африки. М.: Вече, 2004.
- Гаспаров М. Л. Избранные статьи. М.: НЛО, 1995.
- Головня В. В. История античного театра. М.: Искусство, 1972.
- Данте А. Божественная комедия/Пер. М. Лозинского. Пермь, 1994.
- Дуров В. С. Поэзия Вергилия//Вергилий. Собрание сочинений. СПб.: Биографический институт «Студиа Биографика», 1994.
- Каптерева Т. П. Римская мозаика. Африка. М.: Белый город, 2008.
- Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. Минск: Современ. литератор, 2004.
- Кувшинова Е. Н. Основные закономерности мозаичных комплексов жилых зданий Нео Пафоса конца II -начала IV вв. н.э.: автореф. дис…канд. искусствовед. СПб., 1999.
- Ларионов А. И. Мозаичное искусство античности//Слово. Православный образовательный портал. Январь, 2012
- Лелеко В. Д. Пространство повседневности в европейской культуре. СПб. URL: 2002 http://nashaucheba.ru/v46994
- Ливий Т. Война с Ганнибалом. М.: Эксмо, 2011.
- Лосев А. Ф., Сонкина Г. А., Тахо-Годи А. А. Античная литература. М.: Просвещение, 1986.
- Мейер Р. Круг Клио. URL: http://castalia.ru/posledovateli-yunga-perevody/1006-rut-meyer-krug-klio-glava-2-arhetipicheskie-figuryi-istoricheskogo-voobrazheniya.html#ixzz2UW2W5D7v
- Моммзен Т. История Рима. М.: Эксмо, 2010.
- Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей/Пер. с лат., предисл. и послесл. М. Л. Гаспарова. М.: Худож. лит., 1990.
- Сергеенко М. Е. Жизнь древнего Рима/Науч. ред., сост. краткого глоссария А. В. Жервэ. СПб.: Летний Сад, 2000.
- Тронский И. М. История античной литературы. М.: Высш. шк., 1988.
- Ур-Мьедан М. Карфаген/пер. с франц. М.: Изд-во «Весь мир», 2003.
- Цивьян Т. В. Вергилианский миф в Средневековье//Цивьян Т.В. Язык: тема и вариации. Избранное. Кн. II. М.: Наука, 2008. С. 63-65.
- Чубова А. П., Касперовичюс М.М., Северкина Н.А. Искусство Восточного Средиземноморья I-IV веков. М.: Искусство. 1985.
- Шервинский С. В. Вергилий и его произведения//Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1971. С. 5-26.
- Хоромин Н. Я. Энциклопедия мудрости. URL: http://litrus.net/book/read/165679.