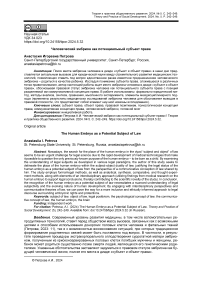Человеческий эмбрион как потенциальный субъект права
Автор: Петрова А.И.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
Поиск места эмбриона человека в диаде «субъект и объект права» в наши дни представляется актуальным вызовом для юридической науки ввиду стремительного развития медицинских технологий, позволяющих ставить под вопрос единственное ранее известное предназначение человеческого эмбриона - родиться в качестве ребенка. Исследуя понимание субъекта права, сложившееся в различных типах правопонимания, автор настоящей работы ищет место эмбриона человека в диаде «субъект и объект права», обосновывая правовой статус эмбриона человека как потенциального субъекта права с позиций разделяемой им коммуникативной концепции права. В работе использованы: формально-юридический метод, методы анализа, синтеза, сравнения, мысленного эксперимента, элементы междисциплинарного подхода (применены результаты медицинских исследований эмбриона человека для обоснования выводов в правовой плоскости, что представляет собой элемент научной новизны исследования).
Субъект права, объект права, правовой позитивизм, психологическая концепция права, коммуникативная концепция права, человеческий эмбрион, головной мозг
Короткий адрес: https://sciup.org/149145859
IDR: 149145859 | УДК: 34.023 | DOI: 10.24158/tipor.2024.5.32
Текст научной статьи Человеческий эмбрион как потенциальный субъект права
Понятие правосубъектности является одной из ключевых категорий в юриспруденции (Яковлев, 2020:19), детально разработанной в рамках различных теоретико- и философско-правовых концепций.
В настоящей работе будет осуществлен поиск места эмбриона в диаде «субъект и объект права» с позиций различных теоретико-правовых концепций и действующего законодательства.
Методы . Представленное исследование проведено с использованием формально-юридического метода, методов анализа, синтеза, сравнения, мысленного эксперимента, элементов междисциплинарного подхода.
Результаты и обсуждение . Традиционно в юридической науке понятие субъекта права раскрывается в русле правового позитивизма через категорию правосубъектности в ее двух компонентах: абстрактной признанной правопорядком способности (возможности) иметь права и обязанности (правоспособности)1 и возможности своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности (дееспособность)2 (Архипов, 2004: 124).
Стоит отметить, что в правовом позитивизме возможность быть субъектом права понимается не как естественное свойство человека, а исключительно как создание объективного права3. Г.Ф. Шершеневич писал, что «субъект права – не антропологическое, а чисто юридическое представление (Шершеневич, 2016: 498–499). При этом свойство правоспособности может присутствовать у субъекта права без дееспособности: малолетние и недееспособные правосубъектны, но права от их имени осуществляют опекуны (Шершеневич, 2016: 500); закон может создать субъекта права не только в лице живого человека, но для того, чтобы субъект обладал правами, а именно мог осуществлять свои интересы под охраной правопорядка, нужно, чтобы за ним скрывались в той или иной форме люди (Шершеневич, 2016: 502).
Развивая логику данной мысли, можно было бы предположить, что по большому счету у законодателя отсутствуют препятствия для признания правосубъектными человеческих эмбрионов наряду с новорожденными детьми, что подразумевает, соответственно, и разработку нормативной конструкции, предполагающей, что права от лица эмбриона, как и от лица новорожденного или малолетнего ребенка, осуществляет его законный представитель.
Рассмотрим вопрос состоятельности данной гипотетической конструкции как с теоретической точки зрения, так и с привлечением нормативных положений действующего российского законодательства.
Согласно части 2 статьи 17 Конституции Российской Федерации «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения»4. По пункту 2 статьи 17 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), «правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью»5. На основании пункта 1 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), «ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия)»6. Этапы увеличения объема дееспособности физического лица по мере достижения определенного возраста и в случае наступления предусмотренных законом юридически значимых фактов (вступление в брак, прохождение процедуры эмансипации) установлены статьями 21, 26–28 ГК РФ7.
Таким образом, на примере действующего российского законодательства мы видим, что моментом начала отсчета существования человека как субъекта права – физического лица является момент его рождения.
В свою очередь, под объектом права для целей данного исследования понимается предмет, на который направлена деятельность субъектов права по реализации их прав и обязанностей. В его качестве могут выступать различные социальные блага (ценности): вещи, продукты духовного творчества, личные неимущественные блага (жизнь, здоровье, честь), поведение участников правоотношения (Дудин, 1980: 67).
Представленная выше с позиций правового позитивизма возможность признания эмбриона человека субъектом права столкнулась бы с существенными практическими сложностями со стороны самого юридического позитивизма. Так, одной из граней понимания субъекта права является его восприятие как юридической внешности – порожденный правовым позитивизмом признак правовой персонификации (Пономарева, 2020: 11).
Первоначальным документом, удостоверяющим личность новорожденного ребенка, является свидетельство о рождении. Оно выдается уполномоченными органами в рамках процедуры, предусмотренной Федеральным законом от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», подразумевающей, что должны быть представлены предусмотренные действующим законодательством медицинские документы, подтверждающие факт рождения ребенка в медицинской организации, либо, при их отсутствии, – решение суда, подтверждающее данный факт1. При этом происхождение ребенка от родителей (единственного родителя) устанавливается по правилам, предусмотренным главой 10 СК РФ, согласно которым определяющими факторами для установления факта родства между родителями и ребенком в отношении матери являются документы о рождении ею ребенка, в отношении отца – наличие зарегистрированного брака между ним и матерью ребенка либо признание им отцовства2.
В свою очередь, эмбрион человека в период беременности не объективирован как отдельный живой индивид (Петрова, 2023: 17). Он не может существовать вне материнского организма, в частности, кровообращение зависит от организма матери, на протяжении большей части беременности нет возможности самостоятельной работы его дыхательной системы (Романовский, 2017: 24). Более того, до момента родов с благоприятным исходом достоверно невозможно утверждать, что плод объективируется как отдельный индивид – ребенок, поскольку беременность может прерваться либо ребенок погибнет при родах (Петрова, 2023: 17). Персонификацию нерожденных детей осложняло бы то, что пол ребенка при установлении факта беременности известен не сразу либо данные ультразвуковой диагностики в отношении него могут изменяться, после начала беременности как одноплодной могут быть установлены медицинские показатели ее многоплодности, которая не исключает возможности упомянутой выше гибели одного из нерожденных детей в период беременности или в родах. В случае гипотетического подтверждения факта наличия эмбриона человека как субъекта права данные обстоятельства требовали бы изменения документов, подтверждающих его персонификацию, и влекли бы нестабильность правовых отношений, в которые через законного представителя вступал бы нерожденный ребенок. Также сложности правовой персонификации эмбрионов и в последующем новорожденных детей возникли бы в связи с возможными изменениями семейного положения родителей, такими как: вступление беременной женщины в брак; желание установить отцовство в отношении ребенка разными партнерами беременной женщины, не состоящей в браке, до и после рождения ребенка; нежелание беременной женщины быть указанной в качестве матери ввиду намерения отказаться от ребенка после родов. Все эти факторы существенно усложняли бы правовую персонификацию нерожденных и новорожденных детей, требуя совершения совершеннолетними заинтересованными лицами дополнительных юридически значимых действий и не способствуя стабильности правоотношений с участием нерожденных и новорожденных детей.
Одним из оригинальных философско-правовых подходов к пониманию права является психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Применительно к субъектам права он писал, что «как и в других областях науки о праве, сфера нахождения и изучения подлежащих явлений перемещается из внешнего мира в психику переживающих правовые психические процессы, приписывающих разным представляемым существам обязанности и права; задачей подлежащих исследований и учений является ознакомление с подлежащими фактами правовой психики, констатирование того, что имеется в этой психике в качестве субъектных представлений и в каком виде оно здесь имеется, без произвольных перетолковываний» (Петражицкий, 2000: 330). На вопрос о том, кто может быть субъектом правоотношений, обязанностей и прав, с позиций своей теории Л.И. Петражицкий отвечал, что «субъектными представлениями в области правовой психики могут быть всевозможные представления персонального, личного характера; поскольку с этими представлениями ассоциируются правовые эмоции и другие представления, объектные и т. д. так, что подлежащему представляемому приписываются права и обязанности, предметы этих представлений являются субъектами права. Подлежащих (представляемых) существ сообразно богатству и причудливости человеческой фантазии необозримое множество: разные предметы неживой, но представляемой одушевленной природы: камни, растения и проч., животные и их духи, люди, их зародыши 3, их духи после смерти…» (Петражицкий, 2000: 333).
Таким образом, с позиций Л.И. Петражицкого, эмбрион человека может быть субъектом права, если имеет место соответствующая правовая императивно-атрибутивная эмоция, приписывающая эмбриону права и, соответственно, иным субъектам обязанности по отношению к нему (Петражицкий, 2000: 126–128). Однако, критически оценивая данный посыл, используя понимание субъекта права, близкое к философскому пониманию субъекта как носителя предметнопрактической деятельности и познания,1 мы видим, что полноценным субъектом права, как участником правоотношений, эмбрион человека быть не может – он не является участником общественных отношений, степень его развития как человеческого существа не позволяет ему самому осознать долженствование другого по отношению к нему (Петражицкий, 2000: 129), и эмбрион человека не может выступать субъектом обязанности. Наглядно невозможность признания человеческого эмбриона субъектом права проявляется, если мы попытаемся представить, какие из трех структурных элементов субъективного права – право-поведение (возможность действовать или не действовать неким образом), право-требование (возможность требовать от другой стороны в правоотношении некого поведения), право-притязание (возможность требовать социальной защиты, в т. ч. со стороны государства в случае неисполнения другой стороной ее обязанно-стей)2 – эмбрион мог бы реализовывать самостоятельно. По результатам данного мысленного эксперимента очевидно, что самостоятельно осуществить какой-либо из трех элементов субъективного права эмбрион человека не может. Даже право-требование надлежащего отношения к эмбриону (например, в ситуациях необходимости сохранения существования эмбриона ввиду запрета абортов по желанию женщины на поздних сроках беременности) фактически реализуется не эмбрионом, а окружающими лицами, которые должны проявлять отношение к эмбриону как к некой социальной ценности, т. е. объекту правоотношений, со стороны правопорядка в лице конкретных участников общественных отношений. Вместе с тем следует оговориться об определенной неоднозначности данной теоретико-правовой констатации. А именно, с позиций концепции выделяемых в современной западной философии права «моральных прав», которые, в свою очередь, являются аналогом «естественного права» в терминологии известного отечественного мыслителя В.С. Соловьева, можно сказать, что эмбрион имеет право на некое обращение с ним, поскольку законодатель и сознательные, активные участники правовых отношений признают за ним определенное ценностное значение и должны действовать по отношению к нему определенным образом (Поляков, 2021: 48–49). Данный аспект будет подробнее рассмотрен автором настоящей статьи при проведении последующих исследований.
Мы придерживаемся одного из современных интегральных подходов к правопониманию, использующего постклассическую методологию, – коммуникативной концепции права. В ее рамках субъект права – это активный коммуникант, обладающий необходимым интеллектуальным уровнем, чтобы понять логический смысл нормы и «проговорить» его для Другого, способный реализовывать ценностно-интеллектуальные акты признания текстов в качестве правовых, обладающий правовой волей, способный соотносить свое поведение с требованиями правовых норм3 и реализующий их во взаимоотношениях с другими участниками коммуникации (Петрова, 2023: 14). С учетом изложенного, в рамках данной концепции права «деятельным субстратом» субъекта права может быть только взрослый граждански зрелый человек (Петрова, 2015: 257). Говорить о его правосубъектности возможно лишь в единстве двух ее традиционно выделяемых аспектов (право- и дееспособности), понимая под ней способность выступать носителем субъективных прав и обязанностей и способность лично их осуществлять (Петрова, 2023: 17). В настоящее время в русле коммуникативной концепции права проводятся научные изыскания, направленные на обоснование уникальности человека как субъекта права неповторимыми свойствами его биосоциальной природы, проистекающими из особенностей деятельности его мозга, отличающих нас от других живых существ (см., в частности: Поляков, 2022; Петрова, 2023).
В контексте последнего следует отметить, что последовательность развития систем головного мозга эмбриона человека в первую очередь направлена на поддержание возможности физического существования ребенка вне материнского организма после рождения4, формирование же социальных навыков будет происходить позднее, в период внеутробной жизни ребенка5.
Интересно отметить, что самые функционально сложные поля головного мозга, которые связаны с осуществлением специфически человеческих функций высокого порядка – абстрактного мышления, членораздельной речи, гнозиса, праксиса и т. д. (таковыми являются, в частности, речедвигательные поля 44 и 45) продолжают развиваться после рождения ребенка. Так, кора лобной области закладывается у 5-месячного плода, полное созревание затягивается до 12 лет жизни1.
Эмбрион человека не объективирован как отдельный живой индивид и в течение большей части эмбрионального развития не смог бы поддерживать свою жизнедеятельность вне материнского организма, т. е. он не является социальным субъектом даже в контексте осуществления матерью заботы о нем, а нуждается в организме матери как в среде обитания.
Как было отмечено выше, моментом начала отсчета существования человека как субъекта права – физического лица – является момент его рождения, тем самым эмбрион человека не признается субъектом права. Справедливость этого подхода показана выше с использованием различных теоретико-правовых концепций и с привлечением медицинских данных, не позволяющих говорить об эмбрионе как о социальном субъекте, несмотря на его принадлежность к человеческому роду.
Можно сказать, что с точки зрения действующего законодательства человеческий эмбрион воспринимается как часть тела матери, некий объект, которым она может распорядиться по своему усмотрению. Подтверждение этому находится в статье 56 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», устанавливающей сроки возможного искусственного аборта (исключительно по желанию женщины – при сроке беременности до 12 недель2, по социальному показанию (согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 06.02.2012 г. № 98 «О социальном показании для искусственного прерывания беременности» им является наступление беременности в результате изнасилования)3 – до 22 недель, при наличии медицинских показаний – независимо от срока беременности)4.
Вместе с тем из изложенного видно, что чем ближе беременность к моменту родов, тем выше степень правовой охраны эмбриона со стороны отечественного законодателя, тем меньше возможностей для беременной женщины прервать беременность исключительно по своему желанию. Это позволяет говорить о том, что с увеличением срока гестации законодатель все больше видит в эмбрионе потенциального субъекта права, будущего человека, чье существование и впоследствии, по мере рождения, жизнь нуждается в правовой охране.
Более явные аргументы в пользу признания потенциальной правосубъектности человеческого эмбриона можно найти в нижеприведенных нормативных предписаниях.
Так, в Декларации ООН о правах ребенка от 20.11.1959 г., Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г. предусмотрено, «что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения »5.
В ряде зарубежных конституций установлено, что человеческая жизнь достойна охраны еще до рождения. Данные положения предусмотрены, в частности, в статье 15 Конституции Словацкой Республики от 01.09.1992 г.6, статье 6 Конституции Чешской Республики от 16.09.1992 г.7
Конституция Российской Федерации норм такого рода не содержит. Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрено, что наступление последствий в виде прерывания беременности позволяет квалифицировать умышленное причинение вреда здоровью в качестве тяжкого вреда (статья 1118), что опять же позволяет говорить об эмбрионе как о части тела будущей матери, ее правовом благе. Статьей 123 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности, т. е. проведение этой операции «лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля». При этом для ряда преступлений против личности и против общественной безопасности их совершение в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, является квалифицирующим признаком1, поскольку при их совершении может пострадать и будущая человеческая жизнь. ГК РФ предусматривает механизмы охраны прав и законных интересов нерожденных наследников. Так, согласно пункту 1 статьи 1116 ГК РФ, «к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства»2. В соответствии со статьей 1166 ГК РФ «при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения»3.
История правовой мысли показывает, что механизмы охраны прав нерожденного наследника имеют древнюю природу и сложились еще в римском праве. Польский профессор П. Ничи-порук подробно исследует терминологию и правовые конструкции, применявшиеся в соответствующий период к нерожденным детям, резюмирует, что в римском классическом праве для определения статусов libertatis , civitatis и familiae достоверным считался не момент рождения ребенка в законном браке, а момент его зачатия. Применительно к наследственным правоотношениям плод во чреве матери воспринимался наравне с уже родившимся человеком, когда речь шла об имущественной выгоде самого плода. Однако пока он не родился, признавалось, что сам он не в состоянии принести пользу другому лицу (Ничипорук, 2004).
Заключение . Опыт правовой охраны интересов нерожденной человеческой жизни имеет давнюю историю. Особенно явно отношение законодателя к эмбриону человека как к потенциальному субъекту права проявляется в наследственных правоотношениях: он сможет участвовать в правоотношениях (быть наследником), если родится живым.
Развитие головного мозга эмбриона в период беременности в первую очередь призвано обеспечить физическое выживание ребенка после родов; биологические свойства мозга, призванные обеспечить возможность социального взаимодействия ребенка, развиваются на более поздних этапах беременности и так же направлены на взаимодействие со взрослыми ради удовлетворения физиологических потребностей ребенка. В части проблематики уголовно-правовой охраны эмбриона человека, половых клеток и тканей репродуктивных органов человека в научной литературе высказана мысль о том, что обеспечить правовую охрану эмбриона возможно без придания ему статуса человеческого индивидуума, т. е. субъекта права, а посредством признания его объектом репродуктивных прав (Малышева, Малышев, 2021: 113). С учетом результатов проведенного исследования полагаем данную мысль справедливой. Вместе с тем эмбрион человека станет субъектом права и самостоятельным участником правовой коммуникации в случае благоприятного исхода родов, а также по мере взросления и социализации (Петрова, 2023: 17), в ходе которых будут развиваться свойства его головного мозга, позволяющие ему быть участником социальных, и, соответственно, правовых, отношений, поэтому, по нашему мнению, эмбрион человека следует признавать объектом права и одновременно потенциальным субъектом права (Петрова, 2023: 17).
Полагаем, что законодателю следует крайне взвешенно подходить к формулированию правовых конструкций, регулирующих оказание медицинской помощи в сфере репродукции человека, принимать при этом во внимание эйдетическую ценность человеческого эмбриона как будущей человеческой жизни; учитывать, что в период эмбрионального развития закладываются и развиваются все те морфологические структуры человеческого организма, в том числе головного мозга, которые после рождения позволят ему стать подлинным социальным субъектом, и, как следствие, учитывать первичное биологическое предназначение эмбриона человека – родиться в качестве ребенка.
Список литературы Человеческий эмбрион как потенциальный субъект права
- Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб., 2004. 469 с.
- Биомедицинские технологии и право в третьем тысячелетии: монография / В.П. Сальников [и др.]; под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб., 2003. 256 с.
- Дудин А.П. Объект правоотношения: (вопросы теории). Саратов, 1980. 81 с.
- Малышева Ю.Ю., Малышев К.В. О некоторых вопросах репродуктивных прав человека, донорства и ятрогений с позиций уголовного закона // Право и биоэтика инновационных медицинских технологий: монография. М., 2021. С. 109–132.
- Ничипорук П. Nasciturus-postumus: римская юридическая терминология, применяемая для определения зачатого ребенка // Древнее право. Ivs antiqvvm. 2004. № 2 (14). С. 116–131.
- Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности / отв. ред. И.Ю. Козлихин, Ю.А. Сандулов. СПб., 2000. 608 с.
- Петрова А. Человеческий эмбрион – субъект или объект права? // Право, общество, государство: вопросы теории и истории: сб. материалов Всерос. студ. науч. конф. М., 2015. С. 257–260.
- Петрова А.И. К вопросу об уникальности человека как подлинного субъекта права // Право и практика. 2023. № 2. С. 11–19. https://doi.org/10.24412/2411-2275-2023-2-11-19.
- Поляков А.В. Принцип взаимного правового признания: российская философско-правовая традиция и коммуникативный подход к праву // Труды Института государства и права РАН. 2021. Т. 16, № 6. С. 39–101. https://doi.org/10.35427/2073-4522-2021-16-6-polyakov.
- Поляков А.В. Перспективы развития российской философии права в контексте когнитивных исследований и нейро-научных данных // Российская юстиция. 2022. № 12. С. 30–42. https://doi.org/10.52433/01316761_2022_12_30.
- Пономарева Е.В. Феномен квазисубъекта права: вопросы теории: монография / под ред. Докт. Юрид. Наук, доц. С.И. Архипова. М., 2020. 160 с.
- Романовский Г.Б. Человеческий эмбрион: субъект или предмет правоотношений? // Юрист. 2001. № 11. С. 48–51.
- Романовский Г.Б. О праве на аборт в России и за рубежом // Гражданин и право. 2017. № 5. С. 17–30.
- Шершеневич Г.Ф. Избранное: в 6 т. / вступ. Слово, сост. П.В. Крашенинников. М., 2016. Т. 4. 752 с.
- Яковлев В.Ф. Предисловие // Правосубъектность: общетеоретический, отраслевой и международно-правовой анализ: сборник материалов к XII Ежегодным научным чтениям памяти профессора С.Н. Братуся / под ред. А.В. Габова [и др.]. М., 2020. С. 19–20.