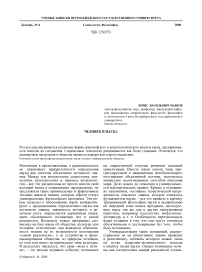Человек и наука
Автор: Марков Борис Васильевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Социология. Философия
Статья в выпуске: 4 (97), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются различные формы философского и антропологического анализа науки, предпринимается попытка их соединения. Современные технологии расцениваются как более гуманные. Отмечается, что антинаучные настроения в обществе являются пережитком старого мышления.
Философская антропология, наука, человек, информационное общество
Короткий адрес: https://sciup.org/14749489
IDR: 14749489 | УДК: 133(075)
Текст научной статьи Человек и наука
Революция в представлениях о рациональности не затрагивает приоритетности определения науки как системы объективно истинного знания. Между тем методология, социология, психология, культурология и, наконец, антропология – все эти дисциплины не просто внесли свой весомый вклад в современное науковедение, но предложили такие оригинальные и эффективные техники анализа знания, которые обрели статус универсальных философских программ. Эти новые подходы к обоснованию науки конфронтируют с традиционным определением науки как истинного знания, значимость которого, в конечном счете, определяется адекватным описанием объективного положения дел в самой реальности. Поскольку новые программы сложились на базе науки об обществе, культуре или человеке, естественно, они выводили объективность знания не из возможности постижения «самой реальности», а из устройства и функционирования общества, из природы человека, из того или иного исторического типа культуры. В результате оказалось, что сама «воля к истине» – это весьма недавнее событие, возникшее на определенной ступени развития западной цивилизации. Вместо науки одного типа, прогрессирующей в направлении всеобъемлющего постижения объективной истины, получилось множество несоизмеримых способов описания мира. Дело дошло до сомнения в универсальности математических правил. Кризис в основаниях математики, осознание теоретической нагру-женности опытного знания, которое считалось фундаментом науки, – все это привело к кризису традиционной философии науки и выдвижению на передний план новых программ, исследующих науку так же, как и другие дискурсивные практики, например идеологию, мифологию, литературу и т. п. Особенность перечисленных форм сознания в том, что они могут считаться объективными и достоверными без того, чтобы быть истинными.
Универсализация таких концепций, распространение их на объективное знание приводят к релятивизму, избежать которого можно лишь на путях теоретико-истинностного подхода к анализу языка науки. Однако понимание истины как соответствия знания реальности сталки-
вается с серьезными затруднениями, и это создает весьма неопределенную ситуацию. Парадокс в том, что наиболее распространенный семантический способ учреждения статуса истинности научного знания подтверждает правоту социологов и антропологов, но при этом указывает им вполне определенные границы, за пределы которых они не должны выходить. Поэтому кроме признания легитимности культурантропологиче-ского анализа перед философией науки стоит более важная методологическая задача: как совместить идею объективной истины с признанием зависимости ее проверки от субъективных, исторически относительных факторов? Единство человеческого рода не предопределено биогенетически. Человек – это не только биологический вид, но и культурное существо. В культурах разных народов есть общая основа, например способности к языку и познанию. В каждой культуре люди вступают в отношения с природой и друг с другом, изобретают орудия труда, строят жилище, создают семью, заботятся о подрастающем поколении. Все это определяет общность homo sapiens. Таким образом, антропологическое обоснование, включающее генезис первичных культурных технологий производства человека, помогает раскрыть и оправдать универсализм науки.
АНТРОПОЛОГИЯ НАУКИ
Если обобщить принцип относительности, то познание объективной реальности, помимо приборов и концептуальных каркасов, обусловлено особенностями человека и зависит от них. Очевидно, что наука, как и другие формы деятельности, должна быть «человекоразмерной». Однако попытка работать на основе такой простой и очевидной антропологической установки приводит к элементарному логическому кругу. Дело в том, что наука, как и другие социальные институты, не только требует, но и успешно формирует, воспитывает такие качества людей, которые необходимы для успешного функционирования системы. Стало быть, задача антропологии науки вовсе не в том, чтобы вовлекать индивидуальную биографию в объяснение возникновения новых научных теорий. Современная наука – сложный институт, и движение в нем не всегда зависит от таланта и работоспособности ученого. Сегодня даже специалисты плохо понимают друг друга, а роли, исполняемые в науке, хотя и иерархизированы, не могут одинаково успешно осуществляться одним и тем же человеком.
Философия науки занимается интеграцией различных методов анализа знания. Поэтому задача состоит в том, чтобы «вписаться» и в без того достаточно разнородный набор методов анализа науки. Проблема же состоит в том, чтобы при этом сохранить антропологическую установку и раскрыть участие человека в познании объективной истины. Что может или должно быть и что фактически выступает основой единства знания – экзистенциально-антропологические или системные дисциплинарные параметры? Одни настаивают на возвращении в науку жизненного мира (лирики), другие – на открытии фундаментальных теорий (физики), третьи – на совершенствовании методов организации науки.
Антропологический подход, или принцип, получил распространение в результате секуляризации. Мы часто используем терминологию, введенную теологами, но придаем ей иной смысл. Например, понятие просвещения первоначально относилось к источнику всяческого света. Аналогичным образом познание как истолкование «книги природы» соотносилось с Творцом, которому приписывался предикат мудрости. Да и современный образ универсальной науки фактически построен по аналогии с божественной мудростью. Отличие состоит в том, что научное знание не завершено, но его развитие принимает кумулятивный характер, определяемый накоплением фактов и открытием всеобщих законов.
В рамках теологической парадигмы человеку отводилась явно второстепенная роль. Да и в античности разум был достоянием не человека, а бытия. Когда вера в Бога стала, так сказать, частным делом, необходимо было указать на нового субъекта познания. Естественно, на эту роль мог претендовать только человек. Понимание его как автономного индивида, родового существа или гражданина мира – это семейный спор в рамках нового мышления.
Чтобы определить предмет антропологии науки, необходимо уяснить, что такое антропология сегодня. Как специальная дисциплина она возникает в начале XIX века, и ее основной проблемой становится поиск предка современного человека. Однако по мере развития знаний о первобытных людях накапливались знания не только о морфологических особенностях, но и о поведении, мышлении, образе жизни примитивных народов. Так на базе истории культуры и этнологии возникает культурная антропология, согласно которой «природа человека» определяется уровнем развития культуры.
Антропология науки учитывает человеческие условия возможности познания. Субъект – это не всеведущий бог и не трансцендентальный субъект, а конкретный человек, который занимается наукой, будучи подвластен биологическим потребностям, социальным обстоятельствам и культурным условиям. То, как ведут, точнее, вынуждены вести себя люди, определяется устройством институций. Антропологические константы определяются вовсе не этничностью как совокупностью психофизиологических качеств, составляющих «природу человека», а социально-культурными особенностями той искусственной окружающей среды, которую выстраивает тот или иной народ или этнос. Поэтому при попытке дать антропологическое обоснование науке мы неизбежно приходим к изучению устройства новоевропейской культуры и возникно- вения ее подсистем – науки и образования, которое играет решающую роль в воспитании качеств, требующихся от ученых.
Благодаря твердой уверенности в том, что научное знание представляет собой отражение реальности, как она существует «сама по себе», мы и терпим науку, несмотря на опасные последствия ее новых открытий. Может быть, вера в то, что человечеству удастся сладить с издержками научного прогресса, поддерживается еще и тем, что пока благо, даваемое наукой обществу, перевешивает зло, возникающее при использовании ее в качестве средства достижения антигуманных целей.
Проблемы и противоречия науки и гуманизма, науки и этики, человека и ученого возникают потому, что сложные системы, в которых формируются и живут люди, навязывают выполнение множества ролей. То, что называют культурой, обществом, представляет собой весьма сложный продукт разнообразных исторических практик. В эпоху формирования государств и развития высоких культур, когда тот или иной народ становится суперэтносом, социальный механизм обретает все большую автономность и преобразует, воспитывает, возделывает, культивирует рожденных и вскормленных матерями младенцев для своих нужд. Детей отправляют в детский сад, школу, университет, где из них готовят агентов системы, которая изначально создавалась как большая теплица, в которой вынужден обитать неприспособленный к дикой природе человек, а потом автономизировалась и стала сама определять и формировать необходимые для ее функционирования качества людей.
Об антропологии науки, как, впрочем, об антропологических условиях любой социальной деятельности имеет смысл говорить постольку, поскольку высшие, называемые по человеческим меркам формальными, бездушными, отчужденными подсистемы общества должны сами опираться на прочный фундамент первичных антропотехник раннего периода детского развития. В случае противоречия между ними, идеологически осмысляемого как «отчуждение», ни бюрократия, ни производство, ни наука, ни какие-либо иные формы организации социальной активности не имеют шансов на существование.
Антропологические параметры любой формы социальной деятельности необходимо выявлять и учитывать потому, что по мере нарастания достатка и благоденствия люди уже не соглашаются на отказ от первичных удовольствий, которые они получают от приватной жизни, построенной по принципу теплицы. То, что судьба науки связана с воспроизводством человека с фиксированным набором как физических, так и интеллектуальных способностей, не учитывается философией науки. Антропологический подход к науке, уравнивающий ее с другими формами ритуальной деятельности, встречает такое же сопротивление ученых, как антрополо- гический принцип Л. Фейербаха у теологов. Это и наводит на мысль о том, что в борьбе с теологией ученые многому у нее научились (Бог присутствует в науке в форме геологической вечности, законов природы) и усвоили, что они являются посредниками между природой и людьми, как теологи – между Богом и человеком. Соответственно, университеты переняли от Римской церкви монополию на подготовку интеллектуальных кадров.
Социокультурный и антропологический принципы заменяют Бога-отца, прародителя всего сущего, человеком или социумом. Популярно говоря, антропологи XX столетия поставили на место Бога орангутанга. Между тем Ж.-Б. Ламарк, создавший классификационную модель природы, в которой виды животных, созданные Богом, пребывали в неизменном состоянии, Ж. Бюффон с его динамической теорией зарождения новых видов, Ж. Кювье, предложивший теорию катастроф для объяснения вымирания видов, и даже Ч. Лайель и его ученик Ч. Дарвин вовсе не конфронтировали с концепцией творения, и поэтому их теории были встречены обществом достаточно спокойно. Скандал разразился позже, когда дарвинисты заострили вопрос о существовании животного предка человека – обезьяны. Именно это вызвало серьезное сопротивление со стороны общества, образование которого еще строилось на теологическом основании.
Теория эволюции Дарвина устранила угрозу вымирания видов, о котором свидетельствовало множество фактов, и поэтому была встречена благожелательно. Отказ от божественного протектора, творца первой пары людей, в пользу обезьяньего предка датируется 1860 годом, когда Т. Гексли – верный последователь Дарвина – активно включился в дискуссию, начатую теологами. Он полагал, что развитие человека шло по линии обезьяна – черные – белые. Его противник Уейтли считал, что раз дикари не могут сами себя цивилизовать, то это доказывает работу божественного наставника. В ходе затянувшихся споров теология окончательно сдала позиции биологии, и обезьяна победила Бога. Однако революционность замены Бога человеком, а последнего – животным предком весьма сомнительна. Как и прежде, историки науки пытаются отыскать некого праотца как европейской науки в целом, так и ее исторических парадигм. Между тем факты говорят о том, что у той или иной новой фундаментальной теории, производящей парадигмальный сдвиг в науке, может быть множество отцов, поэтому традиционная модель творения здесь не подходит. Например, то, что нам кажется революционным в теории Дарвина – борьба за существование и естественный отбор, не удивляло его современников, так как теория Мальтуса была общепризнанной. Важным казалось другое. Дарвину удалось раскрыть механизм видообразования и таким образом устранить неприятные последствия катастро- физма. Это обнаруживает множество мотивов и оснований теории Дарвина. Считать, что она является только обобщением фактов, было бы неосмотрительно, ибо изменение видов на практике происходит крайне редко. Ссылка на теорию Т. Р. Мальтуса, которая встречается у самого Дарвина, тоже мало что проясняет, так как необходимо понять, почему эта отнюдь не естественнонаучная концепция использовалась в науке. Приходится учитывать человеческий фактор. Действительно, Дарвин вынужден был вести борьбу за место под солнцем и сам финансировал свое путешествие. Что заставило его отказаться от традиционного способа построения карьеры: невозможность вписаться в традиционную систему достижения научного звания, решимость искать истину на свой страх и риск, стремление создать новую дисциплину и прославиться в качестве ее основоположника? Историкам науки следует самым серьезным образом переосмыслить гумилевскую теорию пассионарности.
Позиция эволюционизма в культурологии была сформулирована Э. Тейлором в работе «Первобытная культура», где постулирована концепция культуры как некой элементарной единицы общества. Тейлор разработал и широко применял компаративный метод исследования: феномены культуры могут быть классифицированы и ранжированы по стадиям в соответствии с вероятным порядком эволюции. Речь идет о согласовании развития социальных и биологических структур. Курс антропологии стал преподаваться в американских университетах в 80-е годы XIX столетия. В этом курсе упор делался на культуру, а не эволюцию. В XX веке техника полевых исследований существенно модернизируется, и основное понятие старой антропологии, понятие «первобытного общества», претерпевает инфляцию. В основе эволюционной теории происхождения человека скрыто допущение о наличии высокого интеллекта у дикарей, которые должны были изобрести первые орудия труда. Другая трудность состоит в том, что в оседлых обществах с устоявшимися традициями отсутствуют мотивы для новации. Отсюда – крен антропологии от культуры к социальным наукам. В результате возникло множество сепаратных антропологий для экономики, педагогики, политологии и т. п. Можно указать на две антропологические предпосылки понимания истории вообще и истории науки в частности. Во-первых, допущение о биологической недостаточности человека, согласно которому человек не может существовать самостоятельно и в одиночку, а только коллективно. При этом социальность реализуется в формах иерархических, солидарных или либеральных обществ. Во-вторых, допущение о генетической недостаточности, согласно которому для передачи социальной организации приходится использовать рациональность, то есть обучать молодое поколение нормам и правилам коммуникации.
Таким образом, в человеческом сообществе реализуется единство природного, социального и разумного. Однако на теоретическом и дисциплинарном уровнях между этими феноменами проводится резкая граница. Что касается понятий «природного», или собственно «антропологического», то в их понимании есть много неясностей. Расовая теория, генетика, концепции искусственного интеллекта и цивилизации на неорганической основе явно абсолютизируют нечеловеческий аспект. Наоборот, сторонники социологизма считают, что все в человеке, природа которого пластична, зависит от воспитания. Конечно, человек – это биологический организм, имеющий объективные параметры существования. Однако он более или менее индифферентен по отношению к ментальности. Люди разных рас и национальностей, жители городов и маленьких поселений не слишком сильно отличаются по интеллекту, если они получили примерно одинаковое воспитание и образование.
Однако учебники меняются вслед за изменением наших знаний, а человеческая природа неизменна. Но индифферентность ее относительно социальности и рациональности только кажущаяся. Действительно, каждый человек считает правильными, истинными тот общественный строй, в котором он родился и вырос, и те знания, которые он получил в процессе обучения. Но это не означает, что природу человека можно не принимать во внимание. Скорее наоборот. Усваивается, принимается как родное то, что согласуется с этой природой. Хотя знания о мире, о справедливом порядке, о правильной жизни у человека меняются, все же существуют возрастные границы научения, и определяющим остается то, что усвоено в ранние годы. Даже языковая и мыслительная способности, не говоря о других, формируются у ребенка до того, как его успевают отдать в школу.
Сегодня социальная среда и символическая оболочка не представляют собой монолитный защитный панцирь, а напоминают, по образному выражению П. Слотердайка, пену. Впрочем, раньше противоречий тоже хватало, но если кто-то упорствовал, указывая на них пальцем, по отношению к нему применяли самые суровые санкции. Наиболее яркие примеры – сожженные Дж. Бруно и М. Сервет, отрекшийся от гелиоцентризма Г. Галилей, временами осуждаемый Ч. Дарвин. В 20-е годы XX века в Америке прошли «обезьяньи» процессы. Недавно и у нас родители школьницы подали в суд, протестуя против включения теории эволюции в школьную программу.
Основу школьного образования составляют знания о внешнем мире. Конечно, знание – это не инстинкты, а мир человека отличается от окружающей среды животных. М. Хайдеггер справедливо писал о человеке как просвете бытия. Однако нельзя не признать и то, что приспособление к миру на основе знания обусловлено именно антропологическими особенностями homo sapiens и, прежде всего, его природной недостаточностью и неприспособленностью. Поскольку младенец рождается незавершенным и лишенным программы поведения в окружающей среде, он нуждается не только в тепличных условиях существования, но и в научении. Это и объясняет тот факт, что язык запускается немедленно.
Л. Леви-Брюль отметил заботу о детях, а также весьма затянутый период детства. Состояние несовершеннолетия длится до посвящения. До этого юноша как бы на побегушках, он как бы не существует. Испытания являются долгими и мучительными, порой доходят до настоящих пыток: бичевание, подрезание, укусы ядовитых насекомых и т. п. Речь идет не просто об испытании, а о партиципации с мистической реальностью. Леви-Брюль назвал мышление древних людей, которое безразлично к принципу непротиворечивости, «пралогическим». Однако и мышление современных людей не всегда согласовано с принципами логики. Партиципация характерна как для диких, так и цивилизованных народов. Нечто похожее имеет место и в науке. Студент, аспирант, докторант должны преодолеть определенные барьеры на пути к защите. Защита дипломной работы, диссертационного исследования сильно напоминает посвящение. Главное в том и другом случае – не профессионализм, не личные достоинства, а вхождение в группу, использующую системную организацию для совершения действий, которые невозможно осуществить в одиночку.
На социум можно взглянуть через призму системного подхода и антропологии. Тогда он предстает как некий сверхорганизм, частями которого являются отдельные особи. Более того, интеграция как самого общества, так и его подсистем, которые в силу специализации дробятся уже на механические фрагменты, осуществляется отдельными людьми по принципу органической целостности. Отсюда одни ученые нацелены на создание автоматов, копирующих деятельность человека, другие, как Колмогоров, на создание новой высокоорганизованной жизни, непохожей на нашу.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Функции школы и университета не сводятся к репродуцированию и трансляции знания, ибо они являются местами производства человеческого в человеке. Вопреки мнению М. Фуко, образовательные учреждения не сводимы исключительно к дисциплинарным пространствам. Университет – не только храм науки или институт государства, но и некий антропологический парк, социально-педагогическая «машина» формирования человека. Школы и университеты являются своеобразными теплицами для дозревания юношества до такого состояния, когда они будут способны осуществлять обмен с другой культурной средой без риска для самосохране- ния. Задача системы образования состоит в том, чтобы сформировать у молодежи символическую иммунную систему, обеспечивающую восприятие чужих идей с пользой для себя. Первая угроза состоит в том, что открытость университетского образования оставляет молодежь беззащитной перед чужим. Вторая угроза идет от закрытости, когда традиции замыкают человека в капсулу освоенного культурного пространства. И в этом случае он оказывается беспомощным перед вирусами чужого, которые взламывают традиционные механизмы защиты. Используя эту биологическую метафору, можно сказать, что цель педагогики состоит в сохранении и развитии символической системы самоутверждения общества. Для этого целесообразно подвергнуть ее искусственным вирусным инфекциям, чтобы в открытом мире человек мог сохранить свою идентичность, чтобы он мог общаться с другими и не замыкаться, а расширять свой культурный горизонт. На этот критический аспект педагогики особое внимание всегда обращала философия, которая стремилась передавать знания в форме диалога, а не монолога, и не диктанта, а диспута.
Греческие города-полисы могли себе позволить индивидуальную работу с юношами, в ходе которой культивировалась дружба и философия. При этом наставники не ограничивались открытием истины, а путем всестороннего и несколько утомительного разговора убеждали юношей в необходимости того или иного решения. При изучении античной «пайдейи» мы сталкиваемся с единством дискурсивных и дисциплинарных практик в том смысле, что само рассуждение, вне которого не мыслилось достижение, например, справедливости, выступало не только как нарра-ция о порядке бытия, но и как речевое действие.
Изучение порядков повседневности античного общества обнаруживает, что философская «забота о себе» являлась альтернативой тем дисциплинарным практикам воспитания юношества, которым они подвергались, например, в гимназии. И наряду с критическим отношением к процедурам управления своим телом, которые использовались в греческом полисе, философия часто опирается на сложившуюся систему различий, например, мужского и женского, и пытается их обосновать в форме метафизики холодного и теплого, материи и формы и т. д. Становится понятной граница критической рефлексии, когда без обсуждения благо определяется как умеренность. Древнегреческие мыслители знали о несовершенстве человека, и ужасным «дионисийским» порывам они хотели противопоставить разумность. Однако на практике использовались процедуры закаливания, тренировки, гимнастики и диэтики, благодаря которым человек мог контролировать и сдерживать свои желания. Это была тонкая стратегия, сопряженная с риском: с одной стороны, культ телесной наготы и возбуждение телесных желаний, а с другой – сдержанность и самодисцип- лина. Вопрос о том, на что делается упор в античной этике: на самопознании или на каких-то иных формах самоконтроля и самопринуждения, является спорным. Долгое время полагали, что античные философы ориентировались прежде всего на познание идей, на постижение порядка космоса, чтобы на этой основе регулировать частную и общественную жизнь. Жизнь определяется в античной Греции как мера предела и беспредельного, как упорядоченное бытие. Оно определяется душой, которая, собственно, и есть мера. Благо – это то, относительно чего понимается и оценивается человеческое существование. Знание о том, что человек существует ради блага, дает четкий ориентир жизни, обеспечивает собственное умение быть.
Новое время связано с усложнением экономики и хозяйства. Возникает необходимость целесообразного использования ресурсов, техники, человеческих сил. Дифференциация и рационализация общественного пространства приводит к борьбе с бродяжничеством: каждое место должно быть закреплено за индивидом. Дифференциация пространств (появление тюрем, больниц, домов призрения, казарм, школ, фабрик и заводов), внутренняя сегментация этих государственных учреждений (классы внутри школы, группы внутри классов) требуют разделения и иерархизации людей. Люди извлекаются из натуральных условий обитания и подлежат преобразованию в казармах, школах, работных домах или больницах. Изобретаются многообразные ортопедические техники, направленные на формирование новой анатомии, нового тела, способного эффективно и бесперебойно выполнять те или иные общественные обязанности.
Так складывается новая технология власти, направленная на индивида. Вероятно, ее началом является казарма, так как преобразование рыцарей в солдат регулярной армии было сопряжено с муштрой и дрессурой. Не случайно эпоха Просвещения, открывшая свободу, изобрела дисциплину. При этом дисциплина становится технологией производства индивидов. Сегодня наиболее распространенным инструментом все еще сохраняющейся дисциплинарной технологии остается экзамен и разнообразные его формы: опросы, тесты, осмотры. Рождение индивида, полагал Фуко, следует искать не столько в теориях автономии личности, сколько в детальных записях разнообразных осмотров и экзаменов [2; 279]. Школа превращается в аппарат непрерывного экзамена, дублирующего весь процесс обучения. Он постепенно перестает быть интеллектуальным агоном и все больше становится способом сравнивания. Экзамен превращает ученика в область познания. Школа становится местом педагогических исследований. Она формирует индивида и вводит его в документальное поле. Однако индивид в результате превращается в «отдельный случай» и даже в аномалию. Он есть постольку, посколь- ку его можно описать, оценить, измерить, но также муштровать, учить или лечить.
История развития университетов подтверждает точку зрения Фуко. Первоначально они состояли из факультетов свободных искусств и теологии. Университеты учреждались в городах, и постепенно заменили монастырские школы. В Парижском университете упор делался на изучении грамматики, риторики и диалектики, в Оксфорде основу обучения составлял «квадри-ум»: арифметика и геометрия, астрономия и музыка. Университет – это учреждение, представляющее сообщество ученых, объединившихся для осуществления образовательной деятельности. Его задача – организовать курс обучения на основе учебного плана, расписания, чтения лекций, организации диспутов, приема экзаменов. Первостепенную роль играли тексты Аристотеля, представлявшие собой идеальные лекции. Комментирование текстов, к которому сводилось обучение, получило название схоластики.
Но университет – это не только аудитории, где профессора, напоминающие небожителей, читают лекции о вечных истинах. На самом деле то, что они говорят, является частью борьбы за признание, которую ведут между собою члены корпорации, называемой университетом. Речи и книги мыслителей формируются не в безвоздушном пространстве, а в атмосфере, наполненной ароматами эпохи. Дух времени определяется социальным и культурным пространством, устройством общественных институций, регулирующих мысли, чувства и поступки людей. Главной задачей школы в начале Нового времени было обучение латинскому языку. Это готовило к освоению естественных и гуманитарных наук в университете. Из 26 уроков в неделю 2 урока отводились на закон Божий, 6 уроков – на музыку, 18 уроков – на преподавание латинского языка. История, математика, география были введены в большинстве школ лишь в XVIII столетии. Самое удивительное состоит в том, что в школах не изучали родной язык, и только в некоторых учебных заведениях учили орфографии и грамматике. Учителя и ученики должны были говорить на латинском языке. Наказанием за это был невыносимый слог литературы. Обучение строилось на основе механического заучивания. Учителя диктовали урок, а ученики должны были повторить его наизусть. В школах изучалась логика и проводились диспуты на богословские или философские темы. По воскресеньям ученики слушали проповеди в церкви. Главным орудием воспитания были розги. Нравы были довольно жестокими, ученики часто дрались, играли в карты и пьянствовали. Студенты вели себя не менее буйно, они часто нарушали течение церковной службы, устраивали попойки и драки не только между собой, но и с горожанами.
Обучение в университете длилось долго – до 10 лет, и во многом сохраняло средневековую систему лекций, где часть времени тратилась на диктовку текста, а часть – на устный коммента- рий. Другая форма обучения – диспут, в котором участвовали профессора и студенты. В средневековых университетах учителями часто были учащиеся. Получив степень магистра по философии, выпускник мог читать свой курс и одновременно продолжать образование на другом факультете, как правило, богословском.
В Средние века университеты находились под контролем церкви, папская булла наделяла их правами и привилегиями, наделяла доходами от церковного имущества. Это определяло единство университетов в феодально-раздробленной Европе. Первый германский университет был учрежден в 1348 году в Праге, затем университеты были открыты в Вене и Гейдельберге. Поскольку каждый князь стремился открыть собственный университет, в Германии появилось 12 университетов. После Реформации контроль церкви заменили контролем государства. Однако вплоть до XVII века влияние церкви оставалось весьма значительным. Во главе университета стоял ректор, пользовавшийся большим почетом, он избирался на год поочередно от факультетов. Канцлер – второе лицо в университете – назначался папой и контролировал экзамены и выдачу дипломов.
В XVI–XVII веках в университетах по-прежнему господствовал дух мелочной регламентации. Поведение профессоров во многом было обусловлено враждебностью и непримиримостью корпораций. «Немногие из ученых того времени, – писал Герье, – понимали самостоятельное значение науки и ставили ее интересы выше тех соображений и расчетов, к которым их влекли их общие предрассудки, рутина и предания старины» [1; 61]. Жалование складывалось из разных источников и сильно различалось в зависимости от факультетов. Меньше всех получали философы – около 200 талеров в год, богословы – в два раза больше. Профессора имели привилегии. Их освобождали от налогов и разрешали вести торговлю даже спиртным. Недельная нагрузка состояла из 4 публичных лекций, за которые получали жалование. Примерно столько же читалось платных лекций. Кроме лекций профессора должны были проводить от 2 до 6 диспутов в неделю. Если учесть заседания и экзамены, а также этикетные мероприятия – посещение церкви и гостеприимные пирушки, то свободного времени оставалось немного. При этом профессора демонстрировали невероятную продуктивность и писали многотомные труды.
После распада феодального порядка в Европе образовалось множество национальных государств, единство которых строилось на новой основе. Высшее образование стало поддерживаться государством не только потому, что на его основе осуществлялась подготовка государственных чиновников, но и потому, что школа и университет способствовали воспитанию патриотизма. Насколько хорошо это понимали еще в XIX веке, свидетельствует изречение о том, что войны выигрывают учителя гимназий.
Взаимодействие государства и университета отчетливо проявляется на примере создания Берлинского университета в 1807–1810 годах. Один из разработчиков миссии университета В. фон Гумбольдт утверждал, что наука подчиняется своим собственным правилам игры, но добавлял, что университет должен привнести свой материал – науку – для духовного и морального строительства нации. Кризис национального государства с неизбежностью приводит к кризису классической науки и образования, оборотной стороной которых всегда была служба государству.
Сегодня знание уже не символизирует могущество национального государства, а производится и будет производиться для того, чтобы быть проданным. Оно потребляется и будет потребляться, чтобы обрести стоимость в новом продукте, и в обоих этих случаях – чтобы быть обмененным в форме информационного товара, необходимого для усиления производительной мощи; знание уже является и будет важнейшей, а может быть, самой значительной ставкой в мировом соперничестве за власть.
НАУКА И ОБЩЕСТВО
У М. Вебера рационализация понимается как социальный процесс, характеризующийся преодолением традиционных форм легитимации (сакральных) и установлением целерациональных критериев деятельности в результате институционализации науки и техники, индустриализации труда, урбанизации жизни, формализации права, демократизации общества, консумеризации человеческих отношений. Вебер видит опасность онаучивания и технизации жизни, однако причиной этого считает неправильное использование науки и техники. Т. Адорно и Ю. Хабермас видят в науке и технике идеологию господства, которая им присуща изначально и не может быть изъята без того, чтобы они исчезли. Какое-то время люди «легитимировали» право науки и техники вмешиваться в жизнь и распоряжаться веществом природы и общественными отношениями тем, что они обеспечивали комфорт. Однако сегодня очевидны и опасные последствия безудержной технизации. Наступил век разочарования и критики. Г. Маркузе считает, что в рамках некапиталистического общества возможны иные наука и техника, которые будут поддерживать отношения не господства, а сотрудничества и соучастия. Такое же мнение высказывал П. Фейерабенд.
Оптимистическая идеология эпохи научнотехнического прогресса в результате осознания экологического кризиса, недееспособности демократии, дегуманизации общества сменяется апокалипсическими настроениями, выражающимися в тезисах о смерти человека, конце цивилизации и т. п. Раньше ученые славили разум и человека. Сегодня ими тоже овладели апокалипсические настроения. Стоит заговорить с ученым, начнется тема экологии: техника опасна, ибо ведет к исчер- панию ресурсов, генные технологии, клонирование угрожают самому человеку. По прогнозам Римского клуба, ресурсы уже давно должны были кончиться. Очевидно, что его члены занимались нагнетанием обстановки. Встает задача сохранить науку от самой себя. Философский анализ направлен на выявление устаревших предпосылок, среди которых встречаются и деструктивные по своим последствиям убеждения. Сегодня нуждается в преодолении антитехнологическая истерия, распространяющаяся среди интеллигенции.
То, что мы живем в апокалипсическую эпоху, – не заслуга и не вина человека. Последствия этого события гораздо глубже, чем думают защитники традиций. Техническая культура породила такое новое агрегатное состояние языка и письма, которое имеет мало общего с религией, гуманизмом и метафизикой. Традиционные понятия и различия уже не позволяют понять такие культурные феномены, как инструментарий, знаки, произведения искусства, законы, нравы, книги, машины и другие искусственные «вещи», которые невозможно распределить по таким различиям, как дух и материя, душа и тело, субъект и объект. Попытка рассуждать об этих сложных феноменах в рамках однозначной онтологии и двузначной логики приводит к деструктивным последствиям.
Для этого надо преодолевать научно-техническую истерию, которая питается страхами перед атомной угрозой и «термоядерной зимой». На самом деле современные технологии гораздо гуманнее прежних. Опасения должна вызывать не столько техника, сколько пещерное мышление тех людей, которые ее используют. Если раньше научно-технические открытия применялись в военных целях, то и сегодня крупные компании смотрят на открытия в области генных и компьютерных технологий точно так же, как их предшественники капиталисты смотрели на залежи полезных ископаемых и осуществляли колонизацию мира.
Самым зрелищным вторжением технологий в интимную сферу субъекта являются генные технологии. В них раскрываются телесные предпосылки самости и возможность искусственной манипуляции. Отсюда – популярность фантастического проекта, предлагающего заново сделать человека. Если природу и органическое тело человека нельзя спасти, то следует создать искусственный носитель духа. Пока наука не может нам предложить новое искусственное тело, можно сосуществовать со старым, используя клонирование для замены больных органов. Основой страхов перед вторжением техники в сферу субъективности является угроза объективизма. Генетики не пользуются понятием персонального субъекта в моральном или каузальном смысле. Если техника конфронтирует с гуманизмом, то генетика приводит к мысли о полном растворении и потере субъективности. На самом деле страшилки философов проистекают из логики двузначного различия. Осознание этого и является причиной перехода от хайдеггеровской постметафизической онтологии к делёзовской теории множественности мира. Антитехнологическая истерия во многом является продуктом философии, страхом перед процессом, в котором исчезают метафизические различия сущего. Это ресентимент двузначности перед многозначностью мира. Именно техника выводит человека из нечеловеческого состояния в человеческое. Техника не производит отчуждения, как не является причиной перверсий. Вместе с тем эти явления сопровождают технический прогресс. Определение человека как субъекта низводит технику до простого средства материальной реализации проектов духа. Возможно, старая техника погружала материю и природу в состояние онтологического рабства. Новые технологии стремятся дать вещам возможность быть самими собой. Материя перестает быть сырьем, которое использует для своих нужд субъект-господин. Технологии, имеющие дело с информацией, открывают путь для ненасильственных отношений, формируют новый тип рациональности, а не игнорируют ее в поисках способов самореализации. Таким образом, речь идет о «синергии», о кооперации. Многие ученые стали говорить о «диалоге с природой», что означает отказ от стандартной установки на покорение природы. Нарастание военно-технического безумия несовместимо с новыми технологиями. В мире, который стал сетью межинтеллектуальных взаимодействий, эффективным становится не господство, а сотрудничество. Человек был и остается продуктом технологий очеловечивания, одомашнивания, социализации и цивилизации. Вместе с тем, признавая системнофункциональный подход к обществу, согласно которому определяющее значение и смысл происходящего задается институтами, следует помнить, что самые формальные и деловые отношения тем не менее зиждутся на очень интимных и глубоко человеческих связях.
Работа поддержана Грантом Минобразования и науки РФ. Федеральное агентство по образованию. 16.1.08.
Список литературы Человек и наука
- Герье В.И. Лейбниц и его век. СПб.: Наука, 2008. 807 с.
- Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. 479 с.