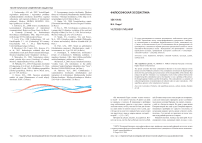Человек лишний
Автор: Порус Владимир Натанович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Философская эссеистика
Статья в выпуске: 3 (29), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается основное противоречие, свойственное герою романа М.Ю. Лермонтова: между гипертрофированным стремлением к свободному целеполаганию и осознанием непреодолимости Судьбы, низводящей тягу к «воле» до бессмысленного бунта. В столкновении мысли, фиксирующей это противоречие, и жизненного порыва происходит расщепление личности: мысль оказывается бесплодной, а жизнь - безнадежной. Эго противоречие - симптом вырождения культуры, превращения культурных ценностей в «симулякры». «Лишний человек» - симулякр личности.
Лермонтов, печорин, "лишний человек", культура, судьба, свобода воли
Короткий адрес: https://sciup.org/170175518
IDR: 170175518 | УДК: 130.02
Текст научной статьи Человек лишний
«Из жизненной бури я вынес только несколько идей - и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю и разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его; первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки, а второй... второй?...» [13, с. 567]
Печорин на сей раз, видимо, не дурачится. Вот-вот уже дуэль, где ему быть убитым или стать убий цей. В такие минуты нет смысла врать и позировать, а уж если напоследок «раскрыть душу» случившемуся рядом доктору Вернеру, так сказать главное -о себе и о близости смерти. Но даже у края жизни Печорин-второй все еще судит Печорина-первого, взвешивая и разбирая его страсти и поступки, не испытывая никаких чувств, кроме «строгого любопытства». Суд долгий, он продлится и после того, как подсудимый простится с миром.
Никакой мистики. Записал же Григорий Александрович слова, сказанные перед дуэлью, в сво- ем «Журнале», от которого потом так небрежно отречется. Жить ему после того оставалось что-то около пяти лет. Он еще успеет убить Грушницкого, расстаться с Верой, единственной женщиной, будившей в нем живое чувство, предсказать смерть Вуличу, бесцельно «поскучать» в Петербурге, обидеть старого приятеля Максима Максимыча, посетить загадочную Персию, чтобы умереть, возвращаясь в Россию. А «Журнал Печорина» обнародует Михаил Юрьевич Лермонтов и скажет о нем: «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии» [13, с. 45б]29.
Поверим ли, что Лермонтов и впрямь, как он говорит, безучастно взвешивает и разбирает страсти и дела Печорина, что ему «весело рисовать современного человека, каким он его понимает» [13, с. 456]? Жить Лермонтову после этих слов, напечатанных весной 1841 г, оставалось только до 15 июля, до дуэли, так похожей на обставленное ироническими подробностями самоубийство. Еще раз: перед близкой и чуть ли не предвидимой смертью люди обычно не притворяются... Так значит, все-таки безучастный диагноз? Не он ли поставил поэта под выстрел Мартынова? Диагнозу надо быть точным, а проверить его можно только на себе.
Не пройдет сравнение Печорина-второго с «евнухом души человека», столетием позже открытым Андреем Платоновым. Здесь отличие важнее сходств. Тот «не участвует ни в поступках, ни в страдании - он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба - это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека и неизвестно, зачем он одиноко существует» [18, с. 114-115]. Совсем напротив: голос Печорина-второго слышен даже и после смерти Печорина-первого. Да и сама эта смерть - не приведение ли в исполнение приговора суда мысли над жизнью?
Мыслить и судить. Понимать. Но не для того, чтобы изменить и как-то направить свои поступки, укротить страсти. Тогда для чего же?
* * *
Короткого взгляда на Печорина хватило Лермонтову, чтобы описать его одежду, рост, походку, черты лица, белизну зубов, даже нежность кожи. И самое примечательное: карие глаза Григория Александровича, сводившие с ума поклонниц, не смеялись, когда он смеялся!
«Это признак - или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взгляд его -непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если б не был столь равнодушно спокоен» [13, с. 494].
Печорин вообще редко смеется или улыбается. Впервые мы слышим его смех вместе с Максимом Максимычем. Вот только что умерла несчастная Бэла, любовница и очередная жертва Печорина:
«Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха...» [13, с. 488].
Старый солдат Максим Максимыч не дрогнул бы и перед лицом смерти, но смех Печорина прохватывает его ознобом. Этот стальной блеск равнодушных глаз ранит, как кинжал Казбича, пронзивший Бэлу. Улыбка Печорина еще раз воткнется ему в душу, перед самым прощанием - уже навсегда.
«- Боже мой, боже мой! да куда это так спешите?.. Мне столько бы хотелось вам сказать... столько расспросить... Ну что? в отставке?., как?., что поделывали?..
- Скучал! - отвечал Печорин, улыбаясь» [13, с. 495].
Холод, равнодушие, нетерпеливая досада: надо же изображать никогда не бывавшие чувства. «Детская» улыбка с проницательным и тяжелым взглядом30. Иногда - почти не скрытое презрение (как в беседах с недалеким паяцем Грушницким). Не Демон ли («дух изгнанья») смотрит несмею-щимися глазами Печорина? О демонизме и даже «бесовщине» Печорина сказано немало, с ним и Ставрогина из «Бесов» Ф.М. Достоевского сближали [см.: б]31 и «сверхчеловека» у Ф. Ницше32. Не без оснований. Но если в облике и поступках Печорина-первого действительно просвечивает нечто холодящее сердце, то Печорин-второй, кажется, занят только одним: он любопытствует и разглагольствует, что-то хочет понять и не понимает. Уж не пародия ли на спинозовского мудреца-философа, которому нужно «не плакать, не смеяться, не отворачиваться, но понимать»? Но печоринская жажда понимания - не возвышенная рациональность Спинозы. Наоборот, она почти до комического снижена. Покрасоваться, хоть и перед самим собой, задавая напыщенные вопросы: было ли мне назначенье высокое, которого я, к несчастью, не угадал, и вот тщусь как-то скоротать скучные дни в поисках опасных приключений. Разыграть как по нотам грустный и пошловатый водевиль с княжной, мечтающей о чистой любви и скучающей среди глупых поклонников, обольстить ее, а затем посмеяться над доверчивой юницей. Водевиль вывернется убийством, но что поделаешь. Зато вот еще случай изобразить «топор в руках судьбы». Что тут понимать-то?
П. Вайль и А. Генис подметили, что «в одиночестве Печорин так же любуется собой, как и на сцене. Не столь уж велика разница между его декламациями и репликами в сторону» [3, с. 84]. Но не все же он декламирует и болтает себе в утешение. Ведь что-то гонит Печорина от одного жизненного тупика к другому, сообщает его нелепым и жестоким поступкам даже некую романтику, привлекающую к нему симпатии (ведь и самого Лермонтова, что бы тот ни говорил о «пороках»!). «И поколения школьников приходят к выводу - умный негодяй лучше добропорядочного дурака. Печориным просто нельзя не восхищаться - он слишком красив, изящен, остроумен» [3, с. 82].
Ясно, что невеселые рассуждения Печорина -не нравственные искания. Григория Александровича мучительно занимает другое. Ему надо во что бы то ни стало постичь, действует и живет ли он по своей собственной воле, или всем на свете, в том числе и им самим, правит Рок («заброшен к нам по воле рока...»), чье любимое орудие - необъяснимый Случай. «Фатализм, проблема предопределенности тяжким бременем лежит на Печорине. Он не может вырваться из колеи, не им проложенной. Но и не хочет покорно ею следовать» [3, с. 85]. Того не может, этого не хочет - однако же судит самого себя и других...
Почему размышления о предопределении или свободе воли так волнуют беспокойного прожигателя жизни?
* * *
Ф.М. Достоевский считал, что в Печорине соединились две странные противоположности: «эгоизм до самообожания» и «злобное са-монеуважение». «И все та же жажда истины и деятельности, и все то же роковое “нечего делать”'. От злобы и как будто на смех Печорин бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти» [10, с. 12]. Кажется, Достоевский вольно или невольно спутал Печорина с Лермонтовым, ибо что же глупого и смешного в смерти человека, не успевшего воротиться из дальних странствий? Но главное сказано: Печорин как будто бы жаждет (или внушает самому себе и нам, что жаждет!) деятельности, о которой можно бы решить, что она «истинная», а всю свою недолгую жизнь занимается черт те чем, за что - так думает Достоевский - злобно и презрительно не уважает самого себя. Но за что ему бы себя уважать? Ведь если все, что ни происходит, - капризы Рока, то человек только игрушка, марионетка, наделенная сознанием и возомнившая себя свободной, но то и дело находящая нитки, какими она привязана к чему-то, что движет ею. Какое тут самоуважение? Впору криво усмехнуться над собою, над своим нелепым самомнением, а заодно - и над всем миром, этим балаганом, где такие же марионетки забавляют одна другую потешными кривляниями от рождения до смерти.
И добро бы нити, к которым привязаны марионетки, были в руках Бога, а их танец, с виду смешной и бессмысленный, на самом деле входил в план мировой гармонии, по которому Творение будто бы должно, в конце концов, воссоединиться с Творцом. Тогда можно было бы поспорить с Иваном Карамазовым, взбунтовавшимся от сознания, что муки и страдания людей не могут быть оправданы этой гармонией, как бы грандиозна она ни была. Но если Бога нет, а все происходящее, вся эта жизнь - «пустая и глупая шутка», над которой по-хорошему и сме-яться-то невозможно, а разве что смехом, от какого вздрогнул Максим Максимыч? Тогда одна марионетка ничем не лучше и не хуже другой, а все их претензии на истину, на знание добра и зла, на достоинство, заслуживающее хотя бы самоуважения, никчемны. Если Бога нет, то «все дозволено». И романтический «топор в руках судьбы» вот-вот превратится в самый что ни на есть вульгарный, краденый у дворника топор в руках Раскольникова. И какое уж тут самоуважение, заметит Свидригайлов, чем же, скажите на милость, Родион Романович лучше, скажем, проходимца Лужина? Тот, по крайней мере, не душегуб. Ворюга милей, чем кровопийца, скажет Иосиф Бродский. Наверное, так и есть. Но и ворюгу уважать не за что.
Федор Михайлович вложит в уста своего «подпольного человека» сакраментальный вопрос: «Разве сознающий человек может себя уважать?» [9, с. 107]. Печорин несомненно - «сознающий человек». Как же и за что ему уважать себя? Уж не за то ли, что он умнее дурака Грушницкого и нравится женщинам? Мелковато. Надо бы чего-то посущественней.
Печорин пытает судьбу, пытаясь играть с нею33. А что коли она все же откроет свою тайну? Пусть даже ничего не изменится, все станется, как предопределено, но сохранится хотя бы достоинство: зная судьбу, идти ей навстречу, не склоняя головы. Он подставляет себя под пулю Грушницкого, и на краю смертной пропасти продолжая эту игру: если буду жив, то мой выстрел - не убийство, а исполнение неизбежного. Это судьба убьет Грушницкого, а не я. Судьба, пожалуй, безответственна, но уж точно ни за что не отвечает ее топор.
Судьбу не разжалобишь и не упрекнешь. Вот она разлучает Печорина с Верой. Вспышка обиды и страсти бросает его в нелепую погоню, но это всего лишь еще одно убийство -загнан до смерти ни в чем не повинный конь. Еще один урок поражения. Теперь стоит ли терзаться своим участием в гибели Грушницкого? Всего и остается - криво усмехнуться своему еще молодому безрассудству, выспаться, освежить силы ... для чего? Для новых кривляний. До чего же он жалок в своем последнем объяснении с княжной Мэри, после которой по привычке пускается в выспренние рассуждения о доле матроса, выброшенного крушением на берег, но мечтающего о новых бурях! Надо же как-то приукрасить свою незавидную, только что доигранную до конца роль. И марионетке зачем-то нужна толика самоуважения!
* * *
Но Печорин не хочет быть марионеткой. Поражение за поражением - он не спешит признать себя побежденным. Быть «топором в руках судьбы» - не то удовольствие от власти, какого он хочет. Топор безволен и бессмыслен. Печорин же ищет власти своей воли над людьми. За это ему не жаль и жизни. Но где же его воля, когда он - только актер на сцене, играющий роль в спектакле, не им написанном и поставленном? Как скажет «подпольный человек» Достоевского: «Такая ли своя воля бывает!» [9, с. 117].
Подчиниться Высшей Воле, всеблагой и всемогущей - еще куда ни шло. Но можно ли допустить, что это Она позволяет (или заставляет!) вторгаться в жизнь «честных контрабандистов», из при- хоти губить Бэлу, разыгрывать, а потом убить Грушницкого, валять дурака, обольщая княжну, заключать смертельное пари с Вуличем... Скорее, напротив. Но тогда почему Его всемогущество так бессильно? Почему Он попускает зло и даже позволяет ему быть таким победительно-привлекательным?
Не лучше ли не задавать таких вопросов? Они, кажется, никогда не будут услышаны. Ведь каждый человек может повторить возглас Иова: «Вот я кричу: Обида! И никто не слушает; вопию, и нет суда» (Иов, 19; 7). Если Бог нас не слышит, так не станем же и мы полагаться на Его волю.
А если это воля не Бога, но Князя мира сего, во власти которого находится падшее творение? Уверовать в Диавола, не веруя в Бога. Возможно ли это?
«- А можно ль веровать в беса, не веруя в бога? - засмеялся Ставрогин.
- О, очень можно, сплошь и рядом, - поднял глаза Тихон и улыбнулся» [8, с. 10].
Николай Ставрогин смеется, задавая этот вопрос архиерею (очень печоринский смех, надо бы в этот момент заглянуть в его глаза!)34, делая вид, что ему это неизвестно. Как же, очень даже известно, он-то лучше всех знает свою бесовскую внутреннюю жизнь35. Но Печорин -еще не Ставрогин. Для него главное противоречие - не между Богом и Диаволом, а между своей волей и Роком36. Подчиниться Року - для него не грех, но унижение. На кону не «спасение души», но гордыня, которая подпитывается «изнутри»: «чувствую в душе моей силы необъятные...». Разумная и сильная воля - в рабстве у бессмысленного и равнодушного к любым смыслам Рока? Ни за что!
Печорин, в отличие от Ивана Карамазова, бунтует не против Бога (кажется, он в Него и вовсе не верит). В отличие от Николая Ставрогина, он не верит и в беса. Что до морали, ее Печорин слишком презирает, чтобы спорить с нею: вся она - в драгунском капитане, подбившем Грушницкого убить на дуэли безоружного человека. Поединок с моралью невозможен: с тем, что ниже тебя, не сражаются, а провожают пинком. Мораль нельзя победить в честном бою, но можно плюнуть в ее сторону.
Шагнуть «по ту сторону добра и зла»? Чтобы сделать этот шаг, Печорину нужно решить вопрос, который потом замучает Родиона Раскольникова: «Тварь я дрожащая или право имею?» Тот решился на эксперимент - «идейное убийство». Печорин, конечно, не станет «лущить чем попало старушонок» (так Свидригайлов иронически снижал «подвиг» Раскольникова), он для таких дел слишком аристократичен. Он пытается доказать свое право иначе: восстает против Рока, дразнит его, вызывает на поединок.
И.З. Серман заметил, что печоринский вызов был попыткой М.Ю. Лермонтова выразить свой собственный [19]37: если оставить упование на поддержку свыше, презреть мораль, на чем тогда устоит человеческая личность, что позволит ей сохранить самоуважение, оправдать собственное существование, определиться в отношениях с людьми? Печорин желает властвовать над человеческими душами, ни во что не ставя суд людской и не веря в суд Божий. Путь «воли» без ориентиров веры и нравственности. Куда он? И зачем по нему идти?
* * *
Счастлив ли Печорин? Счастливые люди просто счастливы, а он пускается в странные и скучные рассуждения о счастье.
«Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то никакого положительного права, - не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насыщенная гордость. Если бы я почитал себя лучше, могущественнее всех на свете, я был бы счастлив; если бы все меня любили, я в себе нашел бы бесконечные источники любви» [13, с. 540]
Вот так раз. Наедине с собою гордый и умный Печорин несет серую пошлятину: дайте побольше любви, пусть даже ничем не заслуженной мною, и тогда я, так и быть, отыщу в себе ответное чувство, сделайте меня могущественнее всех, я буду вполне доволен и больше ничего уже не попрошу, следовательно, буду счастлив. Поразительно. Это бы Грушницкому впору, а не человеку с необъятными силами в душе. Вспомним, однако, что эту галиматью он записывает в свой дневник сразу, как замечает, что его хитрые ухаживанья за княжной начинают приносить успех. Понятное дело, ему - в очередной раз! - хочется убедить себя, что не такой уж он мелкий бес, а и пофилософствовать может на высокие темы - не хуже иных. Даже и до «божественного» доходит: душа, рассуждает Григорий Александрович, в страдании и наслаждении «проникается собственной жизнью», «только в этом высшем состоянии самопознания человек может оценить правосудие божие». Ну, разумеется. Пострадал в меру - понял, что мучить другого - безмерное наслаждение. Идея зла перейдет в злое действие: «Тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует» [13, с. 540]. Вот оно как: хлопоты по соблазнению княжны - это путь страдающей души к самопознанию и к оценке божьего правосудного промысла! Несмешная пародия на Демона. Хорошо, Печорина в этот момент никто не слышит, конфуз был бы.
Счастливые не скучают, а ему скучно38 - даже в разгар собственных интриг, как он себя ни взбадривает экстравагантными речами и поступками. Нет,
Печорин не счастлив39. От несчастной жизни его избавляет только подвернувшаяся кстати смерть. Несчастно его сознание, и это несчастье длится и после физического исчезновения. И.З. Серман находит термин, заимствованный из гегелевской философии, - Ungluckliche Bewusstsein, применяя его к лермонтовскому «герою». По Гегелю, сознание несчастно, если оно осознает свою включенность в действительность и в то же время невозможность согласия с нею. Несчастное сознание живет жизнью, которой не желает, но не может от нее освободиться. Его идеальные культурные ориентиры - Бог, вера, надежда, любовь, истина - утрачивают смысл, обесцениваются. Они еще существуют как словесные или ритуальные оболочки символов, но уже ничего, по сути, не символизируют; в XX в. их назовут «симулякрами», имитаторами ценностей (Ж. Батай, Ж. Бодрийяр). Сознание несчастно, ибо одиноко, покинуто, оставлено без помощи40. Оно вынуждено опираться только на свои собственные силы и ресурсы, но не находит их и потому отчаивается: его внутренние противоречия не могут разрешиться. Его индивидуальное существование отчуждено от его всеобщей сущности, а стремление к воссоединению безнадежно. Это «трагедия сознания» [см.: 20; 4], но можно ли назвать Печорина «трагическим героем»?
Не всякий несчастный - герой, не всякий герой несчастен. «Герой нашего времени» - ясная ирония. Героем восхищаются, ему пытаются подражать. Восхищаться Печориным? Мы уже слышали П. Вайля и А. Гениса. Что же, в нежном школьном возрасте это объяснимо неискушенностью. Но кто и как бы ни любовался остроумным, лощеным и красивым Печориным, героем его никто всерьез не назовет, трагическим - тем более. Посочувствовать ему можно.
Печорин сознает, что жизнь его скучна, а для приблизившихся к ней - опасна. Но жить почему-то надо, продлевая сколько можно эту монотонную игру. Хочется воли, а натыкаешься на мораль, которая твою волю лицемерно порицает, хотя сама насквозь фальшива и следовать ей нелепо и даже стыдно. Сделаешь вид, будто мораль тебя не трогает, действуешь, не оглядываясь на нее, - тут тебя и подстерегает Рок, которому, как и тебе, мораль безразлична, но он-то всесилен, а ты лишь как бы бьешься с ним, напрасно рассчитывая на достойные условия поединка.
Хочется воли..., а зачем она? Что с нею делать, если она дает не счастье, а только возможность мучить людей? Печорин хотел бы властвовать над ними, чтобы заставить их любить его или бояться. Что бы он ни записывал в свой дневник, мучительство не доставляет ему особого наслаждения. Вот он допрашивает Веру, с которой случайно встретился после долгой разлуки, счастлива ли она с мужем. Он знает, опытный сердцеед, что его вопросы причиняют боль:
-
- Скажи мне, - наконец прошептала она, - тебе очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий...
-
- Ее голос задрожал, она склонилась ко мне и опустила голову на грудь мою.
«Может быть, - подумал я, - ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...» [13, с. 526].
Печаль Веры продлевает любовь к нему, так пусть себе печалится, уж такая ее судьба... И Грушницкого перед тем, как выстрелить в него, он мучит не для того, чтобы упиться его смятением. Он хочет увериться, что убивает не из злобы, не по своей воле. Так нужно Року, что тут поделаешь.
Воля - трудная ноша. Если она есть, на Рок свои поступки не спишешь. Надо держать ответ за все, что учинил. О счастье - забыть. Но это Печорину-первому. А Печорин-второй не унимается, ему подавай ответ: так все же, есть своя воля или нет ее? Ему, во что бы то ни стало, надо «мысль разрешить». Да отчего же это так важно? Он ведь не философ, не ученый, ему бы оставить умствования, смолкнуть, освободить Печорина-первого от своего суда. Пусть живет и радуется жизни. Не чувствует себя лишним.
Не получается.
* * *
Вольно было В.В. Набокову подтрунивать над литературоведами и критиками, искавшими объяснение характеру Печорина в социально-политических условиях деспотического режима Николая Первого. А все-таки он не прав, все переводя в план «чистой литературы». (Есть такая или нет, об этом будут спорить, наверное, всегда; беда только, что спорящие, кажется, все не могут точно определить предмет разногласий).
Художественные вымыслы следуют один за другим. По Набокову, только в этой череде есть что-то, достойное внимания. Поэтому «для историка литературы проблема “времени” куда менее важна, чем проблема “героя”» [17, с. 433]. Если историк литературы желает отстраниться от философии или социологии литературы, он прислушается к этим словам. Впрочем, у каждого свой путь.
Думаю, на вопрос, рефреном звучавший в этой статье, нужно искать ответ, пристально всматриваясь именно во «время». Каково время, таков и его «герой».
Печорин-второй ищет понимания воли. Пе-чорин-первый испытывает волю. Но все, что он испытывает, не находит объяснения, заводит в тупик. Вот бы иначе: всякий поступок, несет он удачу или поражение, вывести («математически») из общего принципа, подчиниться каковому было бы не зазорно, ибо с ним совпали бы веление ума и порыв сердца? Невозможно. Ибо «такая ли воля бывает», если она откуда-то выведена и принята как необходимость!
Отчего же «парадокс свободы», над которым веками билась и ныне бьется мировая богословская, философская, художественная мысль41, так мучит Печорина-первого, лишает его счастья, единства с жизненной тканью, в какую вплетена его судьба? Отчего Печорин-второй не довольствуется издавна известными толкованиями и решениями этой проблемы? Мы не знаем, чему и как учился Печорин, читал ли он Спинозу, Локка, Канта и Гегеля. Может, и не читал. «Журнал», однако же, выдает в нем человека не только литературно одаренного, но и порядком образованного. Философские идеи в то время, когда Россия вела войну на Кавказе, а Печорин соблазнял княжну Мэри, носились в воздухе, и уж Лермонтов-то с ними был знаком. Гегелевская «Феноменология духа» уже три десятка лет волновала просвещенную Европу, и в России были ее самые сочувственные читатели и популяризаторы.
Но жизнь идей и жизнь людей - не одно и то же. К идее свободы это относится в первую оче- редь. В российской культуре первой половины XIX в. она была почти нелегальной. После декабря 1825 г. даже словесная оболочка этой идеи была табуирована. Строфа пушкинского «Памятника» (1841):
И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал - в подцензурной редакции В.В. Жуковского была избавлена от подозрительного слова:
И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...
Что прелестью живой стихов я был полезен
И милость к падшим призывал.
Тут дело не в «духовном гнете» николаевского режима. Режим-то отчасти был похож на Петровича из гоголевской «Шинели», что все чинил да чинил протертую шинель - российскую культуру - пока заплаты («духовные скрепы») еще как-то держались. Нужна была «шинель» с другими ценностными принципами и идеалами. Но они-то и были под подозрением, скроить из их ткани новую культуру казалось опасным для существования Империи. Потому и «свобода» стала словом, произносимым с оглядкой или «про себя». Вернуть ему смысл - затея более рискованная, чем стоять под дулом пистолета на краю пропасти. Может оказаться, что сама жизнь несовместима с этим смыслом, и тогда драгунский капитан прав: судьба - индейка, а жизнь - копейка.
Но Печорину-второму до смерти хочется вызнать не подцензурный и не измененный всеобщей угодливой пошлостью смысл идей. Тех, что составляют ценностный «каркас» культуры. Пусть драгунские капитаны и грушницкие говорят и делают что им угодно. Оценку их словам и поступкам должна бы дать не протухшая «мораль», а живая Культура, среди идей и ценностных идеалов которой «личная свобода» занимала бы - в сознании Печорина - главное место. Нужно только пробиться умом и чувством к этим идеям, проникнуться ими, сделать их своими ориентирами в пространстве дум и поступков. Вот тогда суд души над жизнью будет и верным, и нужным. Не инсценировкой, а реальной внутренней работой.
Современные психологи говорят: «Человек в целом и любая форма его поведения могут получить сколько-нибудь вразумительное объяснение только в контексте существующей в том или ином обществе культуры и истории. Культура как бы предоставляет человеку инструментарий, соответствующее материальное и духовное оборудование для его поведения и деятельности. Овладевая культурой, человек одновременно овладевает собой и своим поведением, становится человеком» [1, с. 153].
Но отсюда следует, что культура, если она не выполняет свою задачу, не только не дает человеку стать человеком, она искажает весь процесс личностного становления, вынуждает жить в убежище своего одиночества, а то и выворачивает наизнанку его духовность, превращает в монстра, агрессивно настороженного и опасного для окружающих своей бесцельной активностью.
Печорин и есть этот монстр. В каком-то смысле он более уродлив, чем окружающие его люди, какими бы жалкими и невзрачными они ни казались ему, красавцу и умнице. Те не сознают своего уродства. Они не обладают несчастным сознанием. Им тепло и уютно в действительности, будто специально выстроенной для них. Из них составлено поколение, на которое печально глядит Лермонтов:
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья, В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны, И перед властию — презренные рабы.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа, Не бросивши векам ни мысли плодовитой, Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина, Потомок оскорбит презрительным стихом, Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом [14, с. 168-169].
Обидные слова. Лермонтова поносили и ненавидели за них. Кто он, чтобы бросать такие слова в лицо поколению, кто дал ему право? Не только поколению - России («страна рабов, страна господ»), Клеветник и очернитель. Убирайся в свою Шотландию!
Взгляните, он позволил себе любить отчизну не как положено, как велит долг дворянина и офицера, а какою-то «странною любовью», равнодушной к славе, купленной кровью, к державному величию. Позволяет себе стать вровень с Родиной, любить ее как что-то телесно-близкое (Блок назовет Русь «женою», так мог бы сказать и Лермонтов, не успевший жениться). «Социал-предатель». «Пятая колонна».
А Печорин? Повторил бы он слова Лермонтова как свои собственные? Дело не в масштабе поэтического дара. Впрочем, автор «Журнала», наверное, мог бы написать стихи не хуже. Но Печорин не верит, что такие стихи можно писать всерьез, без иронии или прямой насмешки. Он привык к тому, что идеи - это всего лишь «слова, слова, слова», давно знает им цену, выучился болтать хоть по-русски, хоть по-французски, когда промолчать не получается или надобно поучаствовать в каком-то ритуальном действе напоказ.
В его действительно несчастном сознании -неутоленная жажда подлинного смысла в том, что называют «жизнью». Но он не верит, чтобы этот смысл как-нибудь ему открылся. Книги - что книги? Они только соблазнят и завлекут в мир идей, но идеям нет места в жизни. Его уже давно заняли пустые словесные оболочки, симулякры. Люди забыли и думать об их смысле, обходятся без него и почитают смешными безумцами тех, кто осмелился бы признать свою жажду.
С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья: В меня все ближние мои Бросали бешено каменья.
Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы детям говорят
С улыбкою самолюбивой:
«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами: Глупец, хотел уверить нас, Что бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!» [15, с. 224-225].
Кому по душе роль городского сумасшедшего или юродивого? Печорин не из таких. Он предпочел в одиночку, никому не доверяя и ничего не провозглашая, все же как-то прорваться к смыслу идей. Цена не состоявшегося прорыва - впустую растраченная жизнь. Могло ли быть иначе? Что толку гадать.
Тайну Рока раскрыть не удалось - ни в России, ни в Персии. Если в этом была цель, ради какой стоило жить, то, разочаровавшись в ней, существовать уже ни к чему. Печорину не понадобилась намыленная веревка Ставрогина. Рок снисходительно уважил своего испытателя, тихо и незаметно убрав его со сцены бытия.
Человек оказался лишним.
Список литературы Человек лишний
- Белянин А.В., Зинченко В.П. Доверие в экономике и общественной жизни. М., 2010.
- Булгаков С.Н. Русская трагедия//Булгаков С.Н. Сочинения: в 2 т. Т. 2: Избранные статьи. М., 1993.
- Вайль П., Генис А. Родная речь. Уроки изящной словесности. М., 1991.
- Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. СПб., 2006.
- Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб., 1992.
- Гиголов М.Г. Лермонтовские мотивы в творчестве Достоевского//Достоевский. Материалы и исследования. Вып. 6. Л., 1985.
- Достоевский Ф.М. Бесы//Достоевский Ф.М Поли. собр. соч.: в 30 т. Т. 10. Л., 1974.
- Достоевский Ф.М. Гл. «У Тихона»//Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Т. 11. Л., 1974.
- Достоевский Ф.М. Записки из подполья//Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: в 30 т. Т. 5. Л., 1973.
- Достоевский Ф.М. Книжность и грамотность. Статья первая//Достоевский Ф.М. Поли, собр. соч.: в 30 т. Т. 19. Л., 1979.
- Иванов Вяч. И. Достоевский и роман-трагедия//О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881-1931 годов. М., 1990.
- Исупов К.Г. Метафизика Лермонтова. [Электронный ресурс]: http://www.rhga.ru/science/ргое/ignf/1 _7.pdf
- Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени//Лермонтов М.Ю. Сочинения. Т. 2. М., 1990
- Лермонтов М.Ю. Дума//Сочинения. Т. 1. М., 1990.
- Лермонтов М.Ю. Пророк//Сочинения. Т. 1. М., 1990.
- Мережковский Д.С. М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества//М. Ю. Лермонтов: pro et contra/сост. В.М. Маркович, Г.Е. Потапова, коммент. Г.Е. Потаповой и Н.Ю. Заварзиной. СПб., 2002.
- Набоков В.В. Предисловие к «Герою нашего времени»//Набоков В.В. Лекции по русской литературе. М., 1996.
- Платонов А.П. Чевенгур. М., 1988.
- Серман И.З. Михаил Лермонтов. Жизнь в литературе (1836-1841). М., 2003.
- Хейде Л. Автономность и несчастное сознание//Логос. 1999. № 9.