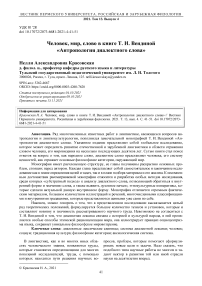Человек, мир, слово в книге Т. И. Вендиной антропология диалектного слова
Автор: Красовская Нелли Александровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 4 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Ряд многочисленных известных работ в лингвистике, касающихся вопросов антропологии и лингвокультурологии, пополнился замечательной монографией Т. И. Вендиной Антропология диалектного слова. Указанное издание представляет собой глобальное исследование, которое может определить развитие отечественной и зарубежной лингвистики в области отражения словом человека, его мировидения на несколько последующих десятков лет. Сутью книги стал поиск ответов на вопрос о том, как народное слово, диалектное слово представляет человека, его систему ценностей, как отражает основные философские категории, окружающий мир. Монография имеет расчлененную структуру, ее главы подчинены раскрытию основных проблем, стоящих перед автором. Каждая глава представляет собой самостоятельное и законченное исследование как в плане определения целей и задач, так и в плане подбора материала и его анализа. К несомненным достоинствам рассматриваемой монографии относится и разработка особых методов исследования, среди которых субстратный подход к анализу диалектного слова, позволяющий обратиться к внутренней форме и значению слова, а также выявить духовное начало, этнокультурные императивы, которые сделали актуальной данную внутреннюю форму. Монография отличается огромным фактическим материалом, большим количеством иллюстраций и речений, многочисленными классификациями и внутренними градациями, которые представляются ценными уже сами по себе. Наконец, можно говорить о том, что в представленном исследовании высказывается целый ряд теоретических положений, формулируется большое количество тезисов и установок, которые и составляют новизну и значимость рассматриваемого научного труда. Невозможно не согласиться с Т. И. Вендиной в том, что диалектная лексика связана с историей и культурой народа, в ней проявляются особые способы этической рационализации мира, она иллюстрирует принцип социоцентризма языка, сохраняет уникальное философское мировоззрение.
Диалектные лексические единицы, система диалектной лексики, человек, социум, традиционная культура, философские категории, аксиологическая система
Короткий адрес: https://sciup.org/147236776
IDR: 147236776 | УДК: 81’28 | DOI: 10.17072/2073-6681-2021-4-41-51
Текст научной статьи Человек, мир, слово в книге Т. И. Вендиной антропология диалектного слова
Современным направлением в лингвистике можно считать антропоцентрическое направление, которое, безусловно, связано и со структурно-функциональным подходом к рассмотрению языковых единиц, и с семантическим подходом, позволяющим выявлять оттенки смысла элементов языка и речи. Антропоцентризм в лингвистике задает большое поле и для изучения взаимодействий с явлениями культуры, поэтому можно совершенно определенно говорить о том, что в связи с антропоцентрическим направлением находится и лингвокультурологическое, которое отражает культуру через язык и находит в языке проявление фактов культуры. Если предметом рассмотрения становится человек, со всем комплексом его стремлений, знаний, возможностей, во всех его проявлениях, то очевидна связь антропоцентрических подходов и социолингвистических. Люди образуют сообщество, которое не может существовать без языка.
В отечественной лингвистике в рамках развития антропоцентрического направления в последние десятилетия было издано много работ, которые можно считать важнейшими для развития указанного направления. Это труды таких ученых, как Ю. Д. Апресян (1995), Н. Д. Арутюнова (1999), Е. Л. Березович (2007), А. Вежбиц-кая (2001), Ю. Н. Караулов (1987), И. Б. Левонтина (2000), С. М. Толстая (2018), Н. И. Толстой (1995), В. Н. Топоров (2004), А. Д. Шмелев (2002), в работах которых раскрываются основные принципы антропоцентрической лингвистики, указываются перспективные направления исследований в рамках данной парадигмы, формируется терминологический аппарат, разрабатывается комплекс основных проблем развития и формирования языковой личности, поведения «говорящего» человека в социуме, отражения посредством языка культуры, проявления этнической специфики в представлении человека и мире и мн. др.
Так, Е. Л. Березович анализирует колоссальные массивы топонимических фактов, в то же время обращаясь к многочисленным апелляти-вам, определяет место лексики, связанной с человеком, в формировании пространства, в понимании «человека разумного», «человека этнического». Исследователь, рассуждая о слове люди , пишет следующее: «Получается, что весьма небогатое по своему основному значению слово организует вокруг себя исключительно разветвленную сеть семантических и словообразовательных связей, огромное лексико-семантическое пространство, которое постоянно расширяется…» [Березович 2007: 84].
Невозможно рассматривать отдельно человека и культуру, что доказывается целым рядом исследований А. Вежбицкой. Останавливаясь на понимании дружбы как одного из важнейших качеств поведения человека, ученый подчеркивает: «Русский язык располагает особенно хорошо разработанной категоризацией отношений между людьми не только по сравнению с западноевропейскими языками, но и по сравнению с другими славянскими языками… Основные именные категории – это друг, подруга, товарищ (в значении, рассматриваемом ниже), приятель (жен. приятельница) и знакомый (жен. знакомая). Приблизительно можно было бы сказать, что порядок, в котором указанные слова упоминаются выше, соответствует степени «близости» или «интенсивности» отношения» [Вежбицкая 2001: 105–106]. Свойства дружбы, понимание слова друг раскрываются автором на примере рассмотрения ключевых выражений из английского, русского, японского языков.
Поведение человека проявляется и в проведении определенных обрядов. Обряд – часть культуры, которая связана с этносом. В этом случае невозможно не вспомнить работы Н. И. Толстого. Говоря, например, о свадебной традиции, он пишет: «Театральные элементы в славянской семейной обрядности, прежде всего в свадебной, настолько ярки, что о них говорили уже давно, да и само описание свадебного обряда может быть дано в театральных терминах …» [Толстой 1995: 114].
Приведенные выше фрагменты разных исследований тематически тесно связаны с основными содержательными аспектами многих работ Т. И. Вендиной. К ним же примыкает и недавно изданная книга «Антропология диалектного слова» (М.; СПб.: Нестор-История, 2020). Указанная монография Татьяны Ивановны Вендиной определяет и осмысляет основные положения антропоцентрической лингвистики сквозь призму народного слова. Научный труд Т. И. Вендиной является первым обобщающим трудом подобного типа. До сих пор отечественная и зарубежная лингвистика не знала столь полной работы, в которой бы отражалась связь народного языка и основной системы ценностей человека традиционной культуры. Потрясающая по силе осмысления, широте поднимаемых проблем книга Т. И. Вендиной состоит из пяти глав, каждая из которых может быть воспринята как самостоятельное и целостное исследование.
Для понимания замысла автора, выявления отдельных теоретических положений важно предисловие, которое имеет развернутый характер и которое, наверное, может считаться программным сочинением, где в концентрированном виде излагаются хорошо продуманные и выверенные идеи, способные продвинуть развитие отече- ственного языкознания намного вперед. Татьяна Ивановна высказывает ряд мыслей, осознающихся читателем как константы. Например, в предисловии читаем, что «слово…представляет собой культурное творение, которое нельзя объяснить, не обращаясь к истории народа, его традициям и религии. Вот почему для понимания русской культуры чрезвычайно важным является обращение к языку традиционной (или крестьянской) духовной культуры как наиболее устойчивой и консервативной, отсылающей к истокам нашей национальной культуры» [Вен-дина 2020: 6]. Говоря об основных положениях, которые затем будут раскрыты и доказаны в основных главах монографии, Т. И. Вендина пишет и о том, что «адекватная характеристика психологии, мировоззрения народа и соответственно его культуры может быть получена только с опорой на данные языка. Будучи инструментом культуры, язык формирует не только представления о реальном окружающем человека мире, но и саму личность» [там же: 10]. Исследователь предлагает подвергать реконструкции культурные и духовные ценности с опорой на языковые средства, именно поэтому автором конструируется особый, «субстратный» подход к диалектному слову. Татьяна Ивановна Вендина полагает: «В сочетании с дескриптивно-классифицирую-щим методом описания материала он может служить надежной основой для реконструкции языкового сознания человека традиционной духовной культуры» [там же: 11]. Разработка субстратного подхода к диалектному слову является несомненным достоинством рецензируемой монографии, потому что, как известно, в целом ряде случаев именно определение нужного метода исследования может привести к новым открытиям, новым поворотам в решении научных проблем. По словам Т. И. Вендиной, субстратный метод «предполагает обращение к диалектному слову в плане выявления, с одной стороны, его внутренней формы и значения, а с другой – того духовного начала, тех этнокультурных императивов, которые привели к актуализации данной формы, то есть в конечном итоге – к познанию “бессознательной духовности” народа, которая лежит в основе его культуры и создает тот культурный субстрат, в котором он живет и развивается» [там же].
Монография включает в себя пять основных глав с подразделами внутри, которые задаются основной логикой исследования. Первая глава посвящена репрезентации в диалектном слове человека, во второй главе анализируется представление человека о русской природе и отражение этих представлений в диалектном слове. Третья глава связана с осмыслением базовых, философских понятий, которые также находят воплощение в народной лексике. Четвертая глава посвящена рассмотрению системы основных ценностей и их воплощения в слове. В пятой главе автор останавливается на регулятивном принципе языка традиционной культуры.
При определении взаимодействия языка, культуры, ценностей в каждой главе проанализирован уникальный фактический материал, который отбирался из сводного «Словаря русских народных говоров» (СРНГ) и из отдельных монографий, баз данных конкретных регионов. Но особенно хочется сказать о выборке материала из СРНГ. Субстратный подход предполагает, по мнению Т. И. Вендиной, классификацию материала. Если говорить о сплошном отборе лексических единиц, которые встречаются в СРНГ и которые по разным причинам классифицируются автором как относящиеся к сфере человека, то такая выборка представляется колоссальной. Для рассмотрения того или иного ракурса проблемы подбирался материал из всего корпуса СРНГ. В результате можно говорить о том, что лексические единицы, отобранные из СРНГ, имеют в рецензируемой монографии тематическую классификацию. Безусловно, за организацией такой выборки стоит титанический труд исследователя. При каждой выбранной лексеме указана ее локализация. Сам этот факт делает возможным трансформировать собранный Т. И. Вендиной материал для дальнейших исследований по территориальной отнесенности. Исследователь демонстрирует великолепные возможности работы с материалом и показывает пути его рассмотрения, что является абсолютной ценностью для последующих исследований.
Выбранный ученым вектор научных изысканий и интерпретации совмещает в себе не просто классификационный и множественный аналитический подход, но и анализ, который осуществляется в рамках разных языковых парадигм. Соединение парадигматического, синтагматического, эпидигматического направлений рассмотрения языковых единиц рождает новые данные, более точное и детальное проникновение в суть внутриязыковых и внеязыковых вопросов. Демонстрация в монографии подобного совмещения в ходе анализа языковых единиц очень важна для тех, кто пытается найти свой путь в научных изысканиях, отыскать компромиссные решения научных проблем. Соединяя разные направления систематизации и организации материала, автор активно прибегает к полевым исследованиям. Применение полевого подхода также позволяет сделать размышления исследователя более глубокими и выйти на новый уровень интерпретации материала.
В качестве еще одной важнейшей особенности книги можно назвать обращение к многочисленным научным источникам. Разрабатывая модель отражения традиционной культуры, человека, макрокосма в диалектном слове, Т. И. Вен-дина представляет глубочайший анализ известных научных источников, среди которых не только работы лингвистов, но и серьезные исследования из области философии, социологии, религиоведения, литературоведения.
Остановимся на некоторых базовых положениях, которые высказывает автор в рамках рассмотрения материала в основных главах книги.
В первой главе представлено полноценное рассмотрение образа человека, внешность которого, по мнению Т. И. Вендиной, оценивается с эстетической точки зрения, а именно диалектное слово позволяет оценить лицо, форму и цвет глаз, особенности взгляда, размер и форму головы или лба, размер и форму носа, форму рта и губ, размер и форму ушей, наличие бороды или усов, наличие или отсутствие волос, рост человека, в совокупности с особенностями фигуры, степень полноты. Представления о физическом человеке связаны с определением выдающегося признака, который может лечь в основу номинации: это могут быть приметные особенности человека (горб, косолапость, походка и т. д.). Помимо указания на физические особенности, исследователь отмечает, как посредством диалектного слова характеризуются особенности внешности человека в связи с его воспитанием или социальным положением. Например, Татьяна Ивановна указывает на обозначения неряшливого человека, среди существительных с подобной семантикой много слов общего рода: задрёпа, замаза, замара, захухря, зачупаха, копса, маза, маркуля, мокруда, не-брежа, нечистоха, чумазеня и др. [там же: 42]. Среди физических характеристик человека также отмечаются те, которые указывают на состояние здоровья человека, на его физическую активность или физическую ущербность, на возраст. Наконец, немногочисленную группу образуют наименования людей, соотносимые со склонностями и привычками, обусловленные психофизиологическими особенностями и воспитанием.
В первой же главе много место уделяется и человеку как личности социальной. Среди составляющих данное семантическое поле единиц можно отметить наименования лиц по профессии ( оральник, оратай, засевальщик, бороняга, ко-сельщик, жневец, замолотник и др. [там же: 65– 67]), по выполняемым ими ситуативно-социальным ролям ( бабка, повивалка, вытница, бело-мойница и др. [там же: 81]).
В материале, характеризующем человека в рамках рассматриваемой главы, также большое место занимают представления о человеке и его семье. Татьяна Ивановна, разрабатывая семантическое поле, указывает целый ряд особенностей: названия родственников и особенности организации родства, наименования матери ( мамень, матерь, мати, родельщица, роднушка, породи-телка и др. [там же: 93]), названия детей ( дитё, малек, отрок, ребятенко, блазнятёнок, бродуш-ка и т. д. [там же: 99]).
Последним большим разделом, который находится в центре внимания исследователя в рамках построения концепции отражения человека, является раздел, представляющий человека в культуре социальных отношений. Здесь человек рассматривается как носитель определенных качеств, которые позволяют ему существовать в сообществе, которые формируются социумом. Первая глава, таким образом, представляется как масштабный разговор о человеке, который ведется через народное слово.
Вторая глава, как кажется вначале, не связана с основным содержанием монографии, однако взгляд на русскую природу важен, поскольку в диалектном слове видится осознание природы человеком. Автор останавливается на понимании семантической сферы «Растительный мир», именно она представляется наиболее разработанной (в связи с подготовкой и изданием первого выпуска Лексического атласа русских народных говоров «Растительный мир»). Здесь Т. И. Вендина комментирует названия лесов, которые весьма разнообразны и представляют собой широкое семантическое поле: жарник, су-шинник, мелкаш, игольник, вилажник, рассошник и т. д. [там же: 229]. При этом исследователь подчеркивает, что в названии леса актуализируется множество признаков, да и сами наименования весьма разнообразны: «В Атласе этим названиям леса посвящены отдельные карты, см., например, карты “Большой, обширный лесной массив”, “Небольшой лесок, роща”, “Лес, растущий на болоте”, “Лес, растущий по берегам рек, озер”, “Лес, растущий на возвышенности”, “Молодой лес из деревьев разных пород”, “Густой лес”, “Чаща, дремучий лес” и др. … в диалектах имеется довольно обширный репертуар лексем, называющих лес: бор , дубрава, дуброва, гай, лес, ляд, лядина, нива , роща» [Лексический атлас… 2017: 22].
Далее лингвист останавливается на том, как видится человеку «вторая природа», т. е. та часть окружающего природного мира, которую человек выращивает и возделывает сам. Интерес исследователя сосредоточен и на различного рода номинациях дикой природы. Следующий пласт микрокосма, к которому переходит лингвист, – это пласт мира животных – диких и домашних: годовик, первотелок, мякинник, стригун, недокормок, детинуха и мн. др. [Вендина 2020: 238]. Помимо этого, анализируется довольно большая группа номинаций рельефа, водных объектов, а также различного рода осадков: бережина, лу-жавина, затоп, мочага, кошеница и др. [там же: 241]. Все приведенные лексемы, как мы уже сказали выше, иллюстрируются автором материалом из СРНГ. Заметим, например, что в СРНГ слово бережина, как входящее в тематическую группу лексики природы, имеет четыре значения, среди которых: «1. Отмель, идущая от берега в море. Беломор., 1929. 2. Прибрежный луг, пожня. Кем., Кольск., Онеж. Αρх., 1885… 3. Трава, растущая на морском берегу. Кем., Кольск., Онеж. Αρχ., 1885. || Сено, снятое на берегу озера, реки или ручья. … 4. Редкий лес вдоль берега реки. Холмог. Αρх., 1907» [СРНГ 1966: 248]. Все они оказываются в поле зрения исследователя.
Большую часть в размышлениях исследователя занимают рассуждения об аксиологическом плане номинаций мира природы. Завершая представление мира природы, Татьяна Ивановна находит гносеологические параметры «концептуальной модели семантических отношений, регулярно реализующихся в этой сфере. Среди них: качественно- или предметно-характеризую-щий признак...; локативный признак...; функциональный признак…» [Вендина 2020: 265–266].
Третья глава представляется как одна из основных в рецензируемой монографии. По сути, данная часть может считаться отдельной самостоятельной монографией в монографии: настолько она важна, настолько оригинальны и ценны взгляды, которые высказывает автор в указанной главе. Эта часть книги посвящена философии диалектного слова, поэтому рассматриваются такие вопросы, как выражение посредством диалектного слова жизни и смерти, времени, добра и зла, воли, правды и истины, духа и души, судьбы, красоты и безобразия, совести и стыда, терпения и смирения, тоски, труда и работы, слова, любви и дружбы, счастья и радости, игры, одного и единого, оттенков цветов (белого, красного, черного, желтого, зеленого, голубого, синего), понимания того, что такое знать и ведать. В данной главе поднимаются вопросы духовно-нравственного толка и возможности их отражения в диалектном слове. Т. И. Вендина пишет: «Неслучайно в интерпретации таких понятий, как ЖИЗНЬ1 и СМЕРТЬ, ДОБРО и ЗЛО, ПРАВДА и ИСТИНА, СВОБОДА и ВОЛЯ, которые во многом определили особый путь русской духовности, прослеживается целая этическая философия, связанная с осмыслением жизни челове- ка, ее духовных приоритетов и нравственных ценностей» [там же: 276]. Человек не может не интерпретировать в своем сознании и в целом в поведении основные философские категории и те базовые понятия, которые составляют основу отношения к миру, основу осмысления себя в мире.
Т. И. Вендина указывает на то, что жизнь и смерть понимаются традиционным человеком, человеком духовной культуры, не только как биологические категории, но и как категории, нагруженные культурными смыслами.
Время, по мнению автора, пронизывает все ментальное пространство и имеет разные трактовки в зависимости от того, как оно осознается человеком. Время не существует отдельно от человека, человек присутствует во времени, именно поэтому осмысление времени посредством диалектных слов очень разнообразно и наделено глубинными смыслами. Т. И. Вендина замечает, что «…язык традиционной духовной культуры рисует сложную картину отношения человека ко времени…» [там же: 342].
Осмысление добра и зала во многом определяет принципы существования человека, указанные понятия формируют основу всей культуры. Добро понимается как фундамент жизни человека, как «категория, которой определяются нравственные устои жизни, нормы человеческого общежития» [там же: 352]. Зло противопоставлено добру, потому что ценность добра очевидна, как отрицательная категория зло «охватывает неизмеримо большее поле сознания, чем представления о ДОБРЕ, о чем свидетельствует тот факт, что шкала его признаков более расчлененная по сравнению с категорией ДОБРА…» [там же: 359].
Воля в представлении человека традиционной культуры оценивается неоднозначно. Воля понимается как «присутствие Бога в душе» [там же: 383], свобода воли заключается «в выборе души между добром и злом» [там же].
В осознании правды и истины традиционным человеком, по мнению Т. И. Вендиной, также есть особенности, которые репрезентируются диалектной лексикой. Так, правда представляется как сама жизнь, как правда жизни, с ее переживаниями, социальными особенностями и всем устройством, и истина понимается как некое начало, которое не связано с самой жизнью, находится как будто над жизнью человека.
В представлении о духе и душе традиционное «языковое сознание остается верным заповедям христианства» [там же: 401]. Дух в большей степени, как утверждает Т. И. Вендина на основе проведенного анализа, соотносится с «мышлением человека, его разумом… ДУХ – это сила души, явленная в воле и разуме…» [там же: 396]. Душа – воплощение духа. Дух и душа имеют разные локализации: местом локализации духа считаются легкие человека, а местом локализации души – его сердце. Помимо этого, исследователь указывает: «Вместе с тем нельзя не отметить, что в представлении языка традиционной культуры характер человека формирует ДУХ и ДУША…» [там же: 400].
Понятие судьбы также находит отражение в лексическом фонде русских народных говоров: «Об актуальности понятия СУДЬБЫ в традиционной культуре свидетельствует и тот факт, что в диалектах до сих пор сохраняется представление о том, что судьбой определяется весь жизненный путь человека, от его рождения до смерти …» [там же: 403]. В народном представлении судьба ассоциируется « с физической несвободой, связанностью движений, скованностью, пленом» [там же: 406].
Красота в традиционной народной культуре понимается далеко не только как красота физическая, но и как красота духовная, внутренняя. Помимо этого, категории «прекрасного» и «безобразного» в традиционной духовной культуре «работают» прежде всего в сфере микрокосма, в номинации человека. При этом в эстетическом восприятии человека наблюдается следующая интересная поляризация оценок: эстетическая оценка со знаком “плюс”, то есть признак “красивый” относится чаще всего к женщине…, тогда как оценка со знаком “минус” встречается чаще всего в названиях мужчин…» [там же: 416]. Красота может восприниматься и как социальное, витальное качество человека. В понимании и восприятии КРАСОТЫ, как замечает Т. И. Вендина, «проявляется феномен антропо-логизации диалектного слова: феномен первичной антропологизации (влияние на язык психофизиологического механизма сенсорного восприятия) и вторичной (влияние на язык религиозно-мифологических, философских воззрений, социально-нормативных предписаний и запретов, существующих в традиционной культуре)» [там же: 423].
Следующие понятия, на которых останавливается Т. И. Вендина, – это совесть и стыд. Совесть есть у каждого человека – так полагают носители традиционной культуры. А стыд является внешним, «наружным» проявлением совести. Исследователь пишет: «СТЫД возникает в душе человека, когда им попираются этические и социальные нормы…» [там же: 427]. Резюмируя размышления о понимании стыда и совести, автор отмечает, что эти понятия «раскрывают перед нами этику общественной жизни традиционной культуры, ее морали» [там же: 433–434].
Философские категории терпения и смирения имеют большое значение для понимания сути традиционной культуры. «ТЕРПЕНИЕ в языковом сознании человека традиционной культуры тесно связано с другой христианской добродетелью – СМИРЕНИЕМ», – замечает автор [там же: 440]. Анализ материалов диалектной лексики, проведенный Т. И. Вендиной, показывает, что понятие смирения не выражено столь широко лексическими диалектными средствами, как понятие терпения. Завершая рассмотрение указанных категорий, исследователь подчеркивает, что объединяющим началом для них является то, что «крестьянское мировоззрение находится в соответствии с идеалами православия» [там же: 443].
О репрезентации тоски написано довольно много, однако в рассматриваемой монографии понятие тоски анализируется с точки зрения его отражения в народной лексике. Т. И. Вендина пишет о том, что «ТОСКА в языке традиционной культуры передает сложное психологическое состояние человека. В его осмыслении прослеживается целая философия, описывающая не только психологическое, но и физическое состояние человека» [там же: 450].
Невозможно представить себе человека с традиционными взглядами без понимания труда и работы. Для тех, кто постоянно живет на земле, кто каждый день вынужден с помощью приложения больших усилий организовывать свою жизнь, эти понятия имеют особую значимость. По мнению Т. И. Вендиной, «в диалектном слове отразилась нравственная установка традиционной культуры, в которой труд является регулятивной категорией. Он воспринимается как неотъемлемая составляющая жизни человека, его естественное состояние. Будучи глубинной основой бытия человека, ТРУД обеспечивает его выживание, поэтому является константой человеческой жизни, наполняя ее смыслом» [там же: 473]. Диалектная лексика позволяет установить разницу между трудом и работой: работа связана с пониманием нормы, «она может оцениваться человеком с точки зрения интенсивности прилагаемых усилий» [там же: 454].
Отдельные размышления автора связаны с оценкой диалектного слова в языке традиционной духовной культуры. Роль слова, языка бесконечно важна для человека и в целом для сообщества людей. В результате анализа и обработки материала Татьяна Ивановна Вендина приходит к выводу, что «СЛОВО в языке традиционной духовной культуры нагружено самыми разными смыслами – сакральным, социальным, этическим, аксиологическим, магическим и даже эстетическим» [Вендина 2020: 480]. Заслуживают большого внимания и следующие рассуждения автора, которыми она подытоживает размышления о роли слова: «Наряду с другими именами
Бога, такими, например, как Истина, Добро, Красота, Любовь, СЛОВО стало ценностным ориентиром человека. Это нравственное отношение к СЛОВУ вошло в плоть и кровь русской культуры и приобрело социорегулятивный эффект» [там же: 484].
Пониманию и рассмотрению таких категорий, как любовь и дружба, также уделяется довольно большое внимание. Любовь в представлении человека традиционной культуры может быть самой разнообразной: это может быть любовь взаимная, безответная, платоническая, родительская и др. Любовь может быть связана как с проявлением духовности человека, с состоянием его духа, так и выступать как любовь земная, «сопряженная с плотскими желаниями человека» [там же: 487]. Татьяна Ивановна подчеркивает, что номинаций проявлений разного рода любви в традиционной культуре очень много, эти номинации позволяют смотреть на любовь с разных точек зрения, порой с прямо противоположных. Помимо этого, по наблюдениям Т. И. Вендиной, «отличительная особенность языка традиционной духовной культуры связана с повышенной глагольностью лексико-семантической парадигмы ЛЮБВИ: обилие глаголов, передающих самые разные оттенки этого чувства, говорит о том, что человек ощущает действенность любви в окружающем его мире, при этом она осмысляется им как сила, вектор которой может быть разнонаправленным: она может служить благу, и в этом проявляется объединяющая сила ЛЮБВИ, но может служить и злу, в этом случае она воспринимается как враждебная человеку сила, разрушающая его, оказывающая на него деструктивное воздействие» [там же: 505]. Дружба в осознании человека традиционной культуры отличается от любви тем, что она невозможна между мужчиной и женщиной, которые не находятся в браке. Как замечает Т. И. Вендина, «ДРУЖБА осмысляется как социально-этическая категория, которой определяются нравственные устои жизни, нормы человеческого общежития. Вместе с тем отношение к ДРУЖБЕ в этой культуре неоднозначное, особенно когда речь заходит о человеке, нарушающем этические нормы деревенского социума» [там же: 511].
Наверное, будет правильным после рассмотрения любви и дружбы остановиться на понимании счастья и радости. Счастье в осмыслении человека с традиционным мировоззрением связано с пониманием судьбы, провидения. Счастье определяется как что-то случайное, неожиданное. Такое восприятие счастья «рождает в человеке особое эмоциональное состояние, сродни большой радости» [там же: 516]. Проявлением радости, конечно, в первую очередь становится веселье. И язык традиционной культуры не всегда оценивает веселье как явление положительное, оно может оцениваться и как отрицательный факт, «особенно если ВЕСЕЛЬЕ является беспричинным…» [там же: 517].
Не столько с эмоциональной сферой, сколько с интеллектуальной, ментальной связано понимание того, что такое знать и ведать . К рассмотрению семантики этих глаголов Татьяна Ивановна привлекает не только контексты, иллюстрирующие использование в речи диалектных лексических единиц, но и этимологические сведения, а также многочисленные старославянские тексты, которые позволяют дать более глубокую оценку глаголам знать и ведать . Именно поэтому следующее утверждение автора монографии представляется весьма уместным: «Итак, несмотря на то что “этимологическая память” глаголов знать и ведать в языковом сознании человека традиционной культуры оказалась во многом стерта, язык все-таки сохраняет, хотя и скупые, указания на тонкие различия в семантике этих глаголов, различия, которые во многом предопределены культурными императивами языка Средневековья» [там же: 527]. В глаголе знать заложены основы знания социального, связанного с положением человека в обществе. Глагол же ведать имеет в «диалектах довольно узкое значение» [там же: 526].
Следующий большой блок размышлений автора составляют представления о цвете в традиционной русской культуре. Анализируя репрезентацию цвета, Т. И. Вендина предлагает воспользоваться подходом Н. И. Толстого, который основывался на понятии семантического регистра. Представления о цвете рассматриваются Т. И. Вендиной в трех основных регистрах: онтологическом – при выполнении денотативной функции, метафорическом – при выполнении символической функции, коммуникативном – при выполнении контактоустанавливающей функции. Говоря о белом цвете, Татьяна Ивановна подчеркивает: «…семантический диапазон белого цвета очень широк, поскольку им может описываться как макрокосм, так и микрокосм. Он как бы объединяет в себе чувственно-материальное и идеальное, связанное с понятиями добра, красоты, чистоты и свободы, т. е. белый цвет в языке традиционной духовной культуры является чрезвычайно нагруженным. В целом можно сказать, что, будучи цветом духовности и святости, белый цвет символизирует все позитивное в антитезе белое – черное» [там же: 544]. Завершая рассуждения о красном цвете, автор монографии пишет: «В целом семантический диапазон красного цвета уже, чем у белого, что проявляется в существующих ограничениях в его использовании в онтологическом и коммуникативных регистрах, хотя нельзя не признать, что красный цвет в языке традиционной культуры связан скорее с позитивным, нежели с негативным началом…» [там же: 552–553]. В отличие от белого и красного цветов, черный цвет в абсолютном большинстве случаев передает идею повседневности, тяжести, символизирует скорбь, печаль, траур. В заключение рассуждений о черном цвете автор указывает: «…черный цвет в языке традиционной духовной культуры нагружен отрицательной символикой и является, прежде всего, символом зла, потому с ним связано все негативное в антитезе белое – черное» [там же: 557]. Желтый цвет имеет немногочисленные символические и метафорические реализации. Т. И. Вендина замечает, что «он противостоит красному и белому цветам как цвет с отрицательной символикой» [там же: 560]. О зеленом цвете можно говорить прежде всего с точки зрения денотативного значения, т. е. с точки зрения использования его в онтологическом регистре. Автор подчеркивает: «семантический диапазон зеленого цвета связан, прежде всего, с онтологическим регистром, с миром макрокосма, где он передает чувственно-материальное, визуальное восприятие внешнего мира. В то же время зеленый цвет может “работать” и в метафорическом регистре, где он соотносится с понятиями ‘молодого, неопытногоʼ, а также ‘злогоʼ и ‘болезнен-ногоʼ» [там же: 563]. Голубой цвет чаще всего участвует в названиях фитонимов, практически не называет ничего, что связано с домашним хозяйством. Не встречается голубой цвет и в метафорическом, и коммуникативном регистрах. Синий цвет чаще, чем голубой, может использоваться в метафорическом регистре, но передает в основном отрицательную семантику. Т. И. Вен-дина отмечает: «Синий цвет так же, как и голубой, не участвует в субъективных номинациях, однако актуальность его в наивной картине цве-товосприятия подтверждается сравнительно широким тематическим спектром имен, связанных с бытом, хозяйственной деятельностью крестьянина…» [там же: 566–567].
По мнению исследователя, определенное значение в традиционной культуре имеет и игра. Исследователь замечает, что «ИГРА в языке традиционной культуры – это, прежде всего, праздник» [там же: 571]. Игра, безусловно, связана и с установками человека, его социальным опытом, поведением, природой, которая окружает человека, традициями, сформированными за несколько веков. Однако не всегда в традиционной культуре отношение к игре считается положительным. Играть – это не только веселиться, но и знать меру, время, иметь повод. Т. И. Вендина указывает: «Итак, язык традиционной духовной культуры свидетельствует о том, что отношение к ИГРЕ в этой культуре неоднозначное. …С одной стороны, ИГРА воспринимается как веселье и праздник жизни… С другой стороны, с точки зрения жизненных и поведенческих установок традиционной культуры ИГРА противополагается самой жизни, в которой существование человека – это борьба за самосохранение и выживание, поэтому главной ценностью в иерархической структуре ее ценностных ориентаций и практических установок является ТРУД, а не ИГРА» [там же: 582].
Следующим фрагментом отражения через язык традиционной культуры является понимание одного и единого. Ссылаясь на свои предыдущие работы, исследователь пишет: «В языке традиционной духовной культуры осмысление числительного один и его фонетического варианта един было во многом определено их концептуализацией в языке средневековой культуры, в частности в памятниках старославянской и древнерусской письменности, где они существовали не только как категории числа, но и в качестве религиозно-этических категорий» [там же: 586]. Автор подчеркивает, что рассматриваемые понятия выступают в качестве оппозиции, за каждым корнем «закреплены свои культурные смыслы» [там же: 598]. Корень един-, по мнению Татьяны Ивановны, утвердился в качестве сакрального. А корень один- больше связан с земным, «профанным».
Рассмотрение философских категорий, реализованных диалектным словом, соседствует в монографии с обращением к его аксиологии. Этому вопросу посвящена следующая глава монографии. Данная часть рассуждений автора связана с определением того, какие именно ценности репрезентируются диалектным словом. Татьяна Ивановна Вендина цель указанной главы формулирует следующим образом: «Какие же ценности становятся объектом лексического детерминирования в диалектном слове?» [там же: 604]. Путем привлечения огромного количества лексем, использования различных методов исследования, анализа всей существующей научной литературы автор монографии выявляет группы следующих ценностей: социальных, этических, духовных, эстетических, витальных. Внутри каждой указанной группы определяются более точные объединения, которые и формируются совокупностью диалектных лексем, выражающих аксиологическую семантику. Например, среди социальных ценностей лингвист выделяет такие, как ценность семьи, малой родины, корпоративной принадлежности, труда и всякой деятельности, закона, традиций, нормы. Среди этических цен- ностей определяются следующие: ценность правды, стыда и совести, любви к ближнему, ценность чести. Духовные ценности представлены такими разновидностями: религиозные ценности, ценность души, слова, молитвы, терпения, смирения и кротости, познания и мудрости. Эстетические ценности, которые реализуются диалектным словом, наблюдаются в следующих вариантах: ценность красоты, добро, честность и порядочность. Витальные ценности находят воплощение в ценности жизни, времени, здоровья, биологического выживания. Татьяна Ивановна подчеркивает: «В пользу объективности полученных результатов и верности избранного подхода к описанию ценностей языка традиционной культуры свидетельствует, как представляется, и то обстоятельство, что все эти ценности сохраняют актуальность и сегодня. …Творческие пульсации диалектной личности, осуществившей свой выбор и являющейся выразителем высоких смыслов и ценностей жизни, во многом определили развитие русской культуры» [там же: 637].
Завершающей главой книги является глава о регулятивном принципе языка традиционной духовной культуры. Определяя само понимание регулятивного принципа языка, исследователь пишет: « Регулятивный принцип языка той или иной культуры – это его ведущая культурная мотивация. Он пронизывает всю лексическую систему языка, оказывая влияние не только на восприятие предметов и явлений внешнего мира, но и на их интерпретацию. Именно он придает смысл и значение каждому языкотворческому акту, объединяет в одно единое целое лексикосемантические и тематические группы лексики, позволяя понять логическое основание их выделения в языке культуры» [там же: 639].
Татьяна Ивановна пишет, что « ведущей культурной мотивацией языка традиционной духовной культуры, ее главным регулятивным принципом является человек » [там же: 640]. Важнейшая роль человека проявляется, по мнению Т. И. Вендиной, в следующих фактах: отсутствие в языке теоморфной лексики , интерес к физической природе человека , отсутствие в диалектах аксиологически окрашенных названий лиц в их отношении к Богу при характеристике духовного человека , детальная проработанность семантической сферы «Природа» , лексическая реализация принципа социальной нормы .
В результате анализа материала, систематизированного с учетом выделения указанных фактов, исследователь приходит к выводу о том, что « регулятивным принципом языка традиционной духовной культуры является принцип
социализации нравственных постулатов этой культуры» [там же: 651].
Заключение монографии является собранием основных выводов, наблюдений, которые логически вытекают из всех приведенных выше рассуждений автора и которые задают тон для проведения многочисленных дальнейших исследований. Так, например, важными представляются следующие выводы, сделанные автором: «Диалектное слово является яркой иллюстрацией творческого восприятия реальности, наблюдательности человека… И в этом проявляется феномен влияния человека на язык: феномен первичной антропологизации диалектного слова (влияние на язык психофизиологического механизма сенсорного восприятия, ибо чувства суть инструменты познания) и феномен вторичной антропологизации (влияние на язык религиозномифологических, философских воззрений, социально-нормативных предписаний и запретов, существующих в традиционной культуре)» [там же: 655]. Нельзя не согласиться с одним из итоговых наблюдений автора: «…диалекты – это историческая память народа, наше культурное наследие» [там же: 662].
Представив краткое описание монографии, ее структуры и основных положений, можно еще раз систематизировать основные наблюдения, сделанные в процессе изучения столь масштабного научного труда.
Во-первых, материалом для системных рассуждений становится огромное количество диалектных лексических единиц, которые Т. И. Вен-диной не просто случайно отобраны из словарей и иных источников, а выбраны системно, классифицированы по определенным основаниям, снабжены указанием на локализацию. Сама выборка материала, отражающего антропоцентрические и культурологические смыслы, уже представляется весьма ценной для проведения дальнейших наблюдений или актуализации ее по иным основаниям.
Во-вторых, не может не поражать масштабность, широта подходов и научных парадигм, концепций, положенных в основу размышлений автора. Мы уже отмечали, что свои наблюдения Татьяна Ивановна строит с учетом анализа не только лингвистических научных концепций, но и философских, логических, культурологических, литературоведческих, исторических, социологических.
В-третьих, методы и конкретные приемы анализа, которыми пользуется в своей монографии лингвист, опережают время и действительно открывают исследователям новые горизонты рассуждений, определяют возможность постановки новых проблем, расширяют горизонты лингвистического анализа.
В-четвертых, на наш взгляд, подходы исследователя к анализу материала позволяют сформировать основные стратемы (назовем их так), т. е. глобальные стратегические направления, которые не только задают тон рассмотрению материала в данной монографии, но и в целом определяют направление научной мысли на ближайшую перспективу. К таким стратемам мы бы отнесли ценность диалектного слова, социальный принцип регуляции русской культуры, отличие традиционного мировоззрения от представленного в элитарной культуре, понимание первичной и вторичной антропологизации диалектного слова.
В-пятых, работа Т. И. Вендиной дает возможность увидеть ряд научных теоретических положений, каждое из которых представляет собой ценность само по себе и разработано в рамках каждой главы. Эти теоретические положения мы постарались отразить в анализе глав, к некоторым из них можно, например, отнести связь единиц диалектной лексической системы с многочисленными философскими категориями, выражение диалектным словом аксиологических принципов, разнообразие, сложность и многогранность отражения в диалектном слове человека и окружающего мира.
Все сказанное выше еще раз позволяет нам подчеркнуть значимость для отечественной и зарубежной лингвистики монографии Т. И. Вен-диной «Антропология диалектного слова».
Примечание
-
1 Все выделения в цитатах (прописными буквами, курсивом, полужирным шрифтом) сделаны в полном соответствии с источником.
Список литературы Человек, мир, слово в книге Т. И. Вендиной антропология диалектного слова
- Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. 1995. № 1. С. 37-67.
- Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.
- Березович Е. Л. Язык и традиционная культура. Этнолингвистическое исследование. М.: Ин-дрик, 2007. 599 с.
- Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. М.: Языки славянской культуры, 2001. 287 с.
- Вендина Т. И. Антропология диалектного слова. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. 684 с.
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 261 с.
- Левонтина И. Б. Речь vs язык в современном русском языке // Язык о языке. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 271-289.
- Лексический атлас русских народных говоров. Т. 1. Растительный мир. М.; СПб: Нестор-История, 2017. 736 с.
- Словарь русских народных говоров. М.; Л. (СПб.): Наука, 1965. (Продолжающееся издание.)
- Толстая С. М. На подступах к человеку // Образ человека в языке и культуре. М.: Индрик, 2018. С. 6-20.
- Толстой Н. И. Язык и народная духовная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995. 509 с.
- Топоров В. Н. Имя как фактор культуры // Исследования по этимологии и семантике. Т. 1. Теория и некоторые частные ее приложения. М.: Языки славянской культуры, 2004. 814 с.
- Шмелев А. Д. Русская языковая модель мира. М.: Языки славянской культуры, 2002. 224 с.