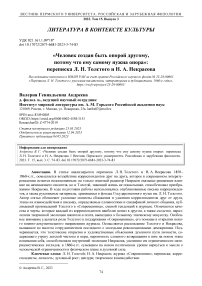«Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора»: переписка Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова
Автор: Андреева В.Г.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется переписка Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова 1850- 1860-х гг., осмысляется воздействие корреспондентов друг на друга, которое в современном литературоведении остается недооцененным: не только опытный редактор Некрасов оказывал решающее влияние на начинающего писателя, но и Толстой, знающий жизнь не понаслышке, способствовал преображению Некрасова. В ходе подготовки работы использовались опубликованные письма корреспондентов, а также рукописные материалы, хранящиеся в фондах Государственного музея им. Л. Н. Толстого. Автор статьи обозначает условные моменты сближения и удаления корреспондентов друг от друга, этапы их взаимодействия в письмах, определяемые сложностями и спецификой личного общения, публикацией произведений Толстого в «Современнике», сменой тенденций в журнале. Отмечаются качества и черты, которые каждый из корреспондентов наиболее ценил в другом, а также сходство, параллелизм творческой эволюции писателя и поэта, вышедших к большому эпическому искусству. Особенное внимание уделяется роли Толстого в поддержании «Современника», его помощи в открытии нового военно-документального направления журнала. Осмысляется расхождение Толстого и Некрасова, вызванное во многом сотрудничеством последнего с молодыми революционными демократами. Подчеркивается, что толстовские открытия и художественные объяснения духовного пути личности, содержащего утрату детской чистоты и веры, вероятность сложного возвращения к ним на новом этапе понимания себя, способствовали внутренней эволюции Некрасова, уяснению им ограниченности материалистических взглядов, в 1860-е гг. сумевшим на новом поэтическом уровне вернуться к мысли о человеческой ограниченности в физическом плане и духовной силе.
Л. н. толстой, н. а. некрасов, журнал «современник», переписка, корреспонденты, личность, духовный рост, цензура, творческое взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/147241910
IDR: 147241910 | УДК: 821.161.1.09"18" | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-3-74-83
Текст научной статьи «Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора»: переписка Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова
Н. А. Некрасов в переписке Толстого с русскими писателями, литераторами и публицистами среди всех остальных корреспондентов занимает особенное место. Именно Некрасов – один из самых видных литературных деятелей и журналистов – стал на раннем этапе переписки Толстого главным его адресатом. Некрасов сыграл в судьбе начинающего писателя особенную роль, оказавшись его «литературным крестным отцом» [Нестеренко 2008: 131], а в последующие несколько лет он значительно влиял на продвижение Толстого. Воздействие корреспондентов друг на друга было серьезным, и до сих пор в науке оно остается недооцененным: не только опытный редактор Некрасов оказывал решающее влияние на начинающего писателя, но и Толстой, знающий жизнь не понаслышке, внимательный к душевным движениям, способствовал преображению Некрасова.
Цель данной статьи заключается в аналитическом осмыслении особенностей переписки Толстого и Некрасова, способствовавшей их взаимному положительному изменению. Письма Толстого и Некрасова совмещали в себе сугубо личные переживания и мысли корреспондентов с рассуждениями о проблемах времени – середины XIX в., за счет масштаба личностей писателей они стали и важным документом эпохи. Переписка Толстого и Некрасова наиболее полно позволяет развеять существующие в науке крайние представления о редакторе журнала «Современник», которого многие отечественные ученые, особенно в советское время, считали однозначным сторонником революционных демократов, отождествляя народное служение поэта с бунтарскими настроениями [Бухштаб 1989; Гин 1958; Евгеньев-Максимов 1956; Тарасов 1989; Чуковский 1971].
Некрасова нередко называли и человеком внешним, карьеристом, заботившимся в большей степени о производимом им впечатлении, о выгоде, нежели о содержании. Так, К. Ключкин отмечает общую тенденцию в восприятии Некрасова его современниками: «Современники поэта, а также более поздние критики и ученые прямо не признавали всей сложности его культурной роли. Отклики на жизнь и деятельность Некрасова в письмах, дневниках, мемуарах, публицистической и научной литературе интеллигенции <…> подчеркивали его гражданский вклад, уделяя особое внимание его идеологической поэзии и его роли как издателя основных прогрессивных журналов своего времени» [Klioutchkine 2007: 45]. Сам исследователь утверждает, что «увлечение интеллигенции Некрасовым проистекало как из любопытства по поводу его гламурных этиче- ских неудач, так и из преклонения перед его гражданскими достижениями» [там же: 46]. Между тем, помимо рассуждений о «двусмысленности поэзии, карьеры и личной жизни Некрасова», «двусмысленности общественного имиджа Некрасова», которые имеют внешний характер, необходимо понимать глубинную основу его творческой эволюции, заключавшуюся в поиске поэтом возможности полноценного переживания личного пути в условиях насыщенной общественной жизни.
В опубликованной переписке Толстого и Некрасова достаточно мало пропусков и «белых пятен», тем не менее они есть: при подготовке данной статьи нами использовались не только тексты писем Толстого и Некрасова из полных собраний сочинений писателей [Некрасов 1981– 2000; Толстой 1928–1958], тексты и комментарии из «Переписки Л. Н. Толстого с русскими писателями» (Л. Н. Толстой 1978), но и рукописные материалы, хранящиеся в фондах Государственного музея им. Л. Н. Толстого. Методология исследования обусловлена изучением и сопоставлением рукописей и опубликованных писем, аналитическим осмыслением и сравнением творческой эволюции Толстого и Некрасова в период их активной переписки – в работе использованы биографический, историко-генетический и историко-типологический методы.
Важно отметить смелость, настойчивость и избирательность Толстого, отправившего свою первую рукопись (повесть «Детство») в лучший журнал середины XIX в. – «Современник», главным редактором которого был Некрасов. Последний, в свою очередь, прозорливо угадал в молодом писателе будущего классика русской литературы. Именно в журнале «Современник» были опубликованы первые произведения Толстого: трилогия «Детство» (№ 9 за 1852 г.), «Отрочество» (№ 10 за 1854 г.), «Юность» (№ 1 за 1857 г.), рассказ «Набег» (№ 3 за 1853 г.), «Рубка леса» (№ 9 за 1855 г.), «Записки маркера» (№ 1 за 1855 г.), Севастопольские рассказы (№ 6, № 9 за 1855 г. и № 1 за 1856 г.), «Метель» (№ 3 за 1856 г.), «Два гусара» (№ 5 за 1856 г.), «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн» (№ 9 за 1857 г.), «Альберт» (№ 8 за 1858 г.).
А. А. Нестеренко отмечает, что «общение с Некрасовым в период сотрудничества в “Современнике” для молодого Толстого было одним из главных этапов жизненного и творческого пути» [Нестеренко 2008: 146]. Исследователь предполагает, что Толстого в «Современник» привлекла и «личность Некрасова – мятущаяся, оригинальная и непредсказуемая» [там же: 145]. Примечательно, что в первом письме к Некрасову Тол- стой подчеркнул его профессиональную надежность: «Я убежден, что опытный и добросовестный редактор – в особенности в России – по своему положению постоянного посредника между сочинителями и читателями, всегда может вперед определить успех сочинения и мнения о нем» (ОР ГМТ. 8623)1.
Активная переписка между Толстым и Некрасовым происходила с лета 1852 г. года по весну 1858 г. В 1860-е гг. переписка почти не велась – за исключением двух писем Некрасова 1861 г. В 1870-е гг. Толстой и Некрасов обменялись несколькими в большей степени рабочими письмами. Несмотря на разрыв с «Современником», Толстой в августе 1874 г. отправил Некрасову статью «О народном образовании», заметив, что ему приятно посылать эту статью в журнал, с которым было связано множество хороших молодых воспоминаний» (Толстой 1928–1958, т. 62: 110).
Благодаря работе в журнале «Современник» Толстой понял основы издательского процесса, специфику действий российской цензуры. Но в самом начале переписки Толстой и Некрасов столкнулись с рядом сложностей и непониманий. Молодой писатель, отправивший в «Современник» повесть «Детство», вперед соглашался на все сокращения , но желал, чтобы рукопись была напечатана без прибавлений и перемен . Конечно, этого не могло быть: повесть опубликовали с другим названием («История моего детства»), цензурными сокращениями и редакторскими коррективами. Толстой не ожидал таких решительных изменений своего текста. В неотправленном письме к Некрасову от 18 ноября 1852 г. он, описывая свою «изуродованную» повесть, использует развернутую метафору: «Но мое дитя и было не очень красиво, а его еще окорнали и изуродовали» (ОР ГМТ. 6959). Но именно эта метафора контрастирует с замечанием Толстого, который, не зная порядков работы с текстом рукописи, согласился на все сокращения: «Я вперед соглашаюсь на все сокращения, которые вы найдете нужным сделать в ней, но желаю, чтобы она была напечатана без прибавлений и перемен» (ОР ГМТ. 8623).
По всей видимости, пропуски частей текста и истории Натальи Савишны в «Детстве», как и изменение названия, Толстой считал коррективами сотрудников редакции. Не случайно при отправке Некрасову своего следующего произведения – рассказа «Набег» – писатель предостерегал редакцию уже от любых изменений: «Я буду просить вас, милостивый государь, дать мне обещание, насчет будущего моего писания, ежели вам будет угодно продолжать принимать его в свой журнал, – не изменять в нем ровно ничего»
(ОР ГМТ. 8625); «…не выпускайте, не прибавляйте, и главное, не переменяйте в нем ничего. Ежели бы что-нибудь в нем так не понравилось вам, что вы не решитесь напечатать без изменения, то лучше подождать печатать и объясниться» (ОР ГМТ. 8626). Таким образом, надежды, которые в начале переписки Толстой возлагал на Некрасова, и оправдались – Некрасов понял художественную силу и значимость первого произведения Толстого – и отчасти нет – Некрасов не сразу уяснил своеобразие произведения Толстого и его мастерство психолога, однако основная ответственность за изменения в повести лежала на цензурном ведомстве.
Помимо разговоров о коррективах в первых письмах общение Толстого и Некрасова было осложнено также вопросом о гонораре: Толстой в то время очень нуждался в деньгах и не знал порядка «Современника» и ряда других журналов, согласно которому начинающему автору не выплачивался гонорар за его первое произведение. В целом сопоставление ранних писем Некрасова Толстому и его последующих посланий показывает, что при всей чуткости и редакторской сметливости, при большом интересе к новому писателю в 1852 г. Некрасов не был к нему так внимателен, как в последующие несколько лет.
Письма Некрасова Толстому максимально вежливы, но при этом точны и категоричны. С мастерством знающего издателя и талантливого поэта, произведения которого также не раз подвергались запретам и сокращениям, Некрасов сообщал Толстому об «измаранных корректурах», просил не падать духом от этих неприятностей. Некрасов аккуратно, не скрывая предполагаемых им недостатков, сообщал Толстому о его «литературных промахах». Так, Некрасов считал грубым и неудачным по форме рассказ «Записки маркера». При этом главный редактор «Современника» не стеснялся сказать Толстому о том, что журнал печатает немало более слабых вещей, что «Записки маркера» он сравнивает с его же, толстовскими, первыми произведениями, которые очень много обещали, что, несмотря на некоторые слабости рассказа, он все же готов его напечатать.
Однако уже в конце 1854 – начале 1855 г. тон и содержание писем корреспондентов несколько изменяются. Толстой воочию увидел настоящее русских солдат, офицеров и высшего командования во время военных действий: он критически оценивает себя, немало думает о вечном, о Божественной воле и месте человека на земле. Некрасов в это время не настолько близок к созерцанию тонкой грани между жизнью и смертью, как Толстой, однако он также переживает ряд крити- ческих моментов, связанных с личным – прогрессирует болезнь Некрасова, причем временами ему было так плохо, что друзья опасались за его жизнь. В апреле 1855 г. умер в младенчестве ребенок Некрасова и Панаевой – об этом и о своем состоянии Некрасов сообщал в письме Тургеневу от 19 апреля 1855 г.: «Простившись с тобой, я уехал – и скоро мне дали знать, что бедному мальчику худо. Я воротился. Был на середине дороги у Панаевых, потом был в Петербурге. Бедный мальчик умер. Должно быть, от болезни, что ли, на меня это так подействовало, как я не ожидал. До сей поры не могу справиться с собой» (Некрасов 1981–2000, т. 14, кн. 1: 202).
Н. Н. Пайков убедительно показал, что существовало слишком много факторов, мешавших Толстому и Некрасову уяснить и принять друг друга, однако «было в Толстом и нечто такое, что не просто ощутил и чем восхитился Некрасов, но что глубоко лично пережил едва ли не один он – драму рождения личности. Воссоздание сияния детства накануне грозы отрочества, само конфликтное течение внутреннего бытия Николеньки Иртеньева от детства через отрочество к юности обнажило “материю” внутреннего бытия, раскрепостило за логикой социальной судьбы не логику биографии как цепи формирующих воздействий…, но логику интимных решений и свободной ответственности самой формирующейся личности за все, что с нею происходит в ее становлении» [Пайков 2006: 126].
Мы уже отмечали в более ранней нашей статье, что в начале Крымской войны желание Некрасова поехать в Севастополь «приобретает не просто образ героического действа, стремления быть причастным к подвигу всего народа», но попытку «предпринять что-то решительное, то, что бы изменило его существование и придало сил и движения» [Андреева 2021: 39–40]. И Толстой, и Некрасов в 1855 г. приходят к осмыслению важности правильной организации личного пути. Подступы и Толстого, и Некрасова к будущим эпическим полотнам находятся именно в событиях 1850-х гг. Н. Н. Скатов справедливо заметил, что в 1855 г. Некрасов погружался в древний эпос, но лишь спустя десятилетие эпические основы были осмыслены классиками: «Удивительно, как во многом, подчас математически (хронологически) точно, повторяют друг друга самый великий наш “эпик” в прозе (Толстой) и самый великий наш поэтический “эпик” (Некрасов), к тому же отстоя в эту пору друг от друга уже достаточно далеко. Как одновременно, год в год – 1863-й, они берутся за эпос, какое счастливое чувство творческой свободы, легкости и счастья они при этом испыты- вают, в какое смятение повергают их уход “эпоса” и новая эпоха, как мучительно в ней работается» [Скатов 1994].
Сближение Толстого и Некрасова происходило и на основании глобальной поддержки первым журнала «Современник». С началом Крымской войны редакторам пришлось нелегко с подбором материала для журналов. А у Толстого в это время появилась идея издания военного журнала. Толстой и шестеро его друзей-офицеров (капитаны А. Д. Столыпин и А. Я. Фриде, штабс-капитаны Л. Ф. Балюзек и И. К. Комстадиус, поручики Шубин и К. Н. Боборыкин) в сентябре 1854 г. задумали создать общество, которое бы содействовало просвещению военных, однако эта идея была вытеснена другой: друзья решили издавать журнал «Солдатский вестник». Идея периодического издания вдохновляла Толстого, он составил «Проект журнала “Солдатский вестник”». Военные события обретали все более критический характер, журнал было решено назвать не «Солдатский вестник», а «Военный листок», и в издании размещать сообщения о военных действиях. Командующий М. Д. Горчаков одобрил план офицеров и представил проект в Петербург на рассмотрение военного министра с последующим докладом царю. Однако государь посчитал появление нового журнала избыточным (в то время в России выходила газета «Русский инвалид»), поэтому Толстой предложил Некрасову поставку материалов даровитых сотрудников, которые составляли бы в номерах «Современника» целый отдел или даже несколько отделов.
Это желание Толстого о публикации в «Современнике» материалов военной тематики не только совпадало с инициативой редакторов, но и подтолкнуло их к новым ходатайствам об открытии в «Современнике» отдела военных и политических известий. В мае 1855 г. Панаев обратился в Главное управление цензуры с новой просьбой о дозволении печатать в «Современнике» как известия о военных действиях, так и военную беллетристику: «Если литературные журналы будут вовсе лишены права рассказывать о подвигах наших героев, быть проводниками патриотических чувств, которыми живет и движется в сию минуту вся Россия, то остаться редактором литературного журнала будет постыдно <…> Разве мы, редакторы этих журналов, не русские по сердцу и убеждениям? Можем ли мы остаться в эти минуты совершенно чуждыми великим совершающимся событиям? Можем ли подавить в себе все патриотические стремления, порывания, чувства?» (Скабичевский 1892: 392–393). Данное «Современнику» разрешение открыло целый поток новой, важной информации, связанной с до- кументальными зарисовками, впечатлениями очевидцев, очерками. Во многом благодаря Толстому, который начал отправку военных материалов (своего рассказа «Севастополь в декабре месяце», после – статьи А. Д. Столыпина, опубликованной в № 7 «Современника» за 1855 г. под названием «Ночная вылазка в Севастополе. Рассказ участвовавшего в ней»), «Современник» смог выйти на новые позиции. Не случайно в письме от 3 мая 1855 г. И. И. Панаев писал Толстому: «Ваше участие в журнале моем так важно, что его будущее связано некоторым образом с Вашими трудами» (Л. Н. Толстой 1978: 120).
Важное письмо Некрасов написал Толстому после выхода в свет рассказа «Севастополь в мае», который был опубликован в № 9 журнала «Современник» под названием «Ночь весною 1855 года в Севастополе», но без подписи Толстого. Рассказ был настолько обезображен цензурой, что И. И. Панаев, который в то время замещал Некрасова на посту главного редактора, даже не решился поставить под текстом подпись Толстого. Некрасов писал автору о силе и направлении его таланта, о выражении правды жизни, сообщал о своих опасениях, связанных с тем, что «время и гадость действительности» могут заглушить в Толстом удивительную силу его таланта. Примечательно, что Некрасов тут пишет фактически о «заразительности» прозы Толстого: «Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать…» (Некрасов 1981–2000, т. 14, кн. 1: 218) – именно эту характеристику «поздний» Толстой считал одной из основных при описании настоящего искусства.
Весной 1856 г. взаимоотношения Толстого и Некрасова становятся еще более доверительными. Некрасов в это время переживает серьезное обострение болезни, которую врачи долго не могли диагностировать. Примерно в это же время Толстой начинает ощущать себя уже настоящим литератором, который может разговаривать с Некрасовым на равных. Свидетельством этого можно считать несколько фактов. Во-первых, судя по письму Толстого от 29 июня 1856 г., который высоко отзывается о стихотворении Некрасова, главный редактор журнала «Современник» прислал ему свое новое поэтическое произведение (вероятнее всего, стихотворение «Самодовольных болтунов…»), желая узнать мнение Толстого и показать новое стихотворение М. Н. Толстой. Во-вторых, Толстой становится более свободным в переписке с Некрасовым: как в плане стиля и словоупотребления, комментариев, так и в плане критики отдельных материалов, опубликованных в «Современнике». В письме от
2 июля 1856 г. Толстой резко негативно отзывается о повести В. В. Берви «В глуши», которая была опубликована в № 6 «Современника» 1856 г. за подписью «В. Б-ви» – Толстой не преуменьшает своего негативного впечатления и открыто называет повесть «дрянью». Причем впервые в переписке с Некрасовым Толстой допускает очень вольные и не печатные лексемы при передаче содержания произведения Берви, оказавшего на него неприятное «немецкое впечатление» (ОР ГМТ. 5791). В этом же письме Толстой выражает свое представление о направлении «Современника» и не одобряет появление в журнале Чернышевского, жалея об уходе Дружинина, – Толстой считает, что его критика украшала бы «Современник», в отличие от статей нового сотрудника Чернышевского, которого писатель называет «клоповоняющим господином». Толстой высказывает свою позицию о том, что произведения, основанные на возмущении, желчи и злости, могут быть популярны и нравиться публике, но они не могут быть хороши.
В литературоведении существует мнение, что Некрасов решительно отказался от эстетической критики в пользу реальной, что первая была оценена им как не соответствующая времени. Однако переписка Некрасова показывает, что это не так. 6 августа 1855 г. Некрасов писал самому Дружинину, сообщая о том, что перечитал его статьи о Пушкине: «В них виден не только знаток и мастер дела, но и благородно мыслящий человек, – качество столь редкое в теперешних авторах; т. е. в их писаниях. – Я ужасно жалел, что эти статьи не попали в Современник, – они могли бы быть в нем и при статьях Чернышевского, которые перед ними, правда, сильно бы потускнели. Мне, Дружинин, весьма хочется возобновить Ваше постоянное участие в Современнике, о чем поговорим, надеюсь, лично…» (Письма к А. В. Дружинину 1948: 218).
В связи с особенным упорством Толстого, которое отмечали многие его друзья и корреспонденты, Некрасов «наставляет» молодого писателя аккуратно, стараясь не задеть его самолюбия, многие моменты не освещает в письмах полностью, но оставляет до личных разговоров. Так, в письме от 22 июля 1856 г. Некрасов сначала рассказывает о насущных делах: о своей встрече с Тургеневым и его чудесной новой повести, о повести Н. Н. Толстого, о предполагаемой публикации «Юности» и возможных сроках, об обязательном соглашении с журналом «Современник», далее представляет Толстому план публикации на последние книжки журнала «Современник», информируя Толстого и одновременно возлагая на него определенную ответственность:
Некрасов планировал поместить «Юность» в № 10 журнала «Современник» за 1856 г. И лишь потом редактор сообщает, что хотел бы поговорить на досуге о тех важных моментах, о которых писал Толстой. Некрасов использует психологический ход: откладывая разговор с Толстым до встречи, он категорично, но при этом аккуратно излагает свою позицию – Некрасов был не согласен с Толстым ни по поводу характеристики Чернышевского, ни по поводу рассуждений о злости и возмущении в литературе.
Многие литературоведы не видят глубинную причину несогласия Толстого с Чернышевским, находя ее только в расхождении демократических симпатий: «Несмотря на периодическое увлечение молодого Толстого “демократической тенденцией”, его инстинкты были явно недемократическими, и он в целом не любил своего радикального современника Николая Чернышевского, что хорошо известно» [Hruska 2000: 64]. Проблема расхождений в действительности состояла в том, что Толстой восставал против тенденций, который затемняли и нивелировали уникальный внутренний мир личности, раскрывающийся полностью только в проекции вечности, а не социальных интересов.
Письмо Толстого, являющееся ответом на послание Некрасова от 22 июля 1856 г., не сохранилось. Но по ответному письму Некрасова от 22 августа (3 сентября) можно заключить, что даже незначительные рассуждения Некрасова в духе возражения способствовали появлению у Толстого категоричных настроений о возможном разрыве. Некрасов просил Толстого не смешивать в нем «официального человека» с частным. Главный редактор «Современника», фактически открывший миру Толстого, увидевший его большой талант, пишет молодому другу и коллеге о своем понимании его характера, натуры и внутренней силы. Некрасов проницательно увидел в Толстом дикую крайность, которая была ему более по душе, нежели равнодушие или апатия.
Письма Некрасова Толстому хорошо передают многогранную жизнь главного редактора журнала «Современник», при всей его активности нередко испытывавшего грусть и одиночество, не могущего надолго оставить своего журнального дела и отдаться творчеству. Примером незаменимости Некрасова на посту главного редактора стал тот факт, что с его отъездом в Европу «Современник» «заковылял» – Некрасов писал об этом Толстому, переживая за журнал и собирая силы для работы. Отталкиваясь от упоминаний Толстого о возмущении в литературе, Некрасов немало писал о своем творчестве и отсутствии «фразы», о собственных планах неко- торых новых произведений (к примеру, поэмы «Несчастные»), о любви как высшем смысле человеческой жизни, о скоротечности последней, обретающей смысл лишь при нужности человека другому. По письмам Некрасова весны 1857 г. чувствуется, что в это время он не только приободрял и направлял Толстого, делился с ним найденным смыслом жизни, преображающим страшную и обидную для человека реальность, но в процессе написания посланий сам еще раз проживал открытие ценности «другого»: «Человек брошен в жизнь загадкой для самого себя, каждый день его приближает к уничтожению – страшного и обидного в этом много! На этом одном можно с ума сойти. Но вот вы замечаете, что другому (или другим) нужны вы – и жизнь вдруг получает смысл, и человек уже не чувствует той сиротливости, обидной своей ненужности, и так круговая порука» (ОР ГМТ. 170. 92/11). Эти мысли видятся Некрасову настолько значимыми, что он переживает о глубине и точности их передачи.
Н. Н. Пайков верно отметил, что только с Толстым Некрасов становится «на редкость открытым и откровенным»: «Едва ли не жертвуя коммерческими интересами, он распахивается своему младшему современнику не только с литературно-читательской или откровенно-дружеской стороны, а и с самой интимно-душевной тоже <…> Стоит заметить особо, что Некрасов отнюдь не мастер развернутых эпистол, но его письма к Толстому 1857 г. это вообще самые объемные из всех дошедших до нас его писем» [Пайков 2006: 121–122]. В этом послании от 5(17) мая 1857 г., написанном из Парижа, Некрасов излагал найденную им правду о любви и неравнодушии, которую он осознал во многом благодаря Толстому: «Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора. Рассматривайте себя как единицу – и вы придете в отчаяние. Вот основание хандры в порядочном человеке – думайте, что и с другими происходит то же самое и спешите им на помощь» (ОР ГМТ. 170. 92/11). В цитируемом письме Некрасова показана разгадка одиночества и трагического ухода многих революционных демократов: именно в это время, в результате сравнения личностей, качеств, характеров, в том числе Толстого и Чернышевского, Некрасов пришел к выводу о духовной слабости своих молодых соратников-демократов. Ю. В. Лебедев справедливо пишет о том, что «создавая историкогероические поэмы, Некрасов действовал “от противного”: они были своеобразным упреком той революционно-материалистической бездуховности, которая глубоко потрясла и встревожила поэта» [Лебедев 2016: 61].
Переписка Некрасова и Толстого вызывала в обоих корреспондентах схожие желания: писем было мало, хотелось увидеться лично и всё обговорить. Однако по мере приближения к 1860-м гг. письма Некрасова и Толстого становились все более сдержанными. Отдаление между Толстым и Некрасовым произошло после категоричного суда последнего над повестью «Альберт» (которую в то время и писатель, и редактор называли «Погибший»). Некрасов сначала открыто и прямо писал Толстому, что повесть его нехороша: Толстой отвечал, что его исключительная повесть и не может нравиться многим, что на нее он потратил год неустанного труда – писатель просил Некрасова вернуть ему рукопись. Интересно, что в письме от 19 января 1858 г. Некрасов признавался Толстому в собственном переутомлении, граничащем уже с глупостью, сокрушался, что так мало поговорил с Толстым о его повести, над которой он произнес решительный суд: «Я глуп, как сайка, бессонные ночи отшибают память и соображение...» (ОР ГМТ. 170. 92/15).
Толстой внимательно прочитывал журнал «Современник», наполнение которого не всегда казалось писателю достойным. Так, в письме от 21 января 1858 г. Толстой раскритиковал новый номер журнала, отметив, что он «очень плох». В феврале 1858 г. Толстой открыто заявил Некрасову, что союз писателей, сотрудничающих с «Современником», изжил себя. Толстой не скрывался, выражая свое желание печататься и в других журналах. Кроме того, он вновь заявлял Некрасову о деньгах, сроках и скорости выплат. Некрасов с деньгами не тянул: в связи с уходом из «Современника» нескольких авторов редактору важно было сохранить настрой и темп работы. В феврале 1858 г. Толстой еще не отказывался публиковаться в «Современнике», более того, обещал Некрасову печатать всё самое лучшее именно в его журнале. Однако условия сотрудничества тяготили как авторов, подписавших соглашение, так и самого Некрасова, о чем он откровенно писал Толстому 22 февраля 1858 г., замечая, что не все писатели, в отличие от Толстого, к которому у него не было упреков, чувствуют свою большую ответственность.
В письме от 26 февраля 1858 г. Толстой констатировал свое расхождение с Некрасовым, вызванное внешними факторами: «Я боюсь, вследствие того, что мы давно не видались, и эти рас-счеты, между нами что-то неладно. – Я этого очень, очень бы не желал» (ОР ГМТ. 8638). Но после того, как цензура задержала повесть «Альберт», из-за чего она не была опубликована в № 4 журнала «Современник» за 1858 г., а появилась только в августовской книжке с датой
28 февраля 1858 г., переписка Толстого и Некрасова совсем сошла на нет. По всей видимости, Толстой был обижен публикацией материалов в летнем номере журнала, который считался не ходовым.
После письма Некрасова от 3 апреля 1858 г. переписка между корреспондентами прекратилась. Зимой 1859 г. Некрасов, узнавший от Тургенева, что Толстой завершает новый роман, звал его в журнал, предлагая какие угодно денежные условия. По всей видимости, Некрасов дважды пытался пригласить Толстого: первая его записка нам не известна, однако мы знаем о ее существовании благодаря второму краткому посланию, которое Некрасов передал Толстому через Тургенева. Толстой не ответил и на второе воззвание Некрасова, хотя в финале его была обозначена просьба о кратком ответе: «Отвечайте мне, хотя в двух словах».
13 (25) апреля 1861 г. Толстой приехал из-за границы в Петербург, где увиделся и с Некрасовым. Встреча была дружественная, хотя речи о публикации произведений Толстого в «Современнике» не заходило. Вместо собственных произведений Толстой предложил Некрасову опубликовать в переводе, на русском языке, повести Бертольда Ауэрбаха, с которым Толстой встретился в Берлине. Толстой был очарован не только произведениями Ауэрбаха, но и им самим, его обаянием, внешностью и силой утверждения. Вероятнее всего, в личной встрече с Некрасовым Толстой настолько ярко описал Ауэрбаха и его произведения, что Некрасов заинтересовался и согласился с возможностью публикации рассказа или повести в виде пробы. Однако в письме от 30 мая 1861 г. Некрасов от публикации произведений Ауэрбаха в «Современнике» отказался.
При этом он вновь обратился к Толстому с приглашением в журнал на чрезвычайно выгодных условиях: Некрасов предлагал Толстому 200 рублей серебром с печатного листа, просил ответить на его послания. Если в письме от 30 мая 1861 г. он использовал при упоминании желаемого ответа конструкцию со значением условия: «Если вздумаете отвечать на это письмо, то адресуйте в Ярославль, на мое имя», то в письме от 3 июня 1861 г. Некрасов уже применяет оборот, несколько уничижающий его самого и возвышающий Толстого: «Будьте здоровы и удостойте меня ответом о том, согласны ли Вы дать что-нибудь в “Современник”» (Некрасов 1981–2000, т. 14, кн. 2: 160).
Насколько можно судить по письмам самого Некрасова, «Современник» в то время испытывал острую нехватку материалов. В этой ситуации, особенно после просьб Некрасова, молчание
Толстого выглядело однозначным разрывом с «Современником». Между тем общение корреспондентов в 1850-е и 1860-е гг. не прошло для обоих писателей бесследно. А. В. Гулин справедливо пишет, что «с исчезновением прямых творческих контактов и нарастанием идейных противоречий на протяжении 1860–1870-х гг. отношения Некрасова и Толстого ограничились редкой деловой перепиской. Тем показательнее, при всем расхождении художественных и человеческих судеб, выглядят в это время творческие сближения старшего и младшего литераторов» [Гулин 2021: 98]. На самом деле, удивительные прозрения и точки сближения обоих литераторов, связанные с рассуждениями о высших проявлениях человеческого духа, во многом обусловили их параллельное движение на ближайшие 10–15 лет. Толстовские открытия и художественные объяснения духовного пути личности, содержащего утрату детской чистоты и веры, вероятность сложного возвращения к ним на новом этапе понимания себя, способствовали, по нашему мнению, внутренней эволюции Некрасова, в 1860-е гг. сумевшего на новом поэтическом уровне вернуться к мысли о человеческой ограниченности в физическом плане и духовной силе.
Список литературы «Человек создан быть опорой другому, потому что ему самому нужна опора»: переписка Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова
- Андреева В. Г. Война как средство и состояние на русском пути: Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой // Дискурс Некрасова и Достоевского: культурное наследие и его интерпретация. Ярославль: Ярослав. обл. универсал. науч. библиотека имени Н. А. Некрасова, 2021. С.36-42.
- Бухштаб Б. Я. Н. А. Некрасов: Проблемы творчества. Л.: Сов. писатель, 1989. 349 с.
- Гин М. М. Некрасов - драматург и театральный критик. Л.; М.: Искусство, 1958. 147 с.
- Гулин А. В. Декабристы в эпическом отображении Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова // Два века русской классики. 2021. Т. 3, № 2. С. 96119. doi 10.22455/2686-7494-2021-3-2-96-119
- Евгеньев-Максимов В. Е. Некрасов // История русской литературы: в 10 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941-1956. Т. VIII. Литература шестидесятых годов. Ч. 2. 1956. С. 56-160.
- Лебедев Ю. В. Христианские и фольклорные мотивы в поэзии Н. А. Некрасова // Вестник Костромского государственного университета. 2016. Т. 22, № 4. С. 59-64.
- Нестеренко А. А. Н. А. Некрасов и Л. Н. Толстой (опыт анализа творческой переклички поэта и прозаика) // Ученые записки УО ВГУ им. П. М. Машерова. 2008. Т. 7. С. 131-147.
- Пайков Н. Н. Чтение Некрасовым Толстого и письма его к писателю как акт духовного самосознания поэта // Карабиха: историко-литературный сборник. Вып. 5. Ярославль: Изд-во Александра Рутмана, 2006. С. 120-129.
- Скатов Н. Н. Некрасов. М.: Мол. гвардия, 1994. 411 с. URL: https://royallib.com/book/skatov_niko-lay/nekrasov.html (дата обращения: 18.03.2022).
- Тарасов А. Ф. Некрасов в Карабихе. Ярославль: Верхне-Волж. книж. изд-во, 1989. 222 с.
- Чуковский К. И. Мастерство Некрасова. М.: Худож. лит., 1971. 711 с.
- Hruska A. Loneliness and Social Class in Tolstoy's Trilogy Childhood, Boyhood, Youth // The Slavic and East European Journal. 2000. Vol. 44, no. 1. P. 64-78. doi 10.2307/309628
- Klioutchkine K. Between Sacrifice and Indulgence: Nikolai Nekrasov as a Model for the Intelligentsia // Slavic Review. 2007. Vol. 66, no. 1. P. 4562. doi 10.2307/20060146