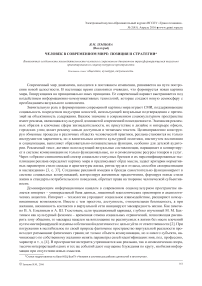Человек в современном мире: позиция и стратегии
Автор: Земцова Ярославна Михайловна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 (45), 2016 года.
Бесплатный доступ
Выявляются особенности жизнедеятельности человека в современном динамичном трансформирующемся визуально ориентированном социокультурном пространстве.
Общество, культура, визуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14822476
IDR: 14822476
Текст научной статьи Человек в современном мире: позиция и стратегии
Современный мир динамичен, находится в постоянном изменении, развивается на пути построения новой целостности. В настоящее время становится очевидно, что формируется новая картина мира, базирующаяся на принципиально иных принципах. Ее современный вариант выстраивается под воздействием информационно-коммуникативных технологий, которые создают новую семиосферу с преобладанием визуального компонента.
Значительную роль в формировании современной картины мира играют СМИ, поддерживающие социальность посредством индустрии новостей, использующей визуальные подтверждения с претензией на объективность содержания. Важное значение в современном социокультурном пространстве имеет реклама, являющаяся культурной доминантой современной повседневности. Экспансия рекламных образов в ключевые сферы жизнедеятельности, их присутствие в дизайне и интерьере офисов, городских улиц делает рекламу самым доступным и читаемым текстом. Целенаправленно конструируя обменные процессы в различных областях человеческой практики, реклама становится не только инструментом маркетинга, но и влиятельным агентом культурной политики, институтом воспитания и социализации, выполняет образовательно-познавательные функции, особенно для детской аудитории. Рекламный текст, активно использующий визуальные составляющие, наращивает и конвертирует в системе коммуникации не только функциональные, но и символические ресурсы товаров и услуг. Через «образно-символический спектр социально-статусных брендов и их персонифицированные экспликации реклама определяет картину мира и предписывает образ мысли, задает критерии нормативных параметров стиля одежды и архитектуры жилья, ритма труда и отдыха, способов самореализации и наслаждения» [3, с. 37]. Созданные рекламой имиджи и бренды самостоятельно функционируют в системе социальных коммуникаций, контролируя жизненные предпочтения, формируя новые стили жизни и стандарты потребительского поведения, обретает права на творение человеческой субъективности.
Доминирующим информационным каналом в современном социокультурном пространстве является интернет – универсальный банк данных, лишенный идеологических ориентиров и аксиологических акцентов. Интернет – технологии упрощают социальное взаимодействие, расширяют коммуникативные возможности. Вместе с тем простота, доступность, относительная безопасность, а при желании, анонимность контактов в виртуальной сети инициируют маскарадность жизни. Как замечено В. А. Емелиным и А. Ш. Тхостовым, если традиционный карнавал, глубоко изученный М. М. Бахтиным как культурный феномен – временная отмена социальных ограничений, позволяющая расширить зону общения, то маскарад нацелен на воплощение не реализуемых в жизни без масок влечений путем мистифицирущей подмены собственной идентичности с целью уйти от ответственности [2]. При погружении в нестабильное по своей природе фантомное пространство виртуальной реальности происходит размывание физических границ не только объекта коммуникации, но и самого субъекта, начинающего по собственному желанию менять параметры своей идентификации: имя, пол, профессию, характер и т. д. [4]. В пространстве интернета утрачиваются как реальная, так и символическая опора, тысячи интерпретаций одних и тех же событий дают ощущение блуждания по кругу, изобилия информации при отсутствии новых смыслов.
В 1967 г. французский философ Г. Дебор описал состояние постиндустриального общества, используя образ спектакля [1]. Суть этого состояния Г. Дебор определял как утрату непосредственности: «все, что раньше переживалось непосредственно, отныне оттеснено в представление» [Там же, с. 13]. Реальность, рассматриваемая по частям, разворачивается в своем обобщенном единстве в качестве особого псевдомира, подлежащего только созерцанию. Спектакль понимается французским мыслителем, как «не совокупность образов, но общественное отношение между людьми, опосредованное образами» [Там же]. В интерпретации мыслителя спектакль характеризуется отсутствием осознанности при практическом изменении условий существования. Общественный спектакль «демонстрирует то, что он есть, – мощь общественного разделения, развивающуюся автономно во всевозрастающей производительности, через постоянное увеличение изощренности в разделении труда… мощь, работающую ради непрерывно расширяющегося рынка» [Там же, с. 17]. «Спектакль – это стадия, на которой товару уже удалось добиться полного захвата общественной жизни…отчужденное потребление становится некоей обязанностью масс, дополнительной по отношению к отчужденному производству» [Там же, с. 20]. Зрелищное потребление открыто становится в своем культурном секторе тем, чем оно имплицитно является в своей всеобщности – коммуникацией не поддающейся сообщению. Спектакль – крайне подвижная и динамичная структура.
В начале второй половины ХХ в. Г. Дебор констатировал, что всякая общность и всякое критическое чувство размываются в процессе движения, в котором силы, которые могли бы расти посредством разделения, еще не обретены. И продолжил: субъектом истории может стать лишь человек самосози-дающий, являющийся господином и обладателем собственного мира, собственной истории, и осознающий правила своей игры. Здесь особую роль играет историческое мышление, которое можно спасти, лишь сделав его мышлением практическим.
Если воспитанный индустриальным обществом человек массы, ориентированный на поиск материальных ценностей, орудие коллективного действия, приучен к мысли, что от его индивидуальных усилий ничего не зависит, то современность ставит человека в принципиально иную ситуацию. Становится ясно, что для того, чтобы выжить, человеку необходимо реабилитировать другие стратегии [9;10].
Одной из главных примет глобализирующегося общества становится замена традиционно сложившихся отношений на безличные, сугубо прагматичные, функциональные, временные, случайные, анонимные, маргинальные [8]. Рыночная экономика создает конкуренцию и соперничество, сопровождает усиление социального расслоения по доходам и статусам, вызывает распад коллективных связей. Будущее не программируется социальными институтами. Прибывающий в состоянии нестабильности, зависимости от обстоятельств, лишенный коллективной поддержки, человек привыкает рассчитывать только на себя, собственную удачу и личный шанс. Это приводит к усилению индивидуализма.
Не имея традиций, люди находятся в постоянном поиске смысла и в итоге становятся сверхактивными конструкторами своей жизни. Задача современного человека состоит не в реализации определенного предназначения, а в самореализации через создание самого себя. Люди формируют собственную идентичность как более или менее устойчивый контекст, позволяющий утвердиться в правильности жизненной позиции, характере поступков и деятельности.
Поль Рикер предложил концепцию нарративной идентичности, вырабатываемой в результате «прочтения» своей жизни в свете произведений социокультурной среды, которая, на наш взгляд, прекрасно раскрывает стратегию современного человека (его умение воссоздавать себя, выявляя и используя символические ресурсы культуры). Философ различает два аспекта личности – тождественность и самость [6]. Самость предполагает самоидентификацию. Тождественность заключается в том, чтобы оставаться самим собой, несмотря на изменения. Их взаимодействие проявляется в том, что люди способны рассказать о том, кем они были и кем должны быть. В подобном повествовании прошлое, настоящее и будущее представляют единое целое, благодаря чему создается также единство личности. Рассказ о себе имеет функцию самообоснования своего бытия, укрепления жизненных позиций.
Совокупность условий и форм деятельности, обусловленных устойчивыми взглядами и потребностями, составляющими повседневность, представляют собой образ жизни. Образ жизни складывается спонтанно, является одновременно выражением самоидентификации индивида и его консолидации с социальной средой. Вместе с тем утверждение образа жизни как феномена современной культуры свидетельствует об атомизации в обществе. Образ жизни труднее поддерживать, чем принадлежность к определенному социальному классу, он предусматривает постоянную индивидуальную активность на всех жизненных планах. Желание изменить жизнь с целью получения качественно новых состояний, выхода на новые уровни бытия становится возможным только при изменении образа жизни, через придание ему ценностного содержания и установление конкретных целей.
Индивидуальные особенности поведения в повседневной жизни характеризует ее стиль. Стиль – это особый синтаксис, проявляющийся в направленности действий, их результативности и свойствах достигнутого результата. В стиле отражается отношение к жизни, в основе его всегда присутствует ценностный стержень, направленный на реализацию цели. Стиль характеризует специфику мыслительного процесса человека и оценку самих ценностей. Сочетает в себе материальную составляющую, интеллект, способность контролировать эмоции, степень утонченности вкуса, эстетизм. Все эти качества являются следствием мировосприятия и самоощущения и передаются окружающим через визуальный ряд, сопровождающий поведенческие акты.
Объяснением утверждения стиля как феномена современной жизни, вероятнее всего, является то, что он не имеет отношения к количеству. Стиль не предполагает богатства, признания в определенных социальных кругах, серьезных достижений в каких-либо сферах, хотя и является одной из перспективных стратегий обретения успеха. Искусство стиля доступно каждому. Это искусство нахождения простых способов быть уникальным. Оно состоит в том, чтобы делать обычные вещи необычным образом. (Основатель производства детского питания, которое уже более 100 лет занимает лидирующее положение на рынке Г. Дж. Хайнц однажды выбрал девиз, ставший элементом стиля его компании «Делайте обыкновенные вещи необыкновенно хорошо!»).
Искусство стиля связано с умением быть «здесь и сейчас», вырабатывать уникальную сосредоточенность на текущем моменте, стараясь извлечь из него все богатство жизненного опыта, эмоций, способность улавливать новое в повседневном опыте и представлять его неподражаемым образом. В стиле отражается не сама деятельность и даже не способы ее осуществления, а то, что испытывает действующий человек, только им найденные формы привнесения прекрасного в свою жизнь и умение поделиться этим. (Девиз компании KOTANYI – признанного лидера в производстве специй: «Качество как традиция, вдохновение как образ жизни»). В стиле отражается поиск уникальных способов превращения эмоциональных возможностей в значительные жизненные события в пределах доступных в настоящий момент времени средств.
Условием и одновременно признаком успеха в современном обществе является умело выстроенный имидж. Г. Г. Почепцов определил имидж как постоянный процесс репрезентации единичной личности или группы в смысловом пространстве своей эпохи с помощью телесно-знаковых объективаций [5, с. 48]. Если стиль характеризует индивидуальный настрой, в большей степени жизнь для себя, имидж – образ, создаваемый для других. Это образ-представление, в котором в сложной взаимосвязи соединены внешние и внутренние характеристики социальных субъектов, их роли и функции. Назначение имиджа – подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Это искусственный образ, формируемый с целью создания впечатления и оказания автоматического воздействия на аудиторию, картинка, намеренно создаваемая в восприятии окружающих, оказывающая на них психо-эмоциональное воздействие. Хороший имидж свидетельствует о том, что человек заботится о своей жизни, карьере, коммуникативных возможностях, предполагает непрерывный контроль над своим поведением и реакциями на него со стороны окружающих. Необходимая самокоррекция при этом связана с сохранением лица (внешней презентации), но не затрагивает установок и взглядов.
В современном мире своеобразным маркером жизни человека становится его пространственное окружение – ландшафт проживания, вещи, предметы, функциональность которых часто заключается в их способности быть средством трансляции определенных значений. Современное общество, как заметил Ж. Бодрийяр, ориентируется на видимые формы – образы вещей, людей, событий.
Таким образом, динамично меняющийся мир актуализирует волю человека, который выстраивает свою жизнь в визуально организованном мире через визуально организуемые стратегии. Это требует формирования новых качеств, которые естественным образом возникают в самой культуре и выступают предпосылкой для формирования новых принципов социальной организации.
Список литературы Человек в современном мире: позиция и стратегии
- Дебор, Г. Общество спектакля/пер. с фр. С. Офертаса, М. Якубович. М.: ЛОГОС; РАДЕК, 2000.
- Емелин В.А., Тхостов А.Ш. Вавилонская сеть: эрозия истинности и диффузия идентичности в пространстве интернета//Вопросы философии, 2013. № 1. С. 74-85.
- Запесоцкий Ю. А. Современная реклама как институт социокультурной динамики//Вопросы философии, 2013. № 3. С. 33-38.
- Мягкова, М. Визуальная культура как социокультурный феномен//Аналитика культурологии. 2008. № 8. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vizualnaya-kultura-kak-sotsiokulturnyy-fenomen (дата обращения: 04.02.2015).
- Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: Ваклер, 1999.
- Рикер П. Время и рассказ. Конфигурация в вымышленном рассказе. Т. 2. М., СПб.: Университетская книга, 2000.
- Храпова В.А. Человек в системе семантического бытия//Личность. Культура. Общество. 2005. Т. VII. № 2 (26). С. 244-253.
- Шахалова О.И., Казанова Н.В. Маргинальность как метафизическая проблема//Вестник Национального авиационного университета. Серия: Философия. Культурология. 2009. № 1. C. 92-95.
- Штыров, А. В., Казанова Н.В. К вопросу о смене образовательной парадигмы в ситуации постмодерна//Известия ВолгГТУ. 2006. № 6. С. 18-20.
- Штыров, А. В., Казанова Н.В. Потенциал виртуальной образовательной среды для формирования информационной компетентности учащихся//Вестник Волгоградской академии МВД России. 2015. № 2. C. 145-149.