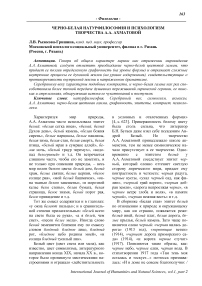Черно-белая натурфилософия и психологизм творчества А.А. Ахматовой
Автор: Рыжкова-гришина Л.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1-2 (1), 2016 года.
Бесплатный доступ
Говоря об общем характере лирики как отражении мировидения А.А. Ахматовой, следует отметить преобладание черно-белой цветовой гаммы, что придает ее поэзии определенную графичность (на уровне формы) и отражает сложные внутренние процессы ее духовной жизни (на уровне содержания), свидетельствующие о противоречивости внутренней жизни и напряженном драматизме. Серебряному веку характерны подобные контрасты, и черно-белая гамма как раз способствовала более точной передаче душевных переживаний лирической героини, ее поисках и стремлениях, обнаруживая истоки ее чувствований и поступков.
Натурфилософия, серебряный век, символизм, акмеизм, а.а. ахматова, черно-белая цветовая гамма, графичность, эпитеты, контраст, психологизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170183976
IDR: 170183976
Текст научной статьи Черно-белая натурфилософия и психологизм творчества А.А. Ахматовой
Белый цвет (цвет снега или мела), как известно, цвет символизма, литературного направления конца XIX, начала XX в., которое было проникнуто мистическими настроениями и отражало «действительность в условных и отвлеченных формах» [4, с. 623]. Приверженность белому цвету была столь сильна, что литератор Б.Н. Бугаев даже взял себе псевдоним Андрей Белый. Но творчество А.А. Ахматовой принадлежало школе акмеистов, тем не менее символическое начало присутствует в ее творчестве. Одновременно с эпитетом белый у А.А. Ахматовой соседствует эпитет черный, который словно оттеняет светлую сторону лирического мира, придает ему контрастность и четкость: черная радуга, черные кусты, «ухал черный сад, как филин», «черный грай ворон», «черная добрая земля», «дорога непроезжая черна», «в черном ветре злоба и воля», «в памяти черной», «черная нежная весть» и т.д.
В сборнике «Белая стая» эпитет белый по отношению к природе и окружающему миру, как ни странно, появляется реже: белый иней, белый плат, белая дорога, белые крылья, белый камень. Зато чаще появляется слово черный : « черная вилась дорога» (1913 год), « чернеющие ветки» (1914), « чернеет дорога приморского сада» (1914), «и ворота черные стучат» (1917). Появляются такие образы, как: черное небо, черные елки, черная вода. В стихотворении 1917 года «Там тень моя осталась и тоскует...» поэтесса признавалась: «И в доме не совсем благополучно: /
Огонь зажгут, а все-таки темно » [1, с. 116]. В сборнике «Подорожник» – те же «черные» и «белые» эпитеты: « черной нищенкой скитаюсь», но « белое солнце рая»; « черный ветер огоньки качает», но « белые нарциссы на столе». То ли поэтесса и в самом деле жила «в предчувствии неотвратимой тьмы»? Сборник «Anno Domi-ni» («В Лето Господне») характеризуется сложностью поднимаемых тем, связанных с происходящими в России событиями, предреволюционной обстановкой, революционным переворотом 1917 года, послереволюционными переменами. И всеми последующими метаморфозами, переменами в общественной жизни. Несмотря на это, сборник словно озарен белым сиянием: «Там белые церкви и звонкий, светящийся лед» («Бежецк»). В стихотворении «Другой голос» читаем: «И одна в дому оледенелом, / Белая , лежишь в сиянье белом …» [1, с. 136]. Надежда ли питала сердце, вера в то, что «все образуется» – трудно сказать, но в это время она признавалась: «Не с теми я, кто бросил землю / На растерзание врагам…» [1, с. 139]. Надо сказать, что подобная откровенность в 1922 году была более чем опасна, ведь репрессии, обрушившиеся на головы литераторов, были в самом разгаре, прошел всего год со дня расстрела бывшего супруга А.А. Ахматовой – Н.С. Гумилева. Сюда же включено и стихотворение «Черный сон», и хотя оно – образец любовной лирики, тем не менее, мрачные краски в нем преобладают. Затем снова начинает доминировать белый цвет: «в белом пламени клонится куст» («Хорошо здесь: и шелест и хруст…»), «А я белей , чем снег…(«Песенка») и др. – таков сложный психологизм поэтики А.А. Ахматовой.
Можно очень подробно разбирать отдельные стихотворения поэта (имея в виду любого поэта), чтобы понять ход его мысли, почувствовать, какое настроение владело им в минуту его написания и увидеть созданную им картину лирического мига, того молниеносного мига, который характеризуется множеством ощущений и оттенков. Диапазон этих ощущений может быть самым разным – от ослепительно- белой феерической радости до самого черного и невыносимого горя.
Каждое стихотворение в этом смысле – лишь фрагмент психологической мозаики, миниатюрный срез, крохотная часть громадного полотна творчества конкретного поэта, а нам важно увидеть всю мозаичную картину целиком. Можно говорить о том, что есть общий характер лирики , ее некая направленность, единое настроение, как вздох. Так и в этом случае наблюдается общий настрой, и настрой этот, как мы убеждаемся, положительный. Несмотря на то, что «сладок был устам черный душный мед», и рвали сучья белый шелк платья лирической героини, и осень смотрелась вдовой «в одеждах черных », но сама лирическая героиня не намерена была уходить с головой в свою тоску. И если она высказывала пожелание « черные грядки холить», то не для того, чтобы лелеять печаль и одиночество, а чтобы росли цветы на полях. И потому Муза входит к ней «в одежде белой ». В стихотворении «Все расхищено, предано, продано…» первая строфа, словно открывает и все объясняет, что происходит с душой.
Все расхищено, предано, продано, Черной смерти мелькнуло крыло, Все голодной тоскою изглодано, Отчего же нам стало свет ло? [ахм т 1, с. 155].
Возможно, именно огромные душевные силы и внутренний свет не позволили А.А. Ахматовой окончательно встать на сторону тьмы, хотя предпосылки и устремленность к ней, как мы видим, прослеживается четко и определенно, ведь она и жила, по ее собственному признанию, каким-то темным предчувствием: «К уху жарко приникает / Черный шепоток беды…» [1, с. 177]. Она находилась в постоянном ожидании чего-то неведомого, какой-то смуты или даже беды, она беспокоится, не прислали ли за ней «черный плот». Она всегда настороже, и мотивы эти ярко проявляются в сборнике «Тростник». Психологи утверждают: «... образ, или картина мира наполняется эмоцио- нально насыщенными ожиданиями. Один ждет от окружающего только хорошего и видит свой мир благополучным. Другой ждет от окружающего преимущественно плохого и настороженно относится к любым происходящим вокруг событиям, явлениям, процессам. Третий понимает, что понятия добра и зла относительны...» [2 с. 165]. Картина мира А.А. Ахматовой, как видим, зыбка и неустойчива.
В поэмах А.А. Ахматовой наблюдается та же черно-белая гамма настроений. Вот цветовое решение поэмы «У самого моря»: белая чайка, «мускатные белые розы», «застонала белою чайкой», «к черным , разломанным, острым скалам». В поэме «Путем всея земли» А.А. Ахматова писала: «Великую зиму / Я долго ждала, / Как белую схиму / Ее приняла». Она и сама осознавала эту психологическую особенность своего художественного видения, чернобелую натурфилософию творчества. В «Поэме без героя» есть знаковые в этом смысле строки: «Ты ли, Путаница-Психея, / Черно-белым веером вея, / Наклоняешься надо мной...», это - из «Второго посвящения», датированного 1945 годом. Здесь строки словно перемешаны: «В черном небе звезды не видно» и « Белых ноченек хоровод», «В ожерелье черных агатов» и « белокурое чудо». А дальше взгляд ее делался все более мрачным, и появлялись соответствующие образы: черная рама, ваза чернофигурная , черное преступленье, черная красота. И даже говоря о клене, она видит не ветви, а «иссохшую черную руку».
Мастерство поэтессы постепенно набирало мощь, но общий характер лирики (как отражение мировидения) оставался прежним. И снова « черный масленичный ветер, зловещий парк, неспешный бег коня…» окружают лирическую героиню, и снова «стекла окон так черны , как прорубь».
Порою думается: кажется, из всех цветов радуги А.А. Ахматова предпочитала белый и черный цвета, ее палитра не отличается многокрасочностью, скорее, она напоминает черно-белый кинематограф, синема, как говорили в начале XX века.
«Конечно, иные цвета, кроме белого и черного, тоже встречаются у А.А. Ахматовой: Полярная Звезда у нее сияет, например, синим блеском, а у забора растет знаменитый ахматовский желтый одуванчик, тропинка в поле идет «вдоль серых сложенных бревен». День может быть янтарным , месяц - рыжим , виноград - голубым , остров - зеленым , а в поле «гуляют маки в красных шляпах» - таковы пейзажные зарисовки А.А. Ахматовой» [5, с. 17]. И все-таки черно-белая гамма преобладает: «и манит в черную долину», «все так же своды неба чёрны », «хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий», и здесь же «высокие белоствольные тополя».
Кажется, А.А. Ахматова даже графична. В стихотворении 1943 года «А в книгах я последнюю страницу...» есть строки: «В том городе (название неясно) / Остался профиль (кем-то обведенный) / На белоснежной извести стены™» [1, с. 200]. Это - чистая графика, нашедшая отражение в звуке, четкая, без полутонов и оттенков. И стихи ее похожи на такие графические работы, она словно сама писала черными чернилами на «белоснежной извести» бумаги. Эту мысль подтверждает и стихотворение «Рисунок на книге стихов». Понятно, что белый - традиционный цвет символизма, но самое удивительное, что это пристрастие к белому проявилось у А.А. Ахматовой с ранней юности. Уже в 1904 году (А.А. Ахматовой - пятнадцать-шестнадцать лет) в стихотворении «Лилии» она писала о « бледных цветах», что качали головой и о том, что «на бледных щеках розовеет румянец». Тяготение к черному также проявилось сразу, в те же годы она писала: «Над черною бездной с тобою я шла» [1, с. 310].
Таким образом, черно-белая гамма словно окрасила весь ее дальнейший жизненный и творческий путь, являясь отражением сложных внутренних процессов. Причем, эта бело-черная гамма часто присутствует одновременно в одном стихотворении, как, например, в стихотворениях «И жар по ночам, и утром вялость...», «Белая ночь», «Вечерний звон у стен мона- стыря...» и др. Зачем А.А. Ахматова сближала противоположные понятия, соединяла вместе отрицающие друг друга предметы и явления? Зачем так нужны были ей эти контрасты? В одном стихотворении – белеет ограда и шуршат черные ели; небо «бело страшной белизною» и земля, словно уголь; вдали виднеются белые челны, но их сопровождают странные, нездешние тени; а у лирической героини поседели «косы темные» «от ласки инея» и «под черной епанчою» ей видится «рука под белою перчаткой». Все это - отражение неспокойного внутреннего мира, тревожного, мятежного, живущего почти в постоянном страхе. Она видит тополь черный и город, «где много черных башен», черную звезду в небе и сама она наклоняется «черной елью», и владеет ею черная страсть. Вот он - творческий путь поэтессы, и если здесь и обнаруживается некая эволюция, то лишь в пределах некоей орбиты - круга, эллипса, окрашенного вполне определенными красками. Впрочем, А.А. Ахматова писала об этом нечто подобное: «Один идет прямым путем, / Другой идет по кругу» [1, с. 233].
Безусловно, подобный мрачный взгляд на жизнь, упадочнические мотивы, склонность к негативу, сниженный эмоциональный фон можно объяснить характером эпохи, сложностями времени, драматичной личной судьбой, как говорила сама А.А. Ахматова: «Меня, как реку, суровая эпоха перевернула». Да, это было время, когда «осквернили пречистое слово», растоптали «священные глаголы», убили ее мужа, сына бросили в тюрьму, а ее саму «окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки». Ей пришлось пережить много трудностей и горя в любимой стране, где происходил нечто страшное и абсурдное, когда трудно было разобраться в этой сумятице и понять, что происходит, и где, как писала А.А. Ахматова, «праведных пытают по ночам».
Несмотря ни на что, А.А. Ахматова жила надеждой, не случайно в «Поэме без героя» она писала: «Крик петуший нам только снится, / За окошком Нева дымится, / Ночь бездонна и длится, длится - /
Петербургская чертовня» [1, с. 288]. Иногда кажется, она была движима лишь молодым задором, безоглядностью, юношеским максимализмом, который не осознает всю степень опасности. Но иногда видится осознанное стремление к бездне, желание находиться на самом ее краю. Так в стихотворении 1942 года «Какая есть. Желаю вам другую...» есть строки: «Мне зрительницей быть не удавалось, / И почему-то я всегда вторгалась / В запретнейшие зоны естества...» [1, с. 336]. Уместно сказать, что попытки вторжения в запретные сферы - некая характерная черта представителей Серебряного века, подобное наблюдаем мы и у О.Э. Мандельштама, который писал: «Из омута злого и вязкого / Я вырос, тростинкой шурша, - / И страстно, и томно, и ласково / Запретною жизнью дыша» [3, с. 40]. И в стихотворении «Сегодня дурной день...» тоже встречаются характерные строки о роке, что страстно стучит «в запретную дверь к нам» [3, с. 52]. Получается, что представители Серебряного века, переступая некую грань, вторгаясь в сферы, которые они сами называли зазеркальем, понимали, что играют с огнем. Цена за эту игру была слишком высока - собственная жизнь, и многие из них, если не все, поплатились ею.
Творчество всегда обнажает суть творца, не случайно говорят, что каждый музыкант играет самого себя, и каждый дирижер видит партитуру и воспроизводит ее в игре оркестрантов по-своему. Так и поэты извлекают на свет слова и звуки, созвучные их внутреннему миру, ярко характеризующие их самих. И в этом смысле творчество открывает суть, обнажает внутренние пружины, приводящие в движение весь механизм поступков и чувствований, показывает причины причин. Читая поздние стихи А.А. Ахматовой, знакомясь с ее работами из черновиков и набросков, с грустью можно наблюдать, что бездна была перед ней открытой: «Я слишком знаю... но молчит природа, / И сыростью пахнуло гробовой ...» [1, с. 372], а в 1958 году она написала удивительные строки: «Стихи эти были с подтекстом /
Таким, что как в бездну глядишь. / А бездна та манит и тянет...» [1, с. 375]. Таким образом, черно-белая натурфилософия А.А. Ахматовой, имея двойной план, ока- залась не только хорошо известной, но да же полной неожиданных открытий для са мой поэтессы, и которые нам еще пред стоит понять.
Список литературы Черно-белая натурфилософия и психологизм творчества А.А. Ахматовой
- Ахматова А.А. Сочинения в 2-х т. Т.1. Стихотворения и поэмы/Вступ. ст. М. Дудина; Сост., подгот. текста и коммент. В. Черных. -М.: Панорама, 1990. -526 с.
- Бондырева С.К., Колесов Д.В. Человек (вхождение в мир). -М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2007. -272. -(Библиотека психолога).
- Мандельштам О.Э. «И ты, Москва, сестра моя, легка…»: Стихи, проза. Воспоминания. Материалы к биографии. Венок Мандельштаму/Сост. и авт. вступ. ст. и примеч. П.М. Нерлер. -М.: Московский рабочий, 1990. -560 с. -(Московский Парнас).
- Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов/Под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. -17-е изд., стереотип. -М.: Рус. яз., 1985. -797 с.
- Рыжкова-Гришин Л.В. Тринадцатый час Ахматовой. Творческий путь Анны Андреевны Ахматовой: Научное исследование. -Рязань: Скрижали, 2012. -36 с.