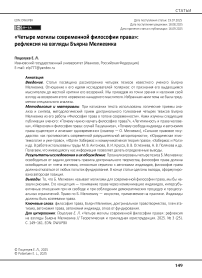«Четыре могилы современной философии права»: рефлексия на взгляды Бъярна Мелкевика
Автор: Поцелуев Е.Л.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 3 (25), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена рассмотрению четырех тезисов известного ученого Бъярна Мелкевика. Отношение к его идеям исследователей полярное: от признания его выдающимся мыслителем до жесткой критики его воззрений. Мы приведем их точки зрения и изложим свой взгляд на воззрения этого норвежско-канадского мыслителя. Избранная нами тема не была предметом специального анализа. Методология и материалы. При написании текста использованы логические приемы анализа и синтеза, методологический прием доктринального толкования четырех тезисов Бъярна Мелкевика из его работы «Философия права в потоке современности». Нами изучены следующие публикации ученого: «Почему нужно изучать философию права?», «Легитимность и права человека», «Марксизм и философия права: случай Пашуканиса», «Почему свобода индивида и автономия права существуют и исчезают одновременно» (соавтор — О. Мелкевик), «Сильное правовое государство: как противостоять современной разрушительной авторитарности», «Юридическая эпистемология и уже-право», «Юрген Хабермас и коммуникативная теория права», «Хабермас и Ролз» и др. В работе использованы труды М. В. Антонова, В. И. Крусса, В. В. Оглезнева, А. В. Полякова и др. Полагаем, что имеющаяся у нас информация позволяет делать определенные выводы. Результаты исследования и их обсуждение. Проанализированы четыре тезиса Б. Мелкевика: освободиться от задачи диктовать правила доктринального творчества, философия права должна освободиться от плена этатизма, относиться серьезно к автономии индивидов, философия права должна отказаться от любых попыток фундирования. В конце статьи сделаны выводы, сформулирована авторская позиция. Выводы. То, что Б. Мелкевик называет могилами для современной философии права, мы бы назвали рисками. Его концепция — понимание права через коммуникацию индивидов, интерсубъективные отношения при их свободе и при соблюдении демократических процедур и процессуальных ограничений. Право по Б. Мелкевику — искусство, применяемое на практике. Индивиды должны быть хозяевами права.
Философия права, Бъярн Мелкевик, доктринальное правотворчество, плен этатизма, автономия права, автономия индивида, отказ от фундирования
Короткий адрес: https://sciup.org/14133901
IDR: 14133901
Текст научной статьи «Четыре могилы современной философии права»: рефлексия на взгляды Бъярна Мелкевика
Б. Мелкевик получил степень доктора права в Университете Пантеон-Ассаc (Париж II)1, он титулярный профессор юридического факультета Университета им. Лаваля (Квебек, Канада), один из наиболее интересных мыслителей современности2,3, «известный сторонник коммуникативной теории права»4, «выдающийся специалист в области философии и теории права, юридической методологии и юридической аргументации»5. А. В. Поляков констатирует, что Б. Мелкевик «хорошо известен российскому читателю», его статьи регулярно публиковались в «Российском ежегоднике теории права», в журнале «Известия вузов. Правоведение»6, других отечественных журналах7, сборниках научных трудов и материалах научных конференций8. А. В. Поляков описывает четыре научные статьи Б. Мелкевика на страницах вышеуказанного журнала за относительно короткий период времени: 2012–2015 гг.9 Работы Б. Мелкевика печатались и в виде книг10. На русском языке статьи ученого публиковались также в журнале «Право и государство» (Казахстан)11.
Философско-правовые взгляды Б. Мелкевика анализировались М. В. Антоновым в рецензиях на книги Б. Мелкевика12, к совместной статье М. В. Антонова и Е. А. Патрикеевой13, в предисловии А. В. Полякова14, совместной статье Д. А. Артаманова и С. В. Тихоновой о юридическом осмыслении «коллективной памяти, исторической ответственности и коллективной вины»15, а также В. И. Круссом16 и др. Он весьма критично с позиций конституционного правопонимания оценивает эпистемологию Б. Мелкевика, его идеи о классической и современной философии права. Мы же рассматриваем четыре тезиса Б. Мелкевика из его работы «Философия права в потоке современности»17 в контексте других его научных публикаций прежде всего с позиций теории права.
Методология и материалы
При написании статьи использованы логические приемы анализа и синтеза, проведена интерпретация ключевых тезисов Б. Мелкевика в его работе «Философия права в потоке современности» и ряде других научных публикаций этого исследователя. В работе показано, как воспринимаются исследования и философско-правовые взгляды Б. Мелкевика отечественными учеными-юристами.
Результаты исследования и их обсуждение
Четыре могилы современной философии права во имя освобождения
Первый тезис: «Освободиться от задачи диктовать правила доктринального творчества»
Б. Мелкевик утверждает, что «необходимо освободить философию права от какой бы то ни было роли „сторожевого пса“ по отношению к доктринальному юридическому творчеству», то есть перестать контролировать и определять правовую доктрину, догматику или даже «теорию» права. Слово «теория» автор берет в кавычки. Возможно, он делает это потому, что в XX и XXI вв. продолжается торжество юридического позитивизма над естественно-правовыми концепциями18.
Б. Мелкевик с уважением и даже восхищением относится, например, к Г. Кельзену19 и А. Россу и др., но при этом довольно критично оценил как прошлое, так и современное состояние философии права. В. И. Крусса впечатлил «список авторов „иррациональных заблуждений“ о праве: от Канта до позитивистов, затем — до Кельзена и Лумана, скандинавских и американских реалистов и далее»20. Б. Мелкевик убежден, что задачей философии права не является поиск ответов на вопросы «действительного права», «понятия права» и т. п. Ученый объясняет свою точку зрения: правовая доктрина «не имеет единого волшебного ответа на эти вопросы». По его мнению, философия права должна заняться критикой, разоблачением «научного» самозванства и развитием иных альтернатив. При этом «никогда не нужно отказываться от рассмотрения вопроса о праве как о феномене, интеллектуально неразрывно связанном с практикой и самоопределением индивидов в рамках концепции юридической современности»21. Б. Мелкевик утверждает, что «проблема заключается в том, что сегодня „теория“ стала независимой от практики»22.
Позиция ученого очевидна: если теория не учитывает правовые реалии, то таковой она не является. Главным вопросом для Б. Мелкевика является не та или иная проблема юридической теории и практики, а «состояние интеллектуального здоровья» юристов и правоведов в XXI в.23
М. В. Антонов разъясняет, что право по Мелкевику — это «прежде всего автономный порядок са-мообязывания», «то, что создается в рамках коммуникативного дискурса на основе демократических процедур»24. В условиях идеологического, теоретико-методологического научного плюрализма «волшебного», единственно правильного ответа, понятия, концепции, учения и т. п. нет и не предвидится. Если мы правильно поняли мысль Б. Мелкевика, то он призывает каждого исследователя (или каждого интеллектуала — юриста?) к научному поиску, к созданию альтернативных теорий, что мы приветствуем, но и здесь есть риски «научного» самозванства, о которых пишет Б. Мелкевик. Ученый связывает право с практикой. Под юридической практикой мы понимаем, во-первых, деятельность в сфере права; во-вторых, опыт, который накапливается в процессе этой деятельности; в-третьих, юридически значимый результат. Акторы — это все участники правовых отношений, все, кто реализует (осуществляет) нормы права, в том числе правоприменители, например судьи, если они не создают прецедент. Таким образом, в концепции Б. Мелкевика есть признаки социологического подхода к праву. Одну из своих статей Б. Мелкевик заканчивает следующими примечательными словами: «...Мы надеемся соединить практическую сторону права с перспективной стороной философии. Мы желаем в некоторой степени примирить юридический проект с идеей философии, рассмотренной как демократическая практика»25.
Акцентируем внимание на двух важных, по нашему мнению, моментах: первый — Б. Мелкевик последовательно выступает за прагматизм философии права. Второй момент — ученый имеет в виду не любую юридическую практику, а правовую практику, когда неуклонно, неукоснительно соблюдаются все демократические процедуры.
М. В. Антонов пишет, что Б. Мелкевик «апологизирует автономию субъектов, которые в рамках дискурсивной легитимации могут принимать решения о своих и чужих правах, — такие решения будут правовыми, если основаны на демократичном публичном обсуждении и открытой коммуникации»26. По оценке М. В. Антонова, Б. Мелкевик занимает двусмысленную позицию: «С одной стороны, „юридическое Мы“ не играет решающей роли в его объяснении процесса правогенеза — в конце концов, все зависит от действий и настроений отдельных лиц». А с другой — «речь идет о примате коллективного начала („юридического Мы“), но при условии обеспечения известных процедурных правил и господства особого рода идеологии демократической автономии»27.
-
В. И. Крусс весьма критично оценивает взгляды Б. Мелкевика28. Ученый не согласен с предельной концентрацией внимания на субъекте — субъектной составляющей правовой действительности, «погружение… в феноменологическое восприятие социального...»29. В. И. Крусс пишет, что «объявить онтологические поиски права „научной ересью“ (Б. Мелкевик) — равносильно провозглашению юридического атеизма»30. На самом деле задачей Б. Мелкевика является как раз десакрализация, расколдовывание (по М. Веберу) права.
-
В. И. Крусс отмечает алогичность позиции Б. Мелкевика в работе «Философия права в потоке современности»: юридическая современность — это лабиринт, «в котором мы оказались без карты и компаса», а выход из него — полная автономия и взаимное доверие «друг другу в качестве авторов и адресатов их законов, их норм, их институтов и их права»31.
По нашему мнению, мы вполне можем исходить из презумпции доверия и взаимного признания огромного количества лиц в качестве правотворцев и всех — адресатов норм права, носителей юридических прав и реальных или потенциальных юридических обязанностей. Совершенно очевидно, что несовершеннолетние, психически больные, лица, которые приговорены к лишению свободы и отбывают это наказание, правотворцами не являются.
Второй тезис. Философия права должна освободиться от плена этатизма
Б. Мелкевик объясняет свою позицию: «Философия права до сих пор неспособна рассматривать вопрос о праве, не затрагивая при этом, прямо или косвенно, понятие государства. Вездесущая неспособность рассматривать „право“ вне государства, без опоры на идеологический „костыль“ этатистской идеологии, затрудняет развитие философии права и понимание растущей сложности вопроса о праве в юридической современности и даже препятствует им. С этой точки зрения получает объяснение наш второй тезис о том, что философия права должна избавиться от всякой одержимости этатизмом»32.
Далее Б. Мелкевик критикует кельзеновское понимание государства как правопорядка. Он пишет, что такой подход уместен лишь тогда, «когда современное государство утверждается в рамках центра- лизованной и огосударствленной администрации»33, то есть в западных странах, начиная с XIX в., что понимал и сам Г. Кельзен. Б. Мелкевик считает, что «произошедшее в ходе истории „завладение“ государства юристами в настоящее время уже является анахронизмом». По его мнению, в начале нынешнего столетия уже не юристы, а другие специалисты «характеризируют аппарат западных стран»34.
Во-первых, полагаем, что в обозримом будущем часть как отечественных, так и зарубежных философов права сохранит верность этатизму: командной теории Дж. Остина, еще больше нормативной теории права Г. Кельзена и аналитической юриспруденции Г. Харта или инклюзивной теории права Е. Булыгина и др. Во-вторых, в юснатурализме, возрожденном естественном праве, в том числе Г. Радбруха, либертарной теории В. С. Нерсесянца, коммуникативной теории права А. В. Полякова, в диалоговой концепции понимания права И. Л. Честнова приоритет явно отдается праву, а не государству. А. В. Поляков, и не он один, понимает государство как правовой институт. В-третьих, вызывает все-таки сомнение полное изгнание, игнорирование государства философами права. Юристы знают, что государство и в современный период остается важным правотворцем в лице парламента, главы государства в президентских и президентско-парламентских республиках, а также интерпретатором юридических норм в лице законодателей и судов, особенно высших, и одним из главных правоприменителей. Конечно, Б. Мелкевик прав в том, что у государства нет монополии на правотворчество.
-
Б. Мелкевик полагает, что «энергия правовой культуры людей и защита ими своих прав и свобод — основа сильного правового государства»35. Нам импонирует идея Р. Иеринга борьбы за права и свободы человека, хотя бы по той причине, что она подтверждена многочисленными историческими фактами и призывает всех индивидов к активному правомерному поведению.
Третий тезис. Относиться серьезно к автономии индивидов
Выбор в пользу автономии права представляется Б. Мелкевику «конструктивным и существенным для понимания юридической современности». Он продолжает защиту автономии на другом уровне — уровне индивидов. По его мнению, «философия права должна полностью уважать автономию индивидов (субъектов права) во всем, что касается вопросов права»36. На взгляд Б. Мелкевика, в современной философии права «такая автономия была необоснованно предана забвению или, точнее, утоплена в системе „реификации“, предполагавшей представить „право“ с точки зрения позитивизма, объективизма или естественного права. Но, проткнув мыльный пузырь этатизма, мы, как раз наоборот, можем вернуть право его носителям, то есть индивидам»37.
Во-первых, в настоящее время, к примеру, в отечественной и белорусской теоретико-правовой и философско-правовой науке существует антропология права. Она представлена такими именами, как, например, А. И. Ковлер38, В. И. Павлов39 и др.
Считается, что взгляды Б. Мелкевика вписываются в коммуникативную теорию права или, по крайней мере, коррелируют с ней. И для этого есть аргументы, однако, как отмечает С. И. Архипов, субъект права в коммуникативной теории выводится как за рамки системы права (права в узком смысле), так и за рамки правовой системы, то есть в широком (нестрогом) смысле слова40. А у Б. Мелкевика индивид, субъект права — это центральная фигура права.
Б. Мелкевик довольно резко протестует против того, что современная философия права разделяет понятия «индивид» и «субъект права», отдавая явно приоритет последнему. В результате «всё, касаю- щееся конкретного индивида, во плоти и крови становится чуждым и несущественным для философии права (так же как и для догматического/доктринального творчества)»41.
Отметим, что термин «субъект права» намного более емкий, чем индивид, поскольку субъектами права могут быть и юридические лица, государство, а в международном праве, например, современные ученые выделяют первичных и производных субъектов. К первым относят государства и «народы, государственность которых, находясь в процессе становления, достигла степени, позволяющей им участвовать в межгосударственных отношениях», а ко вторым «обычно относят межправительственные организации»42. В словаре-справочнике «Международное право» первичными субъектами названы « государства, народы и нации, в том числе ведущие борьбу за независимость и создание собственного национального государства»43. Кроме того, теория права, а тем более философия права предполагают определенный уровень абстрагирования, чтобы дать определение, понятие, категорию какого-то феномена, поэтому странно видеть упрек современным ученым, что они забыли про конкретного индивида. Судьба конкретного индивида, например, выдающегося ученого, его трудов, много раз уже была и будет предметом научных, в том числе диссертационных исследований. Историками изучается повседневная жизнь людей в разные времена и в разных странах. Но для догмы права, понятийно-категориального аппарата нужно абстрагирование. Для нас это аксиоматично. Полагаем, что понятие «индивид» как синоним понятия «физическое лицо» вполне корректно использовать как в теории права, так и в философии права.
По мнению Б. Мелкевика, «искажение права не сводится лишь к догматике, но касается также (всё в большей степени) роли судьи». Он пишет, что в Северной Америке благодаря Рональду Дворкину и его последователям из судьи делают «нового епископа», полубога, исповедника публичной совести, руководителя данной «общности принципов»44.
Б. Мелкевик справедливо полагает, что роль судьи «может иметь смысл исключительно в свете его отношений с носителями права, то есть его роль как стороннего арбитра обнаруживается только в процедурном плане, через наделение индивидов процессуальными правами в свете оспариваемого права»45.
Далее ученый пишет то, с чем мы можем согласиться лишь частично: «В принципе только индивиды могут решать вопрос об обращении к стороннему арбитру для разрешения их вопроса, что понимается как продолжение их автономии и свободы»46. Совершенно очевидно, что это относится к спорам гражданско-правового характера лишь между физическими лицами, но, например, юридическое лицо может обратиться за защитой своего нарушенного права, если индивид не оплачивает счета за коммунальные услуги, электроэнергию и т. п. В арбитражные суды обращаются в основном хозяйствующие субъекты, а это, как правило, юридические лица и государственные и муниципальные органы. Если брать уголовный процесс, то, конечно, есть дела частного обвинения (соответственно, частный обвинитель, он же потерпевший), но, опять же, преобладает рассмотрение уголовных дел публичного характера, и все их рассматривают судьи от имени государства. Правда, в любом процессе участвуют стороны, которые представлены индивидами, обладающими определенным процессуальным статусом.
Посмотрим на дальнейшую аргументацию Б. Мелкевика. Он утверждает, что в подобных делах «автономия судьи никогда не будет неограниченной, но, наоборот, окажется процессуально подчиненной индивиду и его вопросам о праве. Судье надлежит лишь выслушать аргументы сторон процесса и взвесить их, тогда как он никогда не должен взвешивать что-либо другое, исходящее либо от него самого, либо откуда-то извне. Если результат разбирательства будет приемлемым для обеих сторон, то для них
это будет правом. Если же результат неприемлем, то решение суда окажется в мусорной корзине, а стороны будут заинтересованы в том, чтобы найти более смышленого стороннего арбитра»47.
Безусловно, автономия судьи не безгранична, так как он находится в правовом поле и должен руководствоваться действующими нормами и принципами права на данной территории, учитывать судебную практику высших судов страны, их правовые позиции. Юристам известно, что существует свобода судейского (судебного) усмотрения. К примеру, одно и то же деяние может быть квалифицировано по-разному: как убийство, превышение пределов необходимой обороны и необходимая оборона. Судьи руководствуются также своим внутренним убеждением. Если бы решениями по всем делам стороны были довольны, то производство по ним завершалось бы в первой инстанции, но практика говорит об обратном. Постановление или приговор нередко обжалуют обе стороны. К примеру, вынесен обвинительный приговор по конкретному делу, но обвиняемый этот приговор обжалует, так как считает себя невиновным, а прокурор (государственный обвинитель) обжалует, поскольку считает наказание излишне мягким. Индивиды, чьи права, как они полагают, нарушены на территории стран Совета Европы, как известно, в конечном счете могут обратиться в Европейский суд по правам человека. В целом ряде случаев петиционеры выигрывают процесс против того или иного государства, но далеко не в каждом случае. Если решение не устроило индивида, то получается, что и судьи высших судов государств, международных региональных организаций, международных организаций, Международного уголовного суда поступили неправильно, несправедливо?.. Рациональное зерно в размышлениях Б. Мелкевика видим в том, что компромисс возможен по спорам частноправового характера как в судах общей юрисдикции, так и в третейских судах, при использовании примирительных процедур, медиации в публичном и частном праве. А приговор и постановление должны быть законными, обоснованными, справедливыми и т. п.
Невозможно согласиться и с другим утверждением Б. Мелкевика: только индивиды решают, что есть право и что не право. Это ведет почти к абсолютному субъективизму, отсылает нас к психологической теории права Л. И. Петражицкого. Мы ценим в этой теории то значение, которое придается правосознанию индивидов. Действительно, от правосознания и, как следствие, правовой культуры зависят результаты правотворчества, интерпретации норм права и реализации этих норм, в том числе и правоприменения.
Индивидов Б. Мелкевик называет одновременно авторами и адресатами права. По его мнению, «право может существовать только на благо индивидов, но никоим образом не на благо судьи, государства, нации, системы либо какого-либо еще абстрактного монстра. Право принадлежит собственно только его носителям...»48 По его мнению, субъекты права должны иметь возможность и хотеть реально и взаимно утвердиться в качестве авторов юридических и политических норм, прав и институтов49. Общеизвестно, что совершеннолетние граждане (подданные) могут быть на референдумах и плебисцитах правотворцами. Для написания конституций, кодексов и других законов, а также подзаконных актов требуются юридические знания, чтобы сформулировать нормы и принципы права, юридические конструкции, правильно использовать способы изложения моделей поведения, их структуры, способы и методы правового регулирования и т. п. Совершенно очевидно, что нужны профессиональные знания юридической техники, если точнее, то правотворческой, еще конкретнее — законодательной. Доктор юридических наук, профессор, известный современный российский теоретик права В. М. Баранов предлагает готовить в юридических вузах и на юридических факультетах норморайтеров50, то есть правотворцев, и мы видим в этом рациональное зерно. Если взять прецедентное право XX–XXI вв. (административное и судебное) и его наиболее важную часть — судебные прецеденты, то все они созданы исключительно юристами, причем юридической элитой. Известен престиж судьи в Англии, США, ФРГ и ряде других государств, а тем более судей высших судебных инстанций. Кроме того, государства — субъекты международного права, и у них, конечно, есть права и юридические обязанности. В настоящее время существуют коллективные права (третье поколение прав человека), в том числе у народов и наций, поэтому абсолютизация роли индивида как единственного субъекта права не соответствует современным правовым реалиям. Не можем мы согласиться и с тем, что государство, нация, система — это всегда монстр...
Б. Мелкевик и О. Мелкевик51 рассматривают право как искусство, применяемое на практике, «которое должно быть автономным для того, чтобы наилучшим образом выполнять свои главные задачи, сводящиеся к разрешению конфликтов — как в зале суда, так и за его пределами»52. Жизнь пронизана юридическими конфликтами, и их превенция и разрешение имеют огромное значение. Есть типичные юридические ситуации и, например, типовые договоры, и их составление — это ремесло, а не искусство. Или, к примеру, мы называем искусством толкования только юридическую герменевтику, а далеко не любое разъяснение, в том числе профессиональное (специальное) и доктринальное (научное, теоретическое).
Вывод Б. Мелкевика категоричен и однозначен: «Та философия права, которая не признает полностью и безоговорочно автономию и свободу носителей права, ничего не стоит....В нашей юридической современности правовая возможность осуществляется (или теряется) в соответствии с автономией и свободой индивидов»53. Поскольку утверждается полная, безоговорочная автономия и свобода индивидов, то это напоминает отчасти либертарное правопонимание (свобода).
Четвертый тезис. Философия права должна отказаться от любых попыток фундирования
У Б. Мелкевика фундирование — «эпистемологическая теория, которая исходит из того, что в основе человеческого знания лежат базовые верования, воспринимаемые как самоочевидные и обосновывающие все остальные верования, представления, идеи»54. Ученый объясняет свое негативное отношение к фундирующим рассуждениям двумя причинами: во-первых, присутствует «факт мобилизации (сознательной или нет) воли к „основанию“ дискурса через отсылку к сознанию, разуму, рациональности, априори, апостериори и т. п.»; во-вторых, «факт придания „объективности“ <...> или признака „конкретности“ понятиям», например «справедливости», «благу» и др.55 Поскольку в начале XX в. споры в североамериканской философии права велись между сторонниками фундирования права на «справедливости» Джона Роулза и сторонниками фундирования на «благе» Джона Финниса, то Бъярн Мелкевик критически анализирует обе доктрины, причем оба термина берет в кавычки56.
Б. Мелкевик приходит к выводу, что попытки фундирования того или иного понятия, как и селекция модных (или «симпатичных») понятий, фундирующих концепций, — это бесплодная борьба, лишь ловушка для ума57.
Наверное, следует согласиться с древним постулатом, применимым к науке: всё подвергай сомнению. Действительно, исследователь должен мыслить критически, не принимать на веру те или иные взгляды, теории и т. п. Будем последовательны, и тогда это в полной мере относится и к трудам Б. Мелкевика. Сделаем все-таки оговорку: референтная группа ученых пришла к консенсусу и договорилась о том, что необходимо понимать под нормой права, юридическим фактом, правоотношением и т. п., тогда, наверное, не нужно всякий раз подвергать сомнению или тем более отрицанию содержание догмы права, пока не появится новый взгляд, например, на санкции в праве и институт юридической ответственности. Пожалуй, следует согласиться с позицией двух известных российских правоведов М. В. Антонова и В. В. Оглезнева, что «задачей теории права является не оправдание существующих в правопорядке языковых конвенций, а прояснение значения понятий, используемых в рамках этих конвенций»58.
-
В. И. Крусс находит идеологическую подоплеку (идентичность) «юридической эпистемологии» Б. Мелкевика — классический либерализм с его мультикультурностью и плюрализмом. «Из-за кулис риторического негодования по поводу любых попыток фундинирования... выглядывает лицо, вполне узнаваемое даже под макияжем современности. Персонаж этот — классический либерализм... „Нелегитимная легитимность“ у Б. Мелкевика вполне определена в призывах обеспечить триумф плюралистического и мультикультурного»59.
Еще в начале XXI в. А. В. Поляков справедливо, на наш взгляд, отмечает, что в настоящее время «любая правовая концепция может рассматриваться лишь в контексте других концепций, как текст о текстах», что «не исключает самого стремления к всеобщности и интеграции». По его мнению, «реальная интеграция научного знания возможна только через диалог различных концепций, школ и направлений»60.
Выводы
Б. Мелкевик последовательно выступает с позиций антиэтатизма, за отказ от монополизации истины, за демократизацию общества, за либеральные ценности (свободу индивида), антропоцентризм права, против абсолютизации, фетишизации роли судьи в процессе, судебном разбирательстве. Его либеральные представления вплетены в канву коммуникативной теории права.
Подведем итог:
-
1. Благодаря своим докладам на научных конференциях в Иванове, Воронеже, Минске и особенно в Санкт-Петербурге Бъярн Мелкевик известен научной общественности России, Республики Беларусь и других постсоветских стран на протяжении примерно последних десяти-пятнадцати лет.
-
2. М. В. Антонов, А. Н. Остроух, Е. Г. Самохина, В. А. Токарев и другие ученые перевели на русский язык научные труды Б. Мелкевика, предварили их вступительными словами, а главные редакторы (А. В. Поляков, С. Ф. Ударцев и др.) ведущих юридических журналов нашей страны и Казахстана опубликовали их на русском языке, снабдив предисловием (А. В. Поляков и др.). Статьи ученого вошли в сборники научных статей и материалы международных научных конференций, изданные, соответственно, в Воронеже, Самаре и Иванове. Всё это сделало идеи, мысли ученого доступными уже для широкой отечественной аудитории, и они стали предметом специального анализа (М. В. Антонов, В. И. Крусс, Д. С. Артамонов и С. В. Тихонова). Работы Б. Мелкевика публикуются на французском, английском, испанском и других языках, поэтому он становится ученым с мировым именем.
-
3. То, что Б. Мелкевик называет могилами для современной философии права, мы бы назвали рисками.
-
4. В условиях рыночной экономики, идеологического плюрализма, академической свободы неизбежно будут существовать различные взгляды на право, различные типы правопонимания, а следовательно, юснатуралистская, этатистская (позитивистская), интегральная (или интегративная) философия права, причем с различными вариациями. Эти типы правопонимания некоторые исследователи (В. В. Кожевников) не без оснований называют классическими. Есть сомнения, что интегративный или интегральный тип правопонимания стал классическим, так как, если относить к нему коммуникативную теорию права А. В. Полякова и понимание права как диалога И. Л. Честнова, то в их концепциях налицо влияние так называемых новых теорий, постмодерна, постклассики и т. п. Но мы поддерживаем позицию тех авторов, которые считают интегративный (интегральный) тип правопонимания одним из основных в конце XX — первой четверти XXI в. Существует конкуренция идей, теорий, взглядов на право, и доктрины могут быть как доминирующими, так и маргинальными.
-
5. Для нас очевидно, что абсолютизировать роль государства, государственных органов в сфере права ошибочно, так как это не соответствует правовым реалиям, но мы выступаем против принижения этих акторов в сфере правотворчества, интерпретации и правоприменения, поскольку это диссонирует с юридической действительностью.
-
6. Нам импонирует антропоцентристский подход Б. Мелкевика и его единомышленников, последователей; акцент на субъективных правах индивида, демократический, свободолюбивый настрой автора, его неприятие автократии и т. п. Но если порядок, как справедливо пишет А. В. Поляков, одна из основных эйдетических ценностей, то он невозможен без режима законности, без реализации принципа законности, а это подразумевает своевременное и неукоснительное выполнение всеми субъектами права, в том числе и индивидами, своих юридических обязанностей: соблюдение запрещающих норм и исполнение обязывающих.
-
7. Не разделяем критический подход ученого к догматике права, поскольку понятийно-категориальный аппарат нужен, по крайней мере, студентам, чтобы овладеть знаниями о праве, ученым, законодателям, особенно в странах романо-германской правовой семьи, еще больше при создании принципов и норм международного права.
-
8. Заслуживает внимания призыв Б. Мелкевика к практикализации философии. Существует, например, теоретическая физика, поэтому и философия может быть доктринальной, отвечающей на глубинные вопросы: бытие права, его сущность, природа и т. п. Если возможна прикладная философия права, то это, на наш взгляд, замечательно, так как она будет давать ответы практикующим юристам, например, об истине, фактах, доказательствах, правосудии и др. Наверное, здесь могут внести и уже вносят, как мы уже отмечали, свой вклад представители отраслевых юридических наук61, теоретики права и философы права — практикующие юристы, в том числе адвокаты.
-
9. Концепция Б. Мелкевика — это довольно оригинальная версия коммуникативного осмысления права, заслуживающая пристального внимания и вдумчивого анализа.
-
10. Отметим богатый, яркий, образный, метафоричный и провокативный язык произведений ученого и постановку им острых, актуальных и важных в доктринальном и практическом плане проблем современной юриспруденции, в особенности — философии права.