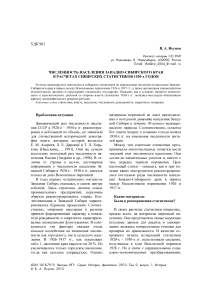Численность населения Западно-Сибирского края в расчетах сибирских статистиков 1930-х годов
Автор: Исупов Владимир Анатольевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется деятельность сибирских статистиков по определению численности населения Западно-Сибирского края в период между Всесоюзными переписями 1926 и 1937 гг., а также организация взаимодействия статистических органов со структурами сталинского государства. Показано, как в условиях мощного политического и идеологического давления со стороны власти статистики 1930-х гг. пытались воссоздать объективную картину демографического развития региона.
Статистика, власть, население, численность, рождаемость, смертность, миграции
Короткий адрес: https://sciup.org/14737178
IDR: 14737178 | УДК: 902
Текст научной статьи Численность населения Западно-Сибирского края в расчетах сибирских статистиков 1930-х годов
Проблемная ситуация
Динамический ряд численности населения СССР в 1920-е – 1930-е гг. реконструирован в небольшой по объему, но значимой для отечественной исторической демографии книге, авторами которой являются Е. М. Андреев, Л. Е. Дарский и Т. Л. Харькова [Население…, 1991]. Они же сумели воссоздать погодовой ряд численности населения России [Андреев и др., 1998]. В отличие от страны в целом, достоверная информация о численности населения Западной Сибири в 1920-е – 1930-е гг. имеется только на даты Всесоюзных переписей.
В годы первых «сталинских» пятилеток Западная Сибирь оказалась в самом центре событий. Здесь строились десятки новых промышленных предприятий, коренным образом реконструировались старые. Коллективизация в Западной Сибири характеризовалась бурными процессами. Соответственно, миграции населения в регионе приняли форсированный характер, а показатели рождаемости и смертности характеризовались аномальными флуктуациями. В совокупности эти факторы оказали очень сильное воздействие на изменения численности как городского, так и сельского населения. В 1926–1937 гг., как показывает табл. 1, население края выросло на 20 %. Но увеличивалось только городское население, тогда как сельское сокращалось. Однако материалы переписей не дают представления о погодовой динамике населения Западной Сибири в течение 10-летнего межпереписного периода. Соответственно, остается без ответа вопрос о влиянии голода начала 1930-х гг. на изменения численности жителей края.
Между тем советские статистики предпринимали многочисленные попытки вести текущий счет численности населения. Они достигли значительных успехов и, вместе с тем, нередко терпели поражения. Цель настоящей статьи – показать, как и при помощи каких инструментов реконструировались погодовые ряды численности населения Западно-Сибирского края в период между Всесоюзными переписями 1926 и 1937 гг.
Какие материалыбыли в распоряжении статистиков?
В своих расчетах статистики опирались, прежде всего, на материалы переписей населения. Они представляли самые надежные исходные данные для анализа и одновременно являлись контрольными точками для проверки их правильности. В качестве отправного пункта исчислений статистики 1920-х – 1930-х гг. использовали сведения, полученные в ходе Всесоюзной переписи 1926 г. Но в связи с кардинальными социально-экономическими преобразованиями,
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История © В. А. Исупов, 2010
Таблица 1
Численность населения Западно-Сибирского края *,
** по данным Всесоюзных переписей населения 1926 и 1937 гг. (тыс. чел.)
|
Дата переписи |
Городское население |
Сельское население |
Всего |
|
17 декабря 1926 г. |
576,1 |
4783,5 |
5359,6 |
|
6 января 1937 г. |
1912,8 |
4520,7 |
6433,5 |
|
1937 г. в % к 1926 г. |
332,0 |
94,5 |
120,0 |
В границах Западно-Сибирского края по административно-территориальному устройству 1934 г.
Таблица составлена по: Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991. С. 44,
50–51, 56–57.
происходившими в СССР и сопутствующими им изменениями демографической сферы, материалы переписи быстро устарели. Это сильно затрудняло практическую работу. Попытки организовать Всесоюзную перепись в 1932 г., а затем в 1935 и 1936 гг. не удались. Перепись была проведена только в январе 1937 г. Но информация о населении, полученная в ходе этой переписи, так и не была использована в статистической практике. Постановлением СНК СССР от 26 сентября 1937 г. Всесоюзная перепись 1937 г. была объявлена дефектной 1. Статистики, таким образом, лишились важной реперной точки, крайне необходимой для проверки правильности счета.
Поскольку проведение следующей после 1926 г. Всесоюзной переписи населения затянулось, статистики нашли выход, организуя учеты и локальные переписи. Прежде всего, это так называемая «перерегистрация» городского населения, проведенная статистическими органами совместно с Центросоюзом в период с 15 марта по 15 апреля 1931 г. Организационным основанием для перерегистрации послужила выдача горожанам заборных книжек (аналог карточек). В ходе перерегистрации предусматривалось выявить численность, половозрастной и социальный состав городского населения. Однако точность полученных сведений оказалась крайне низкой. Перерегистрация была организована не во всех городских поселениях страны. Так, в Западной Сибири намечалось охватить перерегистрацией население 50 городских поселений, но в 4 она не проводилась вовсе, в Кузнецке была организована с грубым нарушением инструкций. По Новокузнецку, Гурьевску,
Алейску и Салаирскому руднику материалы поступили поздно. В статистическую разработку они не попали. По Ольховскому руднику, Бердску и Тюкалинску сведения были получены путем дополнительных исчислений. Вообще статистики тех лет вынуждены были использовать многочисленные прики-дочные расчеты и вносить не во всех случаях обоснованные поправки на недоучет. Такие поправки, в частности, были внесены по Новосибирску, Омску, Томску и Щегловску [Статистика Сибири, 1931. С. 53]. В сущности, перерегистрация городского населения, проведенная весной 1931 г., имела ограниченное значение. Вместе с тем она выявила главный вектор динамики численности городского населения Западной Сибири. Она показала, что население городов растет астрономическими темпами. В течение 1926–1931 гг. численность горожан региона выросла на 47 %. Особенно быстро росли города Кузбасса. Население Новокузнецка увеличилось за эти годы сразу на 1636 %, Прокопьевска – более чем в 4 раза, Щеглов-ска и Ленинска-Кузнецкого – удвоилось [Там же. С. 51–52].
Значительно более важным источником сведений о народонаселении оказалась локальная перепись городского населения Кузбасса, организованная 15 января 1931 г. Она охватила 11 городских поселений Кузбасса, среди которых были такие быстрорастущие, как Новокузнецк, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Прокопьевск и др. Однако сил для проведения переписи, во всех без исключения городских поселениях региона, не хватило. За рамками статистического наблюдения оказалось население некоторых рудничных поселков. По оценкам статистиков тех лет, погрешность при переписи достигала при- мерно 3 % 2. На самом деле она была значительно выше. Это хорошо понимали статистики того времени. Один из организаторов сибирской статистики Н. К. Солоницын признавал, что «сила исчислительного хитроумия статистиков не в состоянии уловить меры действительного уровня населения» [Кузбасс..., 1931. С. V].
15 февраля 1932 г. была проведена жилищно-коммунальная перепись Новосибирска. На этот раз были получены достаточно полные и точные сведения о населении крупнейшего в Сибири города [Итоги жилищно-коммунальной…, 1933]. Эта перепись была частью широко задуманного проекта по переписи населения и жилищнокоммунального хозяйства всех крупных городов Западно-Сибирского края. Но из-за недостатка финансирования этим планам не суждено было сбыться 3.
Численность сельского населения оценивалась на основе данных налоговых учетов. Использовались также и переписи скота, которые одновременно фиксировали количество жителей деревни. О важности переписей скота для определения численности сельского населения свидетельствует тот факт, что статистики 1930-х гг. расценивали это мероприятие как перепись сельского населения, проводившуюся попутно с учетом скота 4. Полученные в ходе налоговых учетов и переписей скота материалы имели в основном ориентировочное значение и показывали только общий вектор развития населения. Но они содержали ценную и главное детальную информацию о численности населения отдельных районов Западно-Сибирского края.
Важным источником сведений о населении и одновременно о методах работы статистиков 1920-х – 1930-х гг. являются текущие оценки численности населения края. Собственно технология расчетов была проста. К сведениям последней переписи добавлялись числа родившихся и прибывших на данную территорию и вычитались числа умерших и выбывших с данной территории. Эти оценки, таким образом, требовали по возможности точных сведений о естественном и механическом движении населения. Однако в силу различных обстоятельств по- лучить такие данные в 1920-е – 1930-е гг. было очень сложно. Система регистрации демографических событий была крайне несовершенной. Большевистское руководство страны в 1917–1918 гг. разрушило устоявшуюся за долгие годы систему регистрации демографических событий, основанную на фиксации религиозных обрядов. Становление светской системы регистрации посредством сети загсов затянулось.
В Сибири регулярное наблюдение за естественным движением населения было установлено только в 1925 г. Но и в 1930-е гг. многие районы Сибири не имели загсов. Там, где они были созданы, регистрировались далеко не все случаи рождений и смертей. По современным оценкам в 1927–1929 гг. в Советском Союзе не было зафиксировано 24 % рождений и почти 60 % смертей. В 1930–1933 гг. положение ухудшилось. Недоучет по рождениям повысился до 42 %, по смертям – до 94 %. В разосланном 29 июля 1933 г. циркулярном письме ВЦИК, адресованном исполкомам АССР, краев и областей, подчеркивалось: «По имеющимся в распоряжении Президиума ВЦИК материалам, а также по сведениям, полученным от ЦУНХУ Союза ССР и УНХУ РСФСР, работа органов ЗАГС протекает ненормально и с большими перебоями» 5. Только после 1934 г. величину погрешности учета удалось несколько снизить [Население Советского…, 1991. С. 44].
Особенно сложно проходило становление системы учета механического движения населения. В конце 1920-х – начале 1930-х гг. передвижения людей в СССР фиксировались только в городах, имевших адресные столы. В большинстве небольших городов и рабочих поселках они не были созданы. Но даже там, где имелись адресные столы, регистрировались далеко не все прибывшие и выбывшие. В итоге сложились три источника статистических погрешностей: недостаточный охват территорий адресными столами, неполнота самого учета миграций и недостаточно полная разработка полученных цифровых материалов. По сведениям Статистического сектора Госплана РСФСР, в статистическую разработку попадали материалы, охватывающие менее трети городского населения 6. Миграции сельско- го населения вообще не учитывались. «Ни передвижения населения в небольшие города и поселения городского типа, ни передвижения населения из одних сельских местностей в другие, не получают освещения», – подчеркивалось в письме Статистического сектора Госплана РСФСР, разосланного на места в мае 1930 г. 7 Еще более категоричен в своих оценках один из организаторов и руководителей сибирской демографической статистики А. И. Слуцкий. В 1931 г., характеризуя систему регистрации мигрантов, он писал: «Учет в настоящее время ведется настолько неудовлетворительно, что данными его пользоваться не представляется возможным» [Слуцкий, 1930. С. 106].
Регистрация мигрантов в СССР не была организована должным образом и после принятия 27 декабря 1932 г. постановления ЦИК и СНК СССР «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов» [Собрание законов…, 1932]. Согласно постановлению граждане Советского Союза, получившие паспорта, были обязаны при прибытии на новое место жительство прописаться, а при отъезде – выписаться. Сведения о прописке-выписке сотрудники паспортных столов милиции записывали в 2 экземплярах, один из которых направлялся в органы статистики. Последние суммировали данные о численности и составе мигрантов.
Однако добиться полной, без погрешности регистрации прибывших и выбывших не удалось. Если статистики 1930-х гг. рассматривали введение системы прописки-выписки как статистическое мероприятие, призванное улучшить учет миграций, то политики расценивали его иначе. Паспортизация была превращена властями в крупную полицейскую акцию. Ее задачей стало выявление «социально-чуждых элементов» и «чистка» городов. В этом аспекте представляет интерес резолюция Барнаульского Горкома ВКП (б), принятая 28 сентября 1933 г. по вопросу о проведении паспортизации: «Ведение единой паспортной системы преследует цель – очистить центральные города и важнейшие промышленные районы от антиобщественного элемента (кулаков, летунов, дезорганизаторов производства, воров, хулиганов и т. п.). Проведение же паспорти- зации в гор. Барнауле преследует цель предотвратить проникновение антиобщественного элемента в режимные города и промышленные районы, а также выявление и взятие на учет классово-чуждого, преступного и деклассированного элемента» 8. Таким образом, профессиональные интересы статистиков и цели государственных органов сильно различались.
Претенденты на получение паспорта тщательно проверялись органами милиции. Начальник Управления милиции ЗападноСибирского края Домрачев в спецсводке от 8 марта 1933 г. докладывал, что списки на получение паспортов тщательно проверяются. Материалы на лишенцев, кулацкий, преступный и другой чуждый элемент берутся на учет и заносятся в особую картотеку 9. Многие граждане, опасаясь «взятия на учет», бежали из городов. Несколько недель спустя после начала паспортизации в Ста-линске было обнаружено 923 покинутые землянки. В Прокопьевске было брошено 324 землянки и избушки, в Ленинске-Кузнецком – 96, в Анжеро-Судженске – 54. Всего из Прокопьевска бежало 11 229 чел., из Ленинска-Кузнецкого – 1 428, из Анжеро-Судженска – 4 268, из Сталинска – 5 237 чел. 10 Паспортизация затянулась. Паспортные столы смогли развернуть мероприятия по прописке только во второй половине – конце 1934 г.
Разрешение на получение паспортов получали далеко не все граждане. В городах паспорта не выдавались лишенцам, лицам, не занятым общественно-полезным трудом, бывшим кулакам, офицерам, священнослужителям, торговцам, фабрикантам и всем ранее судимым. В «черные списки» заносились и иждивенцы тех, кто не имел права на получение паспорта. В сельской местности паспорта не выдавались колхозникам, составлявшим большинство населения СССР. Были лишены права на получение паспорта и единоличники. В итоге в стране образовался значительный круг беспаспортных. В Новосибирске к началу 1934 г. было паспортизировано 55 % населения, в Омске – 46, в Томске – 50, в Барнауле – 48 %, в Славгороде – 35 %11. С учетом сельского населения, которому паспорта не выдавались, более половины населения СССР не имели паспортов. Соответственно, их территориальные перемещения не регистрировались. Но и те, кто получил паспорт, далеко не во всех случаях оформляли прописку-выписку. В сущности, данные о миграциях, получаемые на основе прописки-выписки, указывают только на тенденции территориальных перемещений, но не о масштабах механического движения населения.
Отсутствие сведений о рождаемости, смертности и миграциях сильно затрудняло работу статистиков по определению численности населения в межпереписные периоды, а в иных случаях делало эту работу невозможной. Статистики 1930-х гг. в своих оценках вынужденно опирались скорее на приблизительные экспертные оценки, чем на расчеты, основанные на рациональном знании источников.
Условия работы статистиков
Центральное статистическое управление (ЦСУ РСФСР) было создано 25 июля 1918 г. По замыслу его создателей, оно должно было поставлять объективную экономическую, демографическую и другую информацию, необходимую для управления страной. Глава ЦСУ обладал правами наркома. В 1923–1926 гг., при СНК СССР функционировало ЦСУ СССР. В провинции были образованы местные статистические управления. В Сибири, после многочисленных реорганизаций и переименований, было сформировано Сибирское краевое статистическое управление, работавшее по заданиям и планам ЦСУ СССР и одновременно выполнявшее задания Сибкрайисполкома. Поскольку сложные профессиональные обязанности статистиков требовали определенного образовательного ценза, статистические органы оказались прибежищем «бывших». Среди статистиков оказалось много выходцев из дворянской, купеческой и мещанской среды, окончивших еще до революции университеты, гимназии и реальные училища.
Первоначальная независимость (относительная) статистики с укреплением советского государства урезалась. Органы статистики интегрировались в партийногосударственный аппарат и все чаще использовались как мощный идеологический инструмент. Они были обязаны поставлять не только объективную цифровую информацию, но и цифровые данные, необходимые для ведения идеологической работы. В декабре 1929 г. на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов Сталин высказался по важнейшему для статистики вопросу о построении баланса народного хозяйства. «Схему баланса народного хозяйства СССР должны выработать революционные марксисты, если они вообще хотят заниматься разработкой вопросов экономики переходного периода» [Сталин, 1949. С. 171–172]. Эта сентенция подчеркивала политическое значение статистики и, одновременно содержала угрозу в адрес «революционных марксистов». Она на долгие годы вперед определила вектор развития советской статистической науки.
В 1930 г. ЦСУ СССР как ведомство, обладавшее правами наркомата, было упразднено. Его место занял Экономико-статистический сектор Госплана СССР. С этого момента советская статистика была полностью подчинена плановым органам. В Сибири в составе Запсибкрайплана была сформирована Экономико-статистическая секция. В 1931 г. развернулась очередная реорганизация органов статистики, в ходе которой «статистика» была заменена «учетом». Экономико-статистический сектор Госплана СССР был преобразован в Сектор народно-хозяйственного учета. Соответственно Экономико-статистическая секция Запсибкрайплана стала именоваться Сектором народно-хозяйственного учета. Его руководителем 22 ноября 1931 г. был назначен выходец из крестьян, имевший низшее образование, но член партии с 1918 г., Н. К. Солоницын. Подчеркивая особый статус этого сектора в бюрократической иерархии советской провинции, председатель Запсибкрайплана В. Ф. Тиунов назначил Н. К. Солоницына своим заместителем 12. Всю работу по статистике населения возглавлял беспартийный специалист с высшим образованием А. И. Слуцкий 13.
Многообразная деятельность по сбору информации требовала крупных организационных форм. Поэтому в том же 1931 г. было создано Центральное управление народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ) Гос- плана СССР. ЦУНХУ подчинялось Госплану СССР и выполняло его задания и директивы. В сложной системе государственной иерархии ЦУНХУ Госплана СССР располагалось на ступень ниже, чем ЦСУ СССР, входившее непосредственно в структуру СНК. На местах была создана сеть республиканских, краевых и областных управлений народно-хозяйственного учета. Сектор народно-хозяйственного учета Запсибкрай-плана в марте 1932 г. превратился в Краевое управление народно-хозяйственного учета (КУНХУ) Запсибкрайплана. Начальником КУНХУ был назначен Н. К. Солоницын. Группу демографической статистики возглавил А. И. Слуцкий.
Демографическая ситуация в СССР по мере развития процессов индустриализации и коллективизации обострялась. Поступавшая из статистических органов информация свидетельствовала о сокращении рождаемости, увеличении смертности, замедлении темпов прироста населения СССР. Утверждения сталинских идеологов о демографическом благополучии страны и ускоренных темпах роста численности ее населения противоречили тем данным, которые поставляли статистики.
В этих условиях власти действовали свойственными им методами жесткого администрирования. Загсы, которые собирали первичные данные о родившихся и умерших, в 1934 г. были переданы в систему общесоюзного НКВД. Тогда же Политбюро ЦК ВКП (б) поручило Комиссии партийного контроля выявить причины недоучета населения. Созданные для этого проверочные комиссии априори исходили из того, что социально-чуждые элементы, «проникшие» в органы статистики, сознательно искажали демографическую информацию. В Западной Сибири задача компрометации статистиков была поставлена перед одним из заместителей председателя Запсибкрайплана И. П. Эдельманом. Итогом его работы стала записка на имя секретаря Запсибкрайкома ВКП (б) Р. И. Эйхе и председателя Запсиб-крайисполкома Ф. П. Грядинского. В записке утверждалось, что статистики КУНХУ преднамеренно завышают смертность и занижают рождаемость [Исупов, 2008. С. 34–35]. Подобная работа по сбору «компромата» на статистиков велась по всей стране.
В июне 1935 г. Н. Ежов направил Сталину служебную записку «О естественном движении населения». Записка была подписана членом Комиссии партийного контроля Гроссманом. Он писал: «Руководство
ЦУНХУ не обеспечило проверенными и квалифицированными кадрами свой сектор, занимающийся учетом населения, не говоря уже о кадрах на периферии, которых здесь не знают. Руководство всей работой по учету населения фактически осуществляет заместитель начальника сектора т. Курман, кандидат в члены партии. Несмотря на явную порочность сводных цифр, которыми ЦУНХУ оперирует, он вместо того, чтобы относиться к этим цифрам критически и добиваться улучшения постановки дела первичного учета, считает выведенные его сектором цифры правильными и противопоставляет их цифрам, названным т. Сталиным на XVII съезде партии… В аппарате ЦУНХУ из 300 с лишним основных работников (экономисты и выше) имеется около 50 чел. выходцев из чуждой среды (дворян, служителей культа, торговцев и т. д.)» 14.
Записка Гроссмана послужила удобным предлогом для постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 21 сентября 1935 г. «О постановке учета естественного движения населения» [Собрание законов…, 1935]. В постановлении отмечалось, что статистические органы СССР, засоренные классовыми врагами, сознательно искажали численность населения страны. Это постановление, ставшее своего рода прелюдией к репрессиям, обрушившимся на статистиков после переписи 1937 г., сыграло роковую роль в истории советской статистики. Она навсегда потеряла остатки былой самостоятельности и отныне производила информацию под жестким контролем властей.
Численность населения Западно-Сибирского края в 1930-1934 гг.
В 1930 г., когда был создан ЗападноСибирский край, появилась необходимость пересчитать численность его населения за предшествующие годы. Отталкиваясь от переписи 17 декабря 1926 г. и опираясь на сведения о естественном и механическом приростах населения, был выстроен динамический ряд численности населения Западно-Сибирского края до начала 1930 г. (табл. 2).
Поскольку из-за ненадежности сведений о естественном и механическом приросте уверенности в полученных сведениях не было, работники краевых плановых органов рассчитали еще один вариант динамики численности населения края. (табл. 3).
Сопоставляя данные табл. 2 и 3, мы видим, что каких-либо значительных разночтений в оценках статистиков народнохозяйственного учета и работников краевых плановых органов не было. Эти данные в основном совпадают с опубликованными в 1930 г. материалами о численности населения Сибири и могут считаться вполне приемлемыми. Это был успех – не имея точных данных о параметрах естественного и механического движения, сибирские статистики все же добились вполне сносных результатов. Сведения, с незначительными поправками, были опубликованы (табл. 4).
*
Оценка численности населения Западно-Сибирского края *
Таблица 2
работниками Сектора народно-хозяйственного учета Запсибкрайплана для 1927–1930 гг. (тыс. чел.) **
Оценка численности населения Западно-Сибирского края* работниками Запсибкрайплана для 1928–1930 гг. (тыс. чел.)*
Таблица 3
|
Дата |
Городское население |
Сельское население |
Всего |
|
01.01.1928 |
889,0 |
6622,9 |
7511,9 |
|
01.01.1929 |
975,2 |
6883,6 |
7858,8 |
|
01.01.1930 |
1080,2 |
7158,5 |
8238,7 |
*
По административно-территориальному устройству 1930 г.
** Таблица составлена по: ГАНО. Ф. 12. Оп. 3. Д. 35. Л. 41.
|
Дата |
Городское население |
Сельское население |
Всего |
|
01.01.1927 |
820,5 |
6402,7 |
7223,2 |
|
01.01.1928 |
891,5 |
6622,9 |
7514,4 |
|
01.01.1929 |
975,0 |
6883,6 |
7858,6 |
|
01.01.1930 |
1080,2 |
7158,5 |
8238,7 |
*
По административно-территориальному устройству 1930 г.
** Таблица составлена по: ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 34. Л. 9, 11.
Таблица 4
Опубликованная Экономико-статистическим сектором Сибкрайплана текущая оценка численности (тыс. чел.) населения Западно-Сибирского края * для 1927–1930 гг. **
|
Дата |
Городское население |
Сельское население |
Всего |
|
01.01.1927 |
847,5 |
6367,5 |
7215,0 |
|
01.01.1928 |
924,6 |
6587,5 |
7512,1 |
|
01.01.1929 |
1011,6 |
6847,3 |
7858,9 |
|
01.01.1930 |
1117,6 |
7118,2 |
8235,8 |
|
1930 г. в % к 1927 г. |
131,9 |
111,8 |
114,1 |
* Цифры были опубликованы в границах Сибирского края в целом. Пересчет численности населения в границах Западно-Сибирского края по административно-территориальному устройству 1930 г. проведен автором статьи путем суммирования численности населения территориальных единиц, вошедших в состав Западно-Сибирского края.
** Таблица составлена по: [Сибирский край…, 1930. С. 2–3, 14–15].
Вместе с тем из-за отсутствия точных данных о числе родившихся и умерших, а тем более о мигрантах, в расчеты вкралась ошибка. С ней вполне можно было мириться, но накапливаясь, она увеличивалась с каждым годом. Чем дальше от даты переписи отстояли расчеты, тем выше была погрешность. Статистические органы, ослабленные перманентными реорганизациями, не справлялись с фиксацией быстро нараставшего вала демографических событий. Теперь численность населения рассчитывалась на основе приблизительных экспертных оценок, скорее интуитивно, чем с привлечением рациональных данных. В учете населения в начале 1930-х гг. произошел сбой. Один из сотрудников Запсибкрайпла-на, составлявший баланс трудовых ресурсов края на вторую пятилетку, писал: «Данные статистики на одну и ту же дату – 1/I-1932 г. давали совершено отличные показатели. По предварительным расчетам УНХУ на 1/I-1932 г. сельского населения по краю должно было быть 7100 тыс. чел., данные налогового учета показали численность сельского населения летом 1931 г. в 6600 тыс. чел. По февральской переписи 1932 г. (перепись сельского населения, проведенная попутно с учетом скота) сельского населения было только 5 758 тыс. чел.» 15. Не лучше обстояло дело и с определением численности городского населения. Н. К. Солоницын в апреле 1932 г. признавал: «Насколько увеличилось население главных городов края и особенно Кузбасса, никто определенно сказать не может» 16.
Сбою в учете в немалой степени способствовало стремление местных органов власти преувеличить численность городского населения, так как от этого зависело снабжение регионов продовольствием и промтоварами, а также строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства и культурных учреждений. Представитель Запсиб-крайисполкома в СНК РСФСР Клевер 29 июля 1932 г. докладывал Ф. П. Грядин-скому, что председатель СНК РСФСР Д. Е. Сулимов «указал, что цифра населения, исчисляемая Крайисполкомом, является преувеличенной и не может быть положена в основание исчисления необходимых для городского населения жилищ и социально-культурных учреждений» 17.
На начало 1932 г. были получены 4 варианта различавшихся между собой оценок (табл. 5). Все они оказались неудачными. Непонятно также, включали ли статистики в свои расчеты заключенных и спецпересе-ленцев. Между тем численность этих групп населения была величиной, с которой нельзя было не считаться. Так, на начало 1932 г. в 16 колониях, расположенных на территории Западно-Сибирского края, содержалось свыше 84 тыс. лишенных свободы 18, а количество спецпереселенцев достигло 266 тыс. человек 19.
Несогласованность оценок сильно затрудняет определение демографических результатов голодомора начала 1930-х гг. Поскольку голод в Западной Сибири носил очаговый характер [Гущин, 1995], разобраться с его демографическими последствиями, в частности выяснить, как он повлиял на динамику численности населения, можно только опускаясь на самый низкий, районный уровень. Пролить свет на демографическую ситуацию, сложившуюся в различных частях Западной Сибири, помогают материалы налоговых учетов и переписей скота (табл. 6).
В 1932–1933 гг. численность сельского населения сократилась в 27 районах Западно-Сибирского края. Особенно значительное сокращение произошло в Быстро-Истокском, Волчихинском, Каменском, Ключевском, Рубцовском и Уч-Пристанском районах. В 1933–1934 гг. численность сельского населения сократилась в 19 районах. Своеобразными «рекордсменами» были: Краснотуринский, Павловский, Поспели-хинский, Рубцовский, Чановский и Шипу-новский районы. В том, что основной причиной снижения численности населения был не столько отток крестьян в города, сколько вымирание крестьянства, нет сомнений. Факт депопуляции (смертность превышала рождаемость) в 1933 г. был зафиксирован в Алейском, Бийском, Волчи-хинском, Краснозерском, Кочковском, Павловском, Поспелихинском, Ребрихинском, Рубцовском, Уч-Пристанском, Шипунов-
(1931–1934 гг.) **
Таблица 5
|
Дата |
Городское население |
Сельское население |
Всего |
Примечания |
|
01.01.1931 |
1205,2 |
7184,1 |
8389,3 |
Оценка опубликована *** |
|
01.07.1931 |
1184,9 |
7199,2 |
8384,1 |
Оценка опубликована **** |
|
01.01.1932 |
1423,8 |
6644,4 |
8068,2 |
Вариант 1 |
|
01.01.1932 |
1703,5 |
6102,6 |
7806,1 |
Вариант 2 |
|
01.01.1932 |
1800,8 |
5758,1 |
7558,9 |
Вариант 3 |
|
01.01.1932 |
1800,8 |
6200,0 |
8000,8 |
Вариант 4 |
|
01.01.1933 |
1894,2 |
6291,5 |
8185,7 |
***** Оценка опубликована ***** |
|
01.07.1934 |
1983,4 |
6328,4 |
8311,8 |
Оценка с учетом данных налогового учета |
* По административно-территориальному устройству 1930 г.
** Таблица составлена по: ГАНО. Ф.11. Оп. 2. Д. 34. Л. 9, 11; Д. 56. Л. 4; Ф. 12. Оп. 1. Д. 2655. Л. 24 об.; Оп. 2. Д. 24. Л. 48; Оп. 3. Д. 35. Л. 41; Д. 318. Л. 8; 17.
*** [Западно-Сибирский край, 1932. С. 393].
**** [Труд в СССР, 1932. С. 53].
***** [Итоги развития народного хозяйства…, 1934. С. 93].
Таблица 6
Районы Западно-Сибирского края *, численность сельского населения которых сократилась или не выросла. 1932–1934 гг. (на середину года) **
|
Районы |
Численность сельского населения (тыс. чел.) |
||
|
1932 |
1933 г. |
1934 г. |
|
|
Алейский |
54,3 |
54,2 |
52,6 |
|
Барабинский |
66,7 |
64,1 |
61,5 |
|
Быстро-Истокский |
56,0 |
51,4 |
51,1 |
|
Волчихинский |
53,8 |
45,1 |
44,3 |
|
Каменский |
69,6 |
60,5 |
74,5 |
|
Краснотуранский |
58,6 |
55,5 |
50,7 |
|
Ключевский |
41,4 |
38,2 |
39,7 |
|
Мамонтовский |
40,3 |
40,1 |
41,3 |
|
Минусинский |
41,8 |
41,4 |
39,5 |
|
Омский |
н/св |
83,8 |
82,5 |
|
Павловский |
н/св |
56,5 |
48,5 |
|
Поспелихинский |
40,0 |
48,9 |
42,1 |
|
Рубцовский |
87,3 |
67,9 |
63,1 |
|
Солонешенский |
27,7 |
27,0 |
27,3 |
|
Топчихинский |
н/св |
56,8 |
55,7 |
|
Убинский |
55,1 |
55,0 |
54,5 |
|
Уч-Пристанский |
52,8 |
48,6 |
52,1 |
|
Чановский |
33,6 |
32,7 |
30,5 |
|
Шипуновский |
58,0 |
58,7 |
55,1 |
* По административно-территориальному устройству 1930 г.
** Таблица составлена по: ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 34. Л. 10 – 10 об.; Д. 56. Л. 25–27.
Оценки численности (тыс. чел.) населения Западно-Сибирского края
ском районах 20. На самом деле, из-за огромных погрешностей учета демографическая ситуация была значительно хуже, чем это показывают статистические материалы тех лет.
Численность населения Западной Сибири в 1934–1937 гг.
Рубеж 1933–1934 гг. знаменовал собой новый этап, как в динамике населения, так и в эволюции советской демографической статистики. После преодоления в 1934 г. некоторых очевидных последствий голода, в СССР наметилась тенденция к выходу из состояния демографической катастрофы. Сверхсмертность голодных лет ушла в прошлое. Послекризисная компенсаторная волна рождаемости, возникшая в 1934–1935 гг., способствовала не только нейтрализации самых очевидных последствий голода, но и стимулировала рост численности населения. Немаловажное значение имел и миграционный приток населения в Сибирь. Теперь важной заботой властей стали попытки скрыть демографические следы голода, унесшего в масштабах СССР миллионы жизней. В Советском Союзе большое распространение получил так называемый «социалистический закон народонаселения», провозглашавший, что рождаемость при социализме перманентно увеличивается, смертность сокращается, а численность населения стабильно растет. Отныне статистическая информация должна была принять идеологически выверенную конфигурацию, подтверждающую убедительным в глазах народа языком цифр правильность политического курса Сталина на ускоренную индустриализацию и коллективизацию.
В этих условиях демографическая информация приобрела особую политическую актуальность. Сталин теперь стремился «задавать сверху» показатели демографического роста. Еще в 1930 г. на XVI съезде ВКП (б) он лично определил основные параметры развития народонаселения. «Смертность населения уменьшилась по сравнению с довоенным временем на 36 % по общей и на 42,5 % по детской линии, а ежегодный при- рост населения составляет у нас около 3 миллионов душ» [Сталин, 1949. Т. 12. С. 299]. Какими были на самом деле показатели снижения смертности в те годы, никто не знал. Современные исследования обнаружили, что общий коэффициент смертности Советского Союза в 1930 г. действительно понизился по отношению к 1913 г., но не на 36 %, как утверждал Сталин, а всего на 7–8 % [Демографическая…, 2006. С. 262]. Продолжая линию на сокрытие демографических последствий голодомора, Сталин на XVII съезде ВКП(б) огласил сведения о численности населения СССР. По его словам, она выросла «со 160,5 миллиона человек в конце 1930 года до 168 миллионов в конце 1933 года» [Сталин, 1951. С. 336]. На самом деле население Советского Союза в начале 1934 г. едва насчитывало 156,8 млн человек [Население Советского Союза…, 1991. С. 118].
Сегодня в литературе, объясняя происхождение «сталинской» цифры, приводится, как правило, свидетельство демографа М. В. Курмана, одного из немногих руководителей советской статистики 1930-х гг., выживших в лагерях ГУЛАГа. По его воспоминаниям, Сталин на вопрос начальника ЦУНХУ СССР В. В. Осинского (Оболенского), откуда взялись эти сведения, ответил, что сам знает, какую цифру ему называть [Вишневский, Кузнецова, 1989. C. 210]. Получается, что Сталин выдумал эти цифры. Вряд-ли эта гипотеза соответствует действительности. Работники партийного аппарата, готовившие материалы для сталинского доклада на XVII съезде, опирались, несомненно, на материалы о населении, опубликованные ЦУНХУ.
Советская статистика в конце 1920-х гг. поставляла информацию о численности населения СССР, достаточно близкую к истине. В 1929 г. ЦСУ СССР определило численность населения страны на начало 1929 г. в 154 млн чел. [Статистический справочник СССР, 1929. С. 18, 20–21]. В 1973 г. ЦСУ СССР исходило из того, что население страны к началу 1929 г. не превышало 153,4 млн чел. [Население СССР, 1975. С. 7]. По более точной, на наш взгляд, оценке Е. М. Андреева, Л. Е. Дарского и Т. Л. Харьковой численность населения страны на эту дату составляла 154,7 млн чел. [Население Советского Союза..., 1991. С. 118]. Как видим, расхождения между
Таблица 7
|
Дата |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
||
|
Численность |
Прирост |
Численность |
Прирост |
|
|
01. 01. 1927 |
147,0 |
– |
– |
– |
|
01. 01. 1928 |
150,6 |
+3,6 |
150,4 |
– |
|
01. 01. 1929 |
154,4 |
+3,8 |
154,2 |
+3,8 |
|
01. 01. 1930 |
157,7 |
+3,3 |
157,4 |
+3,2 |
|
01. 01. 1931 |
160,6 |
+2,9 |
160,4 |
+3,0 |
|
01. 07. 1931 |
162,1 |
+1,5 за полгода |
– |
– |
|
01. 01. 1932 |
– |
– |
163,2 |
+2,8 |
|
Исчисление на 01.01.1933 |
– |
– |
165,7 |
+2,5 |
* тл z-vrx i n 1
В границах СССР до 17 сентября 1939 г.
** [Народное хозяйство СССР, 1932. С. XXII–XXIII, 104].
*** [СССР за 15 лет…, 1932. С. 211].
Таблица 8
|
Дата |
Численность населения (тыс. чел.) |
Примечания |
Источник |
||
|
городское |
сельское |
всего |
|||
|
01.01.1933 |
1498,1 |
4667,2 |
6165,3 |
Предварительная оценка ЦУНХУ СССР |
ГАИО. Ф. 2677. Оп. 6. Д. 1163. Л. 53. |
|
01.01.1933 |
1473,6 |
4667,2 |
6140,8 |
Окончательная оценка ЦУНХУ СССР |
Социалистическое строительство СССР. Стат. сб. М., 1936. С. XLVIII – XLIX. |
|
01.07.1934 |
1584,7 |
4725,1 |
6309,8 |
Оценка КУНХУ |
ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 56. Л. 5. |
|
01.01.1935 |
1670,0 |
4774,4 |
6417,4 |
Оценка КУНХУ |
ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 99. Л. 12. |
|
01.01.1935 |
1872,2 |
4650,0 |
6522,2 |
Оценка Запсибкрайплана |
ГАНО. Ф. 12. Оп. 3. Д. 1245. Л. 42. |
|
01.01.1935 |
1672,8 |
4742,5 |
6415, 1 |
Совместная оценка КУНХУ и Запсибкрайплана |
Западно-Сибирский край... С. VII. |
|
01.01.1936 |
1884,2 |
4635,4 |
6519,6 |
Оценка КУНХУ |
ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 99. Л. 12. |
|
06.01.1937 |
1912,8 |
4520,7 |
6433,5 |
Всесоюзная перепись 1937 г. |
Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991. С. 56–57. |
По административно-территориальному устройству 1934 г.
Опубликованные ЦУНХУ СССР
*
оценки численности (млн чел.) населения СССР *
Динамика численности населения Западно-Сибирского края * (1933–1937 гг.)
оценками статистиков конца 1920-х гг. и современными расчетами минимальны.
Однако роковую роль сыграл эффект накапливающейся ошибки и, что главное, политический нажим властей. На начало 1931 г. статистики ЦУНХУ определили население СССР в 160,6–160,4 млн чел., а на начало 1932 г. – в 163,2 млн чел. По современным оценкам, оно составляло меньшую величину – соответственно 159,8 млн чел. и 161,9 млн чел. [Население СССР, 1975. С. 118]. Ошибка достигла значительных величин.
В конце 1932 г. ЦУНХУ опубликовало приблизительное исчисление населения СССР на начало 1933 г., определив его в 165,7 млн чел. (табл. 7). Статистики, возможно, добросовестно заблуждались, но работники сталинского аппарата умело использовали их ошибку. После XVII съезда, когда встала задача найти такую цифру численности населения СССР, чтобы она не противоречила заявлениям Сталина, в статистическом сборнике ЦУНХУ было опубликовано, что численность населения Советского Союза к началу 1933 г. достигла 165, 7 млн чел. [СССР в цифрах, 1934. С. 92]. Таким образом, ориентировочное исчисление было выдано за реальную цифру. Это была ловкая, но малозаметная фальсификация. В действительности в СССР в начале 1933 г. проживало 162,9 млн чел. [Население Советского Союза…, 1991. С. 118].
Следующим шагом в сторону искажения статистических материалов должно было стать распределение населения страны по территориям. Как правило, численность населения страны в целом рассчитывается как сумма численностей населения отдельных регионов. Но на этот раз все было поставлено с ног на голову. Сначала была получена общая численность населения СССР. И только после этого статистики приступили к его распределению по территориям. Сотрудники ЦУНХУ разослали результаты своих расчетов региональным УНХУ. На долю Западно-Сибирского края (по административно-территориальному устройству 1934 г.) пришлось 6165,3 тыс. чел. Впоследствии была проведена незначительная коррекция данных. Окончательная численность населения Западно-Сибирского края на начало 1933 г. была определена в 6140,8 тыс. чел. Статистикам провинции ничего не оставалось, как принять цифру, пришедшую из Москвы. Эта заведомо фальсифицированная цифра стала опорной точкой, от которой должны были отталкиваться в своих последующих расчетах статистики на местах.
В итоге вынужденных манипуляций с целью «подстроиться» под цифры центра, статистики Западной Сибири получили далекий от реального динамический ряд численности населения края (табл. 8). Они осознавали, что получаемые сведения противоречат данным налоговых учетов и учетов населения, организованных при проведении переписей скота. Но уже ничего нельзя было сделать. Всю неточность опубликованных сведений вскрыла перепись 1937 г. Получилось, что между 1933–1936 гг. численность населения края выросла на 6,2 %, а между 1936–1937 гг. – сократилась. Особенно нелепо выглядит кривая численности сельского населения. Это произошло за счет явного завышения численности населения края в 1933–1936 гг.
С точки зрения статистической науки, истоки ошибки следует искать в первоначально завышенной численности населения на начало 1933 г. Но главную роль сыграл, несомненно, политический фактор, вынудивший статистиков постоянно завышать размеры прироста населения. Они вынуждены были считаться с утверждениями Сталина о приросте населения СССР на 3 млн чел. ежегодно. Исходя из этого становится очевидным, что глубинной основой ошибок стало беспрецедентное давление на работников статистического аппарата, которое было характерно для второй половины 1930-х гг.