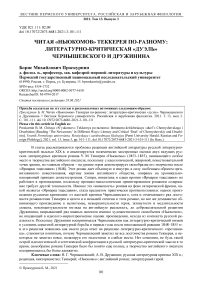Читая "Ньюкомов" Теккерея по-разному: литературно-критическая "дуэль" Чернышевского и Дружинина
Автор: Проскурнин Борис Михайлович
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы рецепции английской литературы русской литературно- критической мыслью XIX в. и анализируются полемически заостренные оценки двух ведущих русских литературных критиков романа У. М. Теккерея «Ньюкомы» (1853-1855), занимающего особое место в творчестве английского писателя, поскольку с идеологической, жанровой, повествовательной точек зрения, но главным образом - на уровне героя демонстрирует своеобразие его творчества после «Ярмарки тщеславия» (1848). Этот роман дает объемную и изнутри, в силу особенным образом организованного повествования, картину жизни английского общества, опираясь на хроникально- панорамный принцип сюжетостроения. Сатира, инвектива и едкая ирония «Ярмарки тщеславия» не работают в произведении, поскольку иронико-психологически ориентированное романное содержание требует другой тональности. Именно эта «инаковость» романа на фоне сатирической фрески, какой является «Ярмарка тщеславия», стала предметом практически противоположных оценок произведения русскими критиками: от жесткой критики Чернышевского, хотя и отмечающего ряд достоинств романистики Теккерея в целом и в меньшей степени в этом романе, но все же доминантно обвиняющего произведение в мелкотемье, невыразительности героя, затянутости и медлительности сюжета, неконцептуальности взгляда на английскую реальность, до доброжелательной рецензии Дружинина, вскрывающей ряд важных аспектов именно художественного своеобычия «Ньюкомов», не впадающей в идеолого-мирвоззренческие оценки произведения, исходя из контекста русской реальности. Поскольку Дружинин воспринимался Чернышевским как литературно-критический визави в условиях серьезной литературной борьбы в первые годы после николаевской реакции 1848-1855 гг. и его рецензия появилась как своего рода ответ на рецензию литературно-критического «противника», становится понятным, почему Чернышевский заметил не все достоинства романа Теккерея, а некоторые не заметил вовсе, педалируя его недостатки и слабые места. Нет сомнения, не будь такой острой идеологической и эстетической конфронтации в русской литературно-критической мысли в то время, своеобразие романа Теккерея было бы понято еще полнее, а творчество английского писателя воспринималось бы более адекватно.
Н. Г. Чернышевский, А. В. Дружинин, русская литературная критика XIX в., рецепция, викторианство, Теккерей, «Ньюкомы», английский роман, литературный герой
Короткий адрес: https://sciup.org/147236755
IDR: 147236755 | УДК: 821.111: | DOI: 10.17072/2073-6681-2021-3-101-111
Текст научной статьи Читая "Ньюкомов" Теккерея по-разному: литературно-критическая "дуэль" Чернышевского и Дружинина
В отечественной англистике хорошо известен весьма суровый критический отзыв Н. Г. Чернышевского о романе У. М. Теккерея «Ньюкомы» ( The Newcomes , 1853–1855), опубликованный во втором номере журнала «Современник» за 1857 г. и определивший почти на 165 лет советское, а затем и российское отношение к нему. Менее известна появившаяся несколько ранее рецензия на этот роман в журнале «Библиотека для чтения», написанная А. В. Дружининым, «первым серьезным критиком, взявшимся за освещение зарубежной литературы» [Ломакин 2012: 11], пришедшим к зарубежной литературе, как пишет Н. Н. Скатов, из-за «недостатка в серьезной отечественной литературе» [Скатов: эл. ресурс] (в конце 1840-х – начале 1850-х гг. – Б. П .). При внимательном прочтении той и другой рецензии становится очевидным, насколько по-разному, а со стороны Чернышевского даже полемически заостренно и в противовес Дружинину, прочитан этот роман Теккерея, насколько специфически «свое» увидели и не заметили (скорее, не захотели заметить) оба критика в этом произведении.
Роман «Ньюкомы» – ключевое произведение для того периода творчества Теккерея, который называют «романным», когда были созданы «История Пенденниса» (1848–1850), «История Генри Эсмонда, эсквайра» (1852) и рассматриваемый роман, а малые жанры как преимущественные в 1830–1840-х гг. отошли на второй, если не больший, план. Один из лучших отечественных знатоков творчества Теккерея В. С. Вахрушев, посвящая специальный раздел этому этапу в фундаментальной монографии о творчестве писателя, отмечает отличительную доминанту указанного периода: «Возникает новый в творчестве писателя тип романного героя, человека гамлетовских колебаний, сомнений, горько чувствующий свою оторванность от окружающих. Усиливается внимание писателя к внутреннему миру таких персонажей, к проблеме становления их личности» [Вахрушев 1984: 84]. Исследователь справедливо полагает, что роман воспитания с изначально заложенной в его структуре психолого-аналитической парадигмой становится основной жанровой платформой писателя, о чем бы он ни писал – об Англии первой половины XIX в. или о временах войн за испанское наследство и становления династии Ганноверов на рубеже XVII–XVIII вв. О сопряжении исторического романа и психологически и аналитически заостренного романного повествовательного модуса в «Истории Генри Эсмонда» нам уже приходилось писать в свое время (см. [Проскурнин 2012]). Здесь же сошлемся еще и на мнение американского литературоведа Гордона Рэя, работы которого о Теккерее знаменуют начало нового этапа мировой «теккерианы» в ХХ в. (кстати, в разы уступающей по количеству исследований мировым «диккенсиане» и «троллопиане», например): Рэй отмечает, что Теккерей в рассматриваемом романе (как и в «Пенденнисе») «уделил максимум внимания раскрытию характеров и минимум – поворотам сюжета», т. е. событийной, а значит, и открыто эпической, стороне [Ray 1968: 148]. Хотя при этом критик отмечает, что «Ньюкомы» – это «роман едва ли микрокосма, здесь наличествует почти весь мир как таковой (almost the world itself)» [там же]. Кстати, в современной Англии «Ньюкомы», «пожалуй, самый малоизвестный роман из его [Теккерея. – Б. П.] основных работ» [Taylor 1994: xviii]; например, в престижном и концептуальном Кембриджском «путеводителе» по викторианскому роману «Ньюкомы» упоминаются лишь при разговоре о коммерческих успехах викторианской романистики и в контексте расовых проблем в тогдашних романах; ни при обсуждении эстетики викторианского романа (а у Теккерея есть весьма принципиальные размышления о романе как явлении литературы, вложенные в слова «якобы автора» мемуаров Артура Пенденниса), ни при размышлениях об интеллектуализации романного повествования в это время (в «Ньюкомах немало серьезных разговоров о жгучих проблемах человеческого знания и опыта, интересных, пусть и спорных, суждений о смысле жизни, роли общества, роли и месте женщины в мире и т. п.) не только роман, даже имя Теккерея не упоминается (см. [The Cambridge Companion to the Victorian Novel: 2001]). А в интереснейшей книге под весьма обязывающим названием «Ключевые концепты викторианской литературы» роман «Ньюкомы» также не упоминается при осмыслении типологии героя и динамики романа воспитания в викторианскую эпоху, где роман (да и творчество Теккерея в целом) мог бы уточнить некоторые существенные аспекты (см. [Purchase 2006]).
Это весьма удивило бы современников писателя, которые очень высоко отзывались о произведении Теккерея: Т. Карлейль называл его «одним из величайших романов на английском языке» [Taylor 1994: xviii], и с его мнением соглашались многие, а читатели «проголосовали» за «Ньюкомов» огромным количеством раскупленных ими экземпляров книги: за первое издание романа Теккерей получил от издателей по тем временам впечатляющую сумму – четыре тысячи фунтов стерлингов. Восхищенное отношение к роману сохранялось долго: ведущий историк литературы первой трети ХХ в. Джордж Сейнсбери утверждал, что в романе «есть многое, что удовлетворит каждого, и крайне мало того, что кому-то может не понравиться» (цит. по: [Taylor 1994:
xviii]), а Дэвид Сесил, который во многом определял литературную моду середины ХХ в., подчеркивал, что в «Ньюкомах» Теккерею удалось «создать органическое единство из хаоса под названием “крупномасштабный английский роман”» [Cecil 1964: 66], и ставил этот роман ничуть не ниже «Ярмарки тщеславия» и «Генри Эсмонда».
Нам уже приходилось писать о долго господствовавшем в нашей науке некорректном крене рассматривать западноевропейскую литературу 1850–1860-х гг. исключительно через призму открытого социального аналитизма литературы 1830–1840-х гг. бальзаковского типа [Проскур-нин 1998: 225–235], что пусть опосредованно, но обнаруживается в отношении к Теккерею. Неоднократно писалось и о не всегда, мягко говоря, плодотворном справедливом восприятии английской литературы 1830–1860-х гг. исключительно через сравнение всех писателей с Диккенсом, об издержках так называемого «диккенсоцентриз-ма» (см. [Ивашева 1974; Гениева 1989: эл. ресурс; Проскурнин 1998]). Причем это характерно и для англоязычной истории викторианской литературы, которая много и охотно пишет о Диккенсе, а также о Троллопе, Джордж Элиот, Шарлотте Бронте и Элизабет Гаскелл, и невероятно мало о Теккерее. Диккенсовская манера «полных тонов», резких контрастов, романтизированной полярности добра и зла, прямого дидактического разоблачения, столь органичные для его художественного мира, не помогают, а то и мешают, понять художественный мир Теккерея 1850-х гг., по меткому определению Е. Ю. Гениевой, строящийся на «эстетике полутонов, порожденной новым взглядом на человека» и новым прочтением «человеческого сердца, которое не терпит однозначных решений и монохромной палитры» [Гениева 1989: эл. ресурс]. Сосредоточенность на человеческом сердце, то есть на внутреннем мире героя, в котором мало, а то и вовсе нет героического в прямом смысле слова, который живет обыденной жизнью, – вот доминанта романного содержания у Теккерея. Суть и характер этой жизни, ее нравственные и психологически объемно выписанные катаклизмы – это те, образно выражаясь, мазки, при помощи которых писатель рисует лицо (суть) современного английского высшего общества в его повседневности, обыденности, рутинности и малой событийности.
Гордон Рэй, как нам кажется, справедливо говорил о том, что так называемая викторианская респектабельность является своего рода этикоэстетическим кодом в романе, погружающим читателя в жизнь верхушки среднего класса (набравшего мощную социальную силу в то время) и аристократии [Ray 1968: 150]. Как тут не вспомнить знаменитую книгу Уолтера Хоутона, которая в 1950-е гг. ознаменовала начало новой эпохи в осмыслении викторианства как социокультурной целостности. Исследователь помещает концептуальный разговор о респектабельности как одном из главных мерил жизни викторианца в раздел, названный им «Коммерческий дух», в соседстве с такими императивами времени, как «буржуазная мечта» и «успех». И в самом деле, большинство героев Теккерея в этом романе, в особенности те, кто принадлежит к верхним стратам социальной структуры (а их подавляющее большинство в системе образов), всячески цепляются за респектабельность, выставляя ее (и усилия по ее сохранению) главным условием сохранения своего места в обществе и/или «борьбы за социальное продвижение» (см. [Houghton 1985: 185]). Этот, говоря словами Г. Рэя, код определяет не только нравственные горизонты всех персонажей (в том числе и тех, кто не слишком озабочен поддержанием этой самой пресловутой респектабельности – отца и сына Ньюкомов прежде всего), он своего рода ключ к эпическому началу в романе, то есть к принципу охвата жизненного материала, поскольку Теккерей выделяет его как главную, сшивающую воедино идею жизни значительной части английского общества, на том этапе истории определяющую его «лицо».
Н. Г. Чернышевский ставит в вину Теккерею именно это обращение к повседневности и обыкновенности жизни высших классов, к не прямой, как в «Ярмарке тщеславия», инвективе и с ног сшибающей по своей едкости сатире, к разобла-чительности, которая возникает исподволь и совершенно «подчинена» голосу одного из тех, кто существует внутри этого социума, хотя в силу своего характера и обстоятельств, известных читателю по предыдущему роману, позиционирует себя не совсем в их центре (Артур Пенденнис (рассказчик) неоднократно подчеркивает в романе свою принципиальную неслиянность с «объектами» своей хроники). Дружинина же это умаление прямой эпики и открытой сатиры ничуть не смущает, поскольку он все же ведет разговор о романе исходя из его художественной целостности, какой она видится критику, а не из идеологической заданности, да еще и привнесенной извне, что во многом и вынуждает Чернышевского считать, что подход Дружинина «ограничивает литературу изящным эпикурейством» [Чернышевский 1947: 300]. Чернышевский, рецензируя «Ньюкомов», сердито пишет о том, что «колоссальный талант» «гениального поэта Теккерея», у которого и в этом романе «нет ни одной холодной страницы, …ни одного мертвого слова» [Чернышевский: эл. ресурс], тратится «на слишком длинную (умную, прелестную, все это так, но длинную) беседу о пустяках» [там же]. Ему кажется странным и печальным противоре- чие «между степенью таланта, обнаруживаемого произведением, и степенью достоинства самого произведения» Чернышевский: эл. ресурс]. Чернышевский полагает, что сосредоточенность Теккерея на пустяшных событиях жизни персонажей, особенно – на «мизерной судьбе» и «жиденьких ощущеньицах» главного героя Клайва (Клэйва – по Чернышевскому), который «хочет дать тон всему хору, – и хор поет довольно пустые мотивы, довольно безжизненным, хотя и стройным тоном», умаляет все достоинства произведения. «Голоса хороши, но что ж делать, если капельмейстер слаб и плох?» – сетует Чернышевский [там же], тем самым выказывая жажду другого, не типа Ньюкома, а активного и созидательного героя, столь желаемого им в жизни и в отечественной литературе. Дружинин же в конечном счете трактует историю Клайва Ньюкома как драму талантливого человека, подобно тому, как позднее и в истории Ильи Ильича Обломова он увидит скорее трагедию Обломова-человека, чем критику социального типа (за что «на дуэль» его уже «вызовет» Добролюбов).
Чернышевский, соглашаясь с Дружининым по поводу блестяще выписанного образа, саркастически оттеняющего изъяны современного английского общества чужака и чудака, «нового Дон Кихота», полковника Ньюкома, пишет, правда только обзорно, о совершенстве созданных Теккереем комико-сатирически образов светских людей, особо выделяя образ «честной, холодной и практически мудрой бабушки» (имея в виду образ старой леди Кью) и «негодяя Барнса» [там же]. Дружинин же вовсе не упоминает их, поскольку социальная ирония интересна ему только как неотъемлемый элемент целостной картины жизни, по его мнению, блестяще воссозданной Теккереем в романе-хронике – «Одиссее современного британского общества» [Дружинин: эл. ресурс].
Чернышевский, призывая не винить Теккерея «в растянутости», тем не менее трижды едко иронизирует над 1042 страницами журнального формата романа, каждый раз говоря, что будь роман о 142 страницах, его достоинства были бы еще более впечатляющими: «Вот в этом-то и смысл: для “Ньюкомов” было бы лучше иметь вместо 1042 страниц только 142». «Сжатость – первейшее условие силы», – читаем мы в рецензии [Чернышевский: эл ресурс]. Дружинин же этого не замечает: «Нас не томила бы биография Томаса Ньюкома, будь она хоть в 30 томах» [Дружинин: эл. ресурс], и мы понимаем, что хлесткая реплика Чернышевского о 1042 страницах была спровоцирована именно этим утверждением Дружинина, статья которого, еще раз подчеркнем, вышла раньше. Дружинин уверен: «Ньюкомы» – «широкий шаг от отрицания к созиданию» писателя, который «держится за дей- ствительность» «с несокрушимой энергией», что это роман, в котором «много грустного, много смешного, много дурного, даже много карикатурного» [там же].
Почему же в российской литературно-критической мысли середины XIX в. столь по-разному был воспринят этот роман Теккерея? Чтобы понять этот феномен, надо иметь в виду два важнейших момента: во-первых, динамику восприятия Британии, ее политики, экономики, культуры, литературы в русском обществе в целом; во-вторых, диалектику литературного процесса (в том числе и литературно-художественной критики) в России сразу после смерти Николая I, когда закончилось так называемое «мрачное семилетие» – с 1848 по 1855 г. – и началась пора надежд на социальные и политические изменения в стране. При этом 1848 г. взят как год смерти В. Г. Белинского и год начала особо жесткой цензурной политики в области литературы и гонений за свободолюбивую мысль, в том числе и из-за прокатившихся по Европе революционных событий, в подавлении части которых Россия активно участвовала, получив звание «жандарма Европы».
Об изменившемся характере внимания в России времен «потепления» после смерти Николая I к зарубежной мысли и культуре метко написал в свое время Н. Н. Скатов: «Русская мысль часто искала на Западе свое. Но в данном случае это уже было не то страстное увлечение Байроном, которое пережили наши 20-е годы, и те напряженные философские штудии на немецкой почве, что отличали русские годы 30-е, и не поиски ответов на социальные запросы жизни, которые искали у французов только что отшумевшие 40-е» [Скатов: эл. ресурс]. Об этом же размышляет орловский историк В. В. Борискин: «…на смену умозрительным представлениям, доминировавшим в России в 20-40-е гг. XIX в. и нашедшим воплощение в образе “дряхлого Альбиона”, приходит более соответствующий действительности образ передовой, научно-технической, промышленно-торговой и сельскохозяйственной державы, образ “мастерской мира” и “всемирной ярмарки”» [Борискин 2006: 14]. И это несмотря на Крымскую войну, которая, кстати, не столько оттолкнула мыслящих русских от Британии как участника коалиции, напавшей на Севастополь, сколько наоборот – на фоне поражений России – вызывала интерес к социальной и политическим практикам этой страны (при всем взлете патриотизма – особенно в начале войны). Отечественные историки справедливо пишут о том, что Крымская война оказала «огромное воздействие на крепнущее общественное и национальное самосознание» и сыграла важнейшую роль «в процессе оформления общественности в России как самостоятельной, мыслящей силы, стремящейся к участию в составлении и осуществлении преобразовательных проектов» [Завьялова 2019: 39; 43]. Об этом же пишут А. И. Шепарнева (см. [Шепарнева 1995; Кузнецов 2016]), а К. В. Ратников, исследуя противоречивый художественно-публицистический отклик на военную кампанию в Крыму и отмечая господствовавшую в общественной и художественной мысли того времени (особенно в начале войны) анти-западническую, ура-патриотическую и даже православную риторики, тем не менее указывает, что воспевание героизма матросов, солдат и офицеров не отменяло критической и, порой, разоблачительной по отношению к военным и политическим верхам николаевской России позиции многих думающих авторов (см. об этом [Ратников 2018]). Британия в этом контексте выступала не только как страна – военный противник, но и как образец передовой современности во многих аспектах. Хотя, конечно, одновременно российское общество того времени, «общество, где издавна ценились справедливость, взаимопомощь, коллективизм, нестяжательство, не могло принять ценностных приоритетов, основанных на протестантской этике личного преуспевания» [Борискин 2006: 14].
Мы не будем сейчас развернуто говорить о том, что в самой Англии во время Крымской войны было немало выступлений с осуждением существующей в стране практики экономического, военного и политического устройства: достаточно назвать знаменитую «Ассоциацию содействия административной реформе», созданную передовой британской общественностью в начале Крымской войны, активным членом которой с мая 1855 г. был Ч. Диккенс, чей гневный пафос разоблачения закоснелой управленческой системы в Англии блестяще воплотился в «Крошке Доррит» (см. об этом [Проскурнин 2011]).
Стоит согласиться с историками, которые утверждают, что осмысление Британии в России времен окончания войны во многом происходит в парадигме необходимости реформ и решительных изменений, более того – как «столкновение двух программ модернизации России – либерально-реформистская и радикально-демократическая» [Борискин 2006: 18]. Совершенно очевидно, что и литературный процесс, а значит, и литературная критика, отражают именно такое распределение общественных сил. Крупнейший специалист в области литературно-эстетических исканий в России XIX в. Б. Ф. Егоров считает, что в 1855–1856 гг., то есть в самом начале правления Александра II, когда сильны были надежды на кардинальные изменения в обществе, основная борьба в литературно-эстетических кругах велась «между «общественниками», жаж- давшими социальных преобразований и видевшими в искусстве своего помощника (Чернышевский в их числе), и между «антиобщественниками», защитниками автономии искусства, его независимости от общественных ситуаций и изменений» (Дружинин в их числе) [Егоров 2009: 87]. По его словам, например, в «Современнике», одном из ведущих литературных журналов того времени, «усиление демократических тенденций прежде всего отразилось в литературно-критическом отделе», которым с 1855 г. стал руководить Н. Г. Чернышевский, а аналитические и критически заостренные журнальные обзоры в 1855 г. сам редактор Н. А. Некрасов вел «в духе идей Чернышевского», которому в 1856 г. он и передал этот раздел [там же: 88].
А. В. Дружинин, называемый первым в России сторонником «чистого искусства», развивал так называемую «артистическую» теорию искусства, «которую он и группа критиков (Анненков, Дудышкин) противопоставляли «дидактической» теории разночинцев (Чернышевского, Добролюбова и др.). Сущность ее сводится к немногим положениям: 1) искусство должно быть свободно и не служить «минуте»; 2) оно выражает вечные идеи красоты, добра и правды; 3) искусство не утилитарно» [Бельчиков 1939, т. 3: эл. ресурс]. При этом, подчеркивал Н. Ф. Бельчиков, Дружинин утверждал, что «теория независимого и свободного творчества вовсе не исключает здравого и даже современного поучения». Но все же главная задача искусства, по теории Дружинина, – ставить себе не временн ы е, а «вечные» цели [там же].
Подобная концепция была разительно далека от Чернышевского с его идеологией активной социальной (а то и политической) роли искусства и литературы, исходя из трех основных их черт: воспроизведение жизни, объяснение жизни, приговор над жизнью. Эта идеология была провозглашена в знаменитой диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1853) и в самой нашумевшей его большой, печатавшейся в течение года (с декабря 1855 по декабрь 1856 г.) программной статье (даже цикле статей) «Очерки гоголевского периода русской литературы», вызвавшей, конечно же, горячее неприятие А. В. Дружинина. Но полемическое противостояние двух критиков к этому моменту уже успело обрести свои определенные черты. Одним из первых моментов «литературно-критической дуэли» Дружинина и Чернышевского стала негативная реакция первого еще в 1854 г. на ранние рецензии Чернышевского, по Б. Ф. Егорову, отчетливо проявленная в статье «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений», в которой он горестно констатирует, что из-за сатирического направления в русской натуральной школе российская словесность «изнурена, ослаблена» [Егоров 2009: 92] и что творчество Пушкина трактуется совершенно превратно. «Дуэль» эта, обострившись, продолжилась при противоположном восприятии того, что в истории русской литературы с подачи Белинского называют «гоголевским периодом»: упомянутая статья Чернышевского 1856 г. на этот предмет практически спровоцировала контрстатью Дружинина «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» (того же года); их полемика продолжилась по поводу «Очерков из крестьянского быта» А. Ф. Писемского, где Чернышевский написал анти-дружининскую статью после появления рецензии Дружинина на книгу Писемского; об этом в марте 1857 г. Д. В. Григорович восхищенно писал И. И. Панаеву (см. об этом [Ямпольский 1978: 230]). Позднее Н. Г. Чернышевский полемически не согласится с оценкой А. В. Дружининым творчества широко известного и много переводившегося в России середины XIX в. Э. Бульвер Литтона, о чем доказательно пишет томский литературовед И. А. Матвеенко (см. [Матвеенко 2013]).
Размышляя о полемике Н. Г. Чернышевского и А. В. Дружинина, надо иметь в виду, что до Чернышевского именно Дружинин руководил литературно-критическим отделом «Современника», придя в него после ухода из жизни В. Г. Белинского и сделав немало для развития русской литературы в трудные для нее времена, о чем свидетельствует не только его собственное творчество, начало которого приветствовал сам Белинский, но и его обширная по тематике и именам литературная критика. По справедливому мнению Б. Ф. Егорова, более всех именно Дружинин способствовал утверждению в годы «мрачного семилетия» идеи о том, что «литература – радостная отдушина в невеселом мире» [Егоров 2009: 91]. Не случайно историки русской критики полагают, что лучшие статьи Дружинина «и по сей день могут считаться образцом высокоинтеллектуальной, точно выстроенной (с учетом авторской концепции) характеристики анализируемых произведений» [Шевцова 2015: 163].
Н. Н. Скатов говорил о том, что Дружинин писал «вполне в духе комильфо: легко, иронично, шутливо, если и полемично (по отношению к тем же славянофилам), то опять-таки в рамках «хорошего» тона, «честного рыцарства» [Скатов: эл. ресурс]. Согласимся, что подобный стиль весьма органично «ложился» на роман Теккерея, о котором он спорил с Чернышевским. В то же время права Л. И. Шевцова, которая отмечает, что «личная позиция критика [Дружинина] выражалась без уклончивости, часто принимала дискуссионный характер» и что вопросы, к кото- рым обращался Дружинин, были «крупные, в сущности глобальные вопросы, которые решались русской литературой на протяжении всего XIX века» [Шевцова 2015: 164; 165].
Правда, по мнению ряда исследователей, Дружинин, став редактором литературно-критического отдела «Современника», «сначала тонко и искусно, потом все более откровенно начал оспаривать идеи Белинского» [Уздеева 2015: 125]. Г. Н. Поспелов в классической теперь уже «Истории русской литературы XIX века (1840– 1860 гг.)» отмечал: главному редактору «Современника», Н. А. Некрасову, «единственному из крупных представителей демократического течения 1840-х гг., оставшихся в литературе» к середине 1850-х, было больно видеть, как «литературные сотрудники журнала постепенно изменяли заветам Белинского и основным положениям “натуральной школы”»; вот почему он приветствовал появление в 1854 г. в редколлегии журнала Н. Г. Чернышевского [Поспелов 1972: 148].
Как известно, Н. Г. Чернышевский был задиристым полемистом, «нападающим» спорщиком; вся его литературная и художественная критика – это борьба, схватка, наступление [Тихомиров 2009]. Это связано прежде всего с его пониманием того, что такое литература (не только в эстетическом аспекте) и какова ее роль в жизни общества, с тем, что задачи, которые Чернышевский ставил перед собой как критиком, были практической реализацией его этико-эстетических взглядов. Он, как уже говорилось, всячески подчеркивал «социально активную, преобразовательную функцию» литературы. И не только ее: как хорошо известно, Чернышевский, отдав в конце 1850-х гг. отдел литературной критики в «Современнике» Н. А. Добролюбову, обратился к философским, социальным, политическим вопросам развития современной ему России.
Дружинину же и его «мировоззрению, стилю, облику импонировала культура, отмеченная солидностью и сдержанностью», которая переходила в совершенно не приемлемую для Чернышевского «некоторую холодноватую бесстрастность» и вскоре, по его убеждению, «оказывалась своеобразным дендизмом» и «общественным индифферентизмом» [Скатов: эл. ресурс]. Здесь нельзя не сказать об известном англофильстве А. В. Дружинина. И. А. Матвеенко справедливо писала об «особой приверженности Дружинина английской культуре», о том, что «его мировоззрению импонировала многовековая традиционность и беспристрастность английской словесности», английская система воспитания зрелости и ответственности молодых людей в школах и университетах и т. п. [Матвеенко 2013: 131]. Не случайно Дружинин так много перево- дил из английской литературы и много писал о ней: он был одним из первых переводчиков Байрона и Шекспира (его перевод «Короля Лира» долгое время считался образцовым); его статьи о Диккенсе, Ш. Бронте, В. Скотте, Б. Дизраели, Т. Карлейле и других английских авторах составляют важную часть отечественной англистики. Думается, что А. В. Дружинин читал «Ньюкомов» (не исключено, что по-английски), прежде всего исходя из своей концепции литературы, исходя из художественной («артистической) целесообразности, практически не особо имея в виду российский контекст появления романа и его перевода. Чернышевский же читал «Ньюкомов», подавляющим образом исходя из российских социокультурных обстоятельств и долженствующего воздействия литературы на внелите-ратурные стороны жизни в России начала первой в истории страны «оттепели».
Разность в подходах к жизни – современной и не только, к литературе и искусству не могли не породить того, что многое в рецензии Дружинина на «Ньюкомов» оказалось неприемлемым для Чернышевского. Потому и родилось его собственное критическое осмысление этого романа Теккерея, построенное главным образом на методологии идейного и проблемно-тематического сравнения «Ньюкомов» с «Ярмаркой тщеславия», с одной стороны, и попытке вписывания романа с его хронологической неспешностью и психологической изысканностью в убыстренную динамику социо-исторического развития России ранних лет правления Александра II – с другой. Все это привело к однобокой историко-литературной трактовке не только рецензируемого романа, не только английской литературы 1850-х гг., но и всей логики развития европейского литературного процесса. Впрочем, понятно, что не они были в центре внимания критика, в большей степени анализ этого романа Теккерея был нацелен на русскую литературу и на формирование «правильного» русского читателя. А в этом отношении в рецензии Чернышевского все правильно – исходя из идеологии автора рецензии.
При прочтении рецензии Чернышевского удивляет не тотальное неприятие образа центрального героя («С литературной точки зрения, «Ньюкомов» погубил герой, Клэйв», «прекраснокудрый сынок полковника» [Чернышевский: эл. ресурс]), а то, что, сосредоточившись на отрицании героя английского писателя, не совпадающего с российскими необходимостями – малодеятельного и бесконечно рефлексирующего, сосредоточенного на двух сугубо личных любовных и художнических страстях, Чернышевский не оценил поворота Теккерея к поэтике тонкого психологического рисунка. И это тот Чернышевский, который до того написал бле- стящую рецензию на ранние произведения Л. Толстого и разработал знаменитую концепцию «диалектики души». Чтобы «добить» образ Клайва, Чернышевский специально останавливается на том, что Теккерей, объявив Клайва художником, тем не менее не показывает героя в творческих муках, в борьбе за свой успех в художническом деле. Чернышевский иронизирует: «Мистер Клэйв восхищается, находя в себе талант к живописи – очень интересно для меня! <…> …но вашему мистеру Клэйву от нечего делать вздумалось писать картины, которые никому не нужны (потому что плохи)» [там же]. В этих неоднократно употребленных «вашему» и «ваш» явно чувствуется нацеленность на Дружинина, которому Клайв, наоборот, показался привлекательным «добрым художником» с «массой хороших сторон» [Дружинин: эл. ресурс]. Чернышевский при этом почему-то не берет во внимание, что формально повествование в романе доверено Артуру Пенденнису, тоже творческому человеку, но писателю, который не может войти в «творческую лабораторию» живописца Клайва, в его художническое миропонимание, хотя порой и старается. Справедливости ради скажем, что Теккерей все же в самом деле не дает возможностей Клайву объемно высказаться о своем творчестве в разговорах с Артуром, отцом, в своих письмах и т. д. А вот понять общечеловеческие чувства главного героя его хроники, «домыслить», «дописать» Артур в состоянии, поскольку сам переживал нечто похожее в предыдущем романе (лишь вскользь, поскольку это должно стать предметом специального рассмотрения, заметим, что Теккерей использует в романе бальзаковский принцип «переходящих героев»).
Что это – пыл полемики? В этом пылу и образ Клайва не понят (как не понят и принцип его создания: один «обыкновенный» герой-повествователь – Артур Пенденнис – воспроизводит ис-торию/хронику жизни другого обыкновенного человека (обыкновенную историю); не замечена явно ироническая заданность всего повествования романа: об этом свидетельствует и замечательная «Увертюра» к «Ньюкомам», вполне в духе «Ярмарки тщеславия», и намек на Эзопа и его басни о животных – большой иронический зооморфный акцент-штрих; поставленный в самом начале романа, он, конечно, определяет (или по крайней мере должен был это делать) читательскую рецепцию всего последующего повествования. В пылу полемики Н. Г. Чернышевский не заметил очевидного, особенно в отступлениях рассказчика от хроники семейства Ньюкомов, и его (а точнее, Теккерея) горько-иронических обобщений: теккереевский «взгляд на действительность как на «юдоль слез» [Теккерей 1978, т. 2: 185], полную «ветров попутных и против- ных; штормов, подводных рифов, кораблекрушений» [Теккерей 1978, т. 1: 275], становится «все более мрачным» [Аникст 1956: 326]. Невозможно не увидеть здесь любопытный парадокс: открытая, прямая сатира уменьшается (однако образы младших братьев Нькомов и их жен, но особенно Барнса, выписаны не без прямого осуждения, хотя и поданного как личное отношение рассказчика, т. е. Артура Пенденниса), а пессимизм по поводу общественных перспектив растет. Чернышевский это пропустил или принципиально не взял в расчет, а Дружинин же, наоборот, заметил, что «мизантропическое настроение его [Теккерея] таланта во многом изменилось в последние годы» [Дружинин: эл. ресурс].
«Ньюкомы» – роман, который с идеологической, жанровой, повествовательной точек зрения, но главным образом на уровне героя, более других демонстрирует своеобразие творчества Теккерея после «Ярмарки тщеславия». Рисуя объемную и изнутри картину жизни английского общества и опираясь на хроникально-панорамный принцип сюжетостроения (в этом случае Теккерей блестяще наследует традиции столь любимых им писателей XVIII в., Филдинга и Смол-летта прежде всего), писатель редко прибегает к прямой сатире, инвективе и едкой, которыми так славны «Книга снобов» и «Ярмарка тщеславия». Совершенно очевидно, что «Ньюкомы» построены на новом для Теккерея романном содержании, которое требовало иной повествовательной тональности. Именно «инаковость» «Ньюкомов» по отношению к «Ярмарке тщеславия» вызвала жесткое неприятие Чернышевского. Кроме того, надо иметь в виду, что свою рецензию критик писал во многом как острый ответ на вполне доброжелательную рецензию Дружинина, демонстрирующую, порой, правда, номинативно (в соответствии с законами жанра рецензии), многие аспекты художественного своеобычия «Ньюкомов». Тот факт, что Чернышевский воспринимал Дружинина как своего литературнокритического визави, во многом объясняет, почему он заметил не все достоинства романа Теккерея, а некоторые не заметил вовсе, педалируя его недостатки и слабые места. Нет сомнения, не будь такой острой идеологической и эстетической конфронтации в русской литературнокритической мысли в то время, своеобразие романа Теккерея было бы понято еще полнее, а творчество английского писателя воспринималось бы более адекватно.
The Cambridge Companion to the Victorian Novel / Ed. by Deidre David. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 267 p.
READING ‘THE NEWCOMES’ IN DIFFERENT WAYS:
LITERARY AND CRITICAL ‘DUEL’ OF CHERNYSHEVSKY AND DRUZHININ
Boris M. Proskurnin
Professor, Head of the Department of World Literature and Culture Perm State University
ResearcherID: M-4794-2017
Submitted 28.06.2021
The essay deals with the issues of reception of English literature by Russian literary criticism; it analyzes polemically pointed evaluations of The Newcomes (1853–1855) by two leading Russian critics of the 1850s – 1860s – Nikolay Chernyshevsky and Alexander Druzhinin. To look at their reviews of the novel is worthwhile as it leads to a better understanding of both Russian literary process of the period and Russian reception of English literature in the middle of the 19th century. While examining these reviews, it is necessary to remember that this novel occupies quite an important place in the creative work of Thackeray and has many peculiarities at such levels of its structure as genre, plot, narrative, character-making, irony. The novel belongs to the after Vanity Fair period of Thackeray’s oeuvre with its own aesthetics which just in The New-comes gets its final look. The novel pictures the life of the English upper classes with the help of chronicle and panoramic methods of plot-making; direct satire, keenest irony and invective do not work here as they work in Vanity Fair. It is precisely this ‘otherness’ of The Newcomes , in comparison with the most famous novel by Thackeray, that becomes the matter of the opposite estimates of this novel by two Russian critics: at one extreme, Chernyshevsky who, though noting some strong plot-making and narrative positions in the novel, criticizes the writer for poor conceptuality of the novel, the petty themes raised, the hero’s unimpressiveness, procrastination and slowness of the narrative; at the other extreme, the benevolent view of Druzhinin who reveals some important facets of the novel’s artistic originality. He does not assess the novel from the ideological positions which are, in many respects, the products of the first Russian ‘thaw’ after the period of political reaction of the regime of Nicholas I and which determine the position of Chernyshevsky. Since Druzhinin had been taken by Chernyshevsky as his ideological rival and the founder of ‘art for art’s sake’ conception, his review was a severe polemical answer to Druzhinin’s review published earlier. That is one of the main reasons why such a profound literary critic as Chernyshevsky did not notice or did not want to notice many merits of The Newcomes which are stressed in the essay. It is shown in the essay that, while writing his review of The Newcomes , Chernyshevsky was thinking more about Russian literary situation than Thackeray’s novel itself and the literary process in England in the middle of the 19th century.
Список литературы Читая "Ньюкомов" Теккерея по-разному: литературно-критическая "дуэль" Чернышевского и Дружинина
- Аникст А. А. Теккерей // Аникст А. А. История английской литературы. М.: Учпедгиз, 1956. С.312-330.
- Бельчиков Н. Ф. Дружинин Александр Васильевич // Литературная энциклопедия: в 11 т. / отв. ред. В. М. Фриче. М.: Изд-во Коммунистической академии, 1939. Т. 3. URL: http://www.azHb.ru/-d/druzhinin_a_w/text_0010.shtml (дата обращения: 17.05.2021).
- Борискин В. В. Викторианская Англия в оценках российских либералов и демократов 5060-х годов XIX века: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Орел, 2006. 25 с.
- Вахрушев В. С. Романы Теккерея начала пятидесятых годов // Творчество Теккерея. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1984. С. 83-104.
- Гениева Е. Ю. Странная судьба Уильяма Теккерея // У. М. Теккерей: Творчество. Воспоминания. Библиографические изыскания. М.: Худож. лит., 1989. URL: http://philology.ru/literature3/-genieva-89c.htm (дата обращения: 12.05.2021).
- Егоров Б. Ф. Избранное. Эстетические идеи в России XIX века. СПб.: Летний сад, 2009. 663 с.
- Дружинин А. В. «Ньюкомы», роман Теккерея. URL : http : //druzhinin .lit-info. ru/druzhinin/kritika-druzhinin/nyukomy-tekkereya.htm (дата обращения: 12.05.2021).
- Завьялова О. О. Активизация модернизацион-ного потенциала российской общественности в годы Крымской войны (1853-1856 гг.) // Псковский военно-исторический вестник. 2019. Вып. 5. С.39-44.
- Ивашева В. В. За щитом скептицизма // Английский реалистический роман в его современном звучании. М.: Худож. лит., 1974. С. 193-263.
- Кузнецов О. В. Крымская война как «момент истины» для России // Военная история России: проблемы, поиски, решения. Волгоград: Волгоград. гос. ун-т, 2016. С. 154-166.
- Ломакин С. В. Уильям Теккерей и русская литература 40-60-х гг. XIX века: оценки в критике и типологические связи: автореф. канд. дис. ... филол. наук. М., 2012. 26 с.
- Матвеенко И. А. Полемика А. В. Дружинина и Н. Г. Чернышевского о творчестве Э. Бульвер-Литтона как отражение литературной ситуации 1850-1860 гг. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. № 3(21), ч. II. С. 130-133.
- Поспелов Г. Н. История русской литературы XIX века (1840-1860 гг.). М.: Высшая школа, 1972. 470 с.
- Проскурнин Б. М. Эстетическое своеобразие западноевропейского реализма после 1848 года // Проскурнин Б. М., Яшенькина Р. Ф. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая проза. М.: Флинта: Наука, 1998. С.225-235.
- Проскурнин Б. М. Человек и власть в романе Чарльза Диккенса «Крошка Доррит» // Филолог.
- 2011. URL: http://philolog.pspu.ru/module/magazi-ne/do/mpub_17_343 (дата обращения: 12.05.2021).
- Проскурнин Б. М. Может ли историк доверять романисту: об историческом романе У. М. Теккерея «История Генри Эсмонда, эсквайра» // Вестник Пермского университета. Сер. «История». 2012. Вып. 2(19). С. 44-53.
- Ратников К. В. Отражение событий Крымской войны 1853-1856 гг. в восприятии русского общества той эпохи // Известия вузов. Уральский регион. 2018. № 2. С. 49-65.
- Скатов Н. Н. А. В. Дружинин - литературный критик. URL: http://druzhinin.lit-info.ru/druzhinin/-kritika/skatov-druzhinin.htm (дата обращения: 12.05.2021)
- Теккерей У. М. Ньюкомы. Жизнеописание одной весьма почтенной семьи, составленное Артуром Пенденнисом, эсквайром / пер. с англ. Р. Померанцевой // Собрание сочинений: в 12 т. М.: Худож. лит., 1978. Т. 8. 494 с. Т. 9. 479 с.
- Тихомиров В. В. Развитие литературно-критического метода Н. Г. Чернышевского // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2009. № 3. С. 157-167.
- Уздеева Т. М. Критические взгляды Н. Г. Чернышевского и А. В. Дружинина // Вестник Чеченского государственного университета. 2015. № 2(18). С. 124-127.
- Чернышевский Н. Г. Очерки гоголевского периода русской литературы. Статьи и рецензии 1856 г. // Полное собрание сочинений: в 15 т. М.: Гослитиздат, 1947. Т. III. С. 5-309.
- Чернышевский Н. Г. Роман Теккерея. Две части. СПб., 1856. URL: http://chernyshevskiy.lit-info.ru/chernyshevskiy/kritika/nyukomy-istoria.htm (дата обращения: 12.05.2021).
- Шевцова Л. И. Жанрово-композиционное и стилистическое своеобразие критических выступлений А. В. Дружинина // Текст: структура, семантика, стилистика: сб. ст. М.: Моск. гос. гума-нит. ун-т им. М. А. Шолохова, 2015. С. 163-173.
- Шепарнева А. И. Крымская война в оценке русского общественного мнения, 1853-1856: дис. ... канд. истор. наук. Орел, 1995. 242 с.
- Ямпольский И. Г. Заметки о Чернышевском (К полемике Н. Г. Чернышевского с А. В. Дружининым) // Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования, материалы: межвуз. науч. сб. / под ред. профессора Е. И. Покусаева. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1978. Т. 8. С. 230-237.
- Cecil D. William Makepeace Thackeray // Early Victorian Novelists. Essays in Revaluation. L.: The Fontana Library 1964. P. 58-88.
- Houghton W. E. The Victorian Frame of Mind, 1830-1870. New Haven; London: Yale University Press, 1985. 467 p.
- Purchase S. Key Concepts in Victorian Culture. London: Palgrave, Macmillan, 2006. 282 p.
- Ray G. The Newcomes // Thackeray. A Collection of Critical Essays / Ed. by A. Welsh. New Jersey: Prentice Hall,1968. P. 147-160.
- Taylor D. J. Introduction // Thackeray W. M. The Newcomes. L.: Everyman, 1994. P. xviii-xxix.
- Thackeray W. M. The Newcomes. Memoirs of a Most Respectable Family / Ed. by A. Pendennis Esq. L.: Everyman, 1994. 801 p.
- The Cambridge Companion to the Victorian Novel / Ed. by Deidre David. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 267 p.