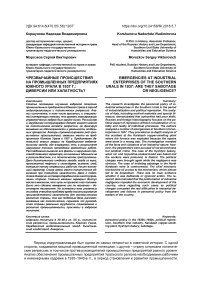Чрезвычайные происшествия на промышленных предприятиях Южного Урала в 1937 г.: диверсии или халатность?
Автор: Коршунова Надежда Владимировна, Морозков Сергей Викторович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению кадровой политики промышленных предприятий Южного Урала в период индустриализации и политических репрессий. Анализ источников, в том числе архивных, и специальной литературы показал, что уровень квалификации управленческих кадров был крайне низок. Российская и зарубежная историография делает акцент именно на политическом аспекте репрессий, не фиксируя внимание на обоснованности и реальности отдельных процессов. Авторы проанализировали ряд чрезвычайных происшествий, имевших место на предприятиях Южного Урала в 1937 г. Представлен детальный анализ аварии на Карабашском медеплавильном заводе, где взорвалась печь в результате нарушения техники проведения ремонтных работ. Расследование выявило все факты и нарушения производственного характера, но виновных обвинили не в разгильдяйстве, а в политическом преступлении. Дело Кыштымского хлебного завода, когда из муки, пропитанной нефтью и скипидаром, выпекли хлеб, которым потом отравились рабочие, носит вопиющий характер. Снова имели место политические обвинения при очевидной халатности. Дело о подготовке диверсии на Северо-Карабашском шахтоуправлении спорное. Главный механик перекрыл доступ масла в механизм, что чуть не привело к его поломке. Было это сделано намеренно или по незнанию - достоверно неизвестно. На основании всех указанных эпизодов очевидна проблема вреда политизирования производственной халатности для экономического развития страны, так как подобные дела, рассматриваемые как политические, скрывали от руководства страны реальные трудности становления и развития промышленности, просчеты в кадровой политике.
Кадровая политика в 30-40-х гг. xx в., политические репрессии, промышленность южного урала, карабашский медеплавильный завод, кыштымский хлебозавод, диверсии
Короткий адрес: https://sciup.org/14941509
IDR: 14941509 | УДК: 94:614.8(470.55/.58)“1937” | DOI: 10.24158/fik.2018.5.7
Текст научной статьи Чрезвычайные происшествия на промышленных предприятиях Южного Урала в 1937 г.: диверсии или халатность?
Период индустриализации был одним из самых непростых в советской истории. С одной стороны, создавался мощный промышленный потенциал, с другой – страну сотрясали политические репрессии, в том числе против руководителей промышленных предприятий разного уровня. Анализ обеспечения промышленных предприятий Уральского региона необходимыми рабочими и инженерными кадрами в 1930–1940-е гг., в период становления и развития промышленности, неизбежно ставит перед исследователями ряд смежных задач. Во всех сферах народного хозяйства в тот период наблюдался острейший кадровый голод, особенно на небольших промышленных предприятиях Южного Урала. Большинство руководителей не имели не только специального образования, но и какого-либо опыта работы в промышленности. Любое производство связано с рисками, которые неимоверно возрастают при отсутствии профессиональных кадров. Как следствие, это приводит к авариям, связанным с человеческим фактором. За любые происшествия к ответственности привлекались прежде всего руководители разного уровня. И здесь встают проблемы обоснованности привлечения к ответственности руководителей предприятий за различные чрезвычайные происшествия на заводах. Можно ли однозначно отнести все дела такого рода к политическим репрессиям или были и иные причины аварий и катастроф?
В историографии вопросы формирования кадров промышленных предприятий и политические репрессии исследовались отдельно. Тема политических репрессий 1930–1940-х гг., в том числе на Урале, получила достаточно широкое освещение в исторической науке, в том числе за рубежом, появились историографические исследования [1]. Отметим здесь и собственно южноуральских авторов, прежде всего Г.В. Форстмана, М.Д. Машина и Н.П. Шмакову, в работах которых проанализирован промышленный потенциал Южного Урала [2]. Особенности политических репрессий в отношении руководителей советской номенклатуры и руководителей промышленных предприятий раскрыты в трудах уральских историков: А.В. Бакунина, О.Ю. Винниченко, В.М. Кириллова, Р.Т. Москвиной, Н.Н. Попова, А.С. Смыкалина, В.С. Терехова, В.Н. Хаустова и ряда других исследователей преимущественно на материале Среднего Урала [3]. Все они в той или иной мере осуждают политические репрессии. Авторы указывают на их политическую направленность, причину видят в борьбе за власть политических элит того времени. На наш взгляд, проблема была гораздо глубже, так как большинство дел связано с реальными производственными авариями.
История сталинизма в целом, политических репрессий в Советском Союзе вызывает большой интерес и среди зарубежных исследователей. Особое внимание в иностранных изданиях уделяется как раз экономическим и демографическим проблемам, связанным с политическими репрессиями, в том числе на региональном уровне [4]. Несмотря на большой объем публикаций, вопросы кадровой политики как часть системы государственного управления в период политических репрессий и, как следствие, вопросы объективности уголовного преследования исследователями фактически не рассматривались. Можно назвать лишь единичные работы [5].
Изучение кадровой политики показывает, что среди руководителей промышленных предприятий Южного Урала было крайне мало профессионалов по части управления и технически грамотных специалистов. Следствием такой ситуации становились регулярные чрезвычайные происшествия на производстве, которые объявлялись политическими, виновников таких аварий называли врагами народа. Большинство случаев, имевших место на предприятиях Южного Урала, тщательно расследовались. Правда, реальные причины происшествий засекречивались, так как их объявление представлялось рискованнее вымысла. Остановимся на нескольких примерах.
-
19 марта 1937 г. на Карабашском медеплавильном заводе произошло чрезвычайное происшествие: на выведенной из работы для ремонта свода отражательной печи от соприкосновения горячего штейна с водой произошел взрыв, от которого пострадали 25 человек. Один из них позже скончался в больнице. Заводу нанесен серьезный ущерб, так как была разрушена печь, а цех остался практически без ремонтной службы. Причем заменить эти рабочие кадры было практически некем [6].
Началось расследование, в ходе которого выяснилось, что приказ о выводе отражательной печи в ремонт начальнику отражательного цеха Александру Степановичу Пенько был отдан главным инженером завода Аветисяном. Поскольку процедура замены свода печи была обычным делом, начальник цеха приступил к стандартным действиям. Однако директор завода Данил Федорович Ковалев своей властью отдал распоряжение о сокращении срока ремонта с положенных 48 часов до 30. Желание быстрее исправить ситуацию понятно, но инженеру с высшим образованием непростительно непонимание необходимости соблюдения всех технических формальностей. Однако приказ отдан, и ремонтные службы приступили к его исполнению.
В связи с сокращением срока перед руководством отражательного цеха возникли две проблемы. Первую удалось решить относительно легко. Ремонтным бригадам даны расценки, строго привязанные ко времени проведения работ. Данное решение позволило начать и закончить ремонт ударными темпами. Однако согласовать технологический процесс с законами физики не получилось. Искусственное ускорение процесса ремонта и привело к серьезной аварии. Непосредственная организация ремонта была поручена старшему мастеру Ивану Никитичу Шу-колюкову. Им была организована подача воды в ванну печи для охлаждения, позже эта работа была перепоручена сменному мастеру Михаилу Семеновичу Печуре. Новинкой данного процесса было то, что вместо одного шланга воду начали подавать из двух. При подаче воды одним шлангом вода в ванной успевала испаряться и равномерно охлаждать остатки штейна, но вода из второго шланга испариться уже не успевала. Так на корке шлака образовался слой воды, сыгравший роковую роль в дальнейшем. Следует сказать, что сменный мастер М.С. Печура, понимая ситуацию, несколько раз прекращал подачу воды, но был вынужден открывать ее снова по распоряжению И.Н. Шуколюкова. Ситуацию понимал и сменный мастер Крюков, работавший с бригадой по обрушению свода. Он дважды игнорировал распоряжение начальника цеха А.С. Пенько об обрушении свода при наличии в печи воды и пара [7].
Свод обрушился. 3,5 т огнеупора проломили корку шлака, и от соприкосновения горячего штейна с водой произошел взрыв, который полностью обрушил свод. 14 т вновь проламывают шлак и происходит второй взрыв, гораздо сильнее первого. Результат – массовые ожоги работников.
Немедленно была создана комиссия от Народного комиссариата тяжелой промышленности, которая пришла к следующим выводам:
-
«1. Отсутствие в графике операции охлаждения печи и времени на нее.
-
2. Отсутствие распределения обязанностей при ремонте между работавшими инженернотехническими работниками и квалифицированной частью рабочих.
-
3. Отсутствие оперативного руководства и контроля работы со стороны нач. цеха Пенько и гл. металлурга завода.
-
4. Чрезмерная поспешность в обрушении свода… при слабом состоянии свода 1-й секции, обрушение которого могло последовать в любое время, независимо от ведущихся работ, при большом количестве штейна и обильной поливке водой.
-
5. Неправильно построенная оплата труда рабочих за обрушение свода.
-
6. Отсутствие какого-либо инструктажа и предупреждения со стороны руководства цеха как рабочих, так и других лиц, несмотря на опасность проводимых работ» [8].
Комиссия своим решением вину за трагедию возложила на директора завода Д.Ф. Ковалева, начальника отражательного цеха А.С. Пенько, И.Н. Шуколюкова и сменного мастера М.С. Печуру. На основании этого заключения прокурор Кыштымского района Вогин запросил обвинение по следующим статьям: Д.Ф. Ковалева – по ст. 58-7 и 182 Уголовного кодекса РСФСР, А.С. Пенько и И.Н. Шуколюкова – по ст. 58-9, 58-11 УК РСФСР, М.С. Печуру – по ст. 58-9 УК РСФСР [9]. Требование привлечь виновных по «политическим статьям» основывалось на выводе следственных органов, что авария является диверсионным актом, организованным по поручению троцкистской группы, который изначально был рассчитан на значительное количество человеческих жертв [10].
Подобный вывод понятен для идеологии тех лет: не могли советские инженеры допустить такую аварию просто по неграмотности или, что еще хуже, по разгильдяйству. В то же время преступление, безусловно, имело место. Тем более в ходе дела выяснилось, что грубое нарушение техники безопасности, неоправданное нарушение сроков привели также к финансовым проблемам.
Еще более неприглядно и трагично дело Кыштымского хлебного завода. 22 ноября 1937 г. Кыштымский хлебозавод без выходного контроля и анализа выпустил в реализацию хлеб из муки 85 %-го помола в количестве 438 кг. Магазины приступили к его реализации, несмотря на несвойственные хлебу запах и горьковатый вкус. Хлеб поступил и в магазин Кыштымского механического завода, через некоторое время его начали сдавать покупатели. Оказалось, что у некоторых рабочих употребление этого продукта вызывало рвоту. К моменту обследования качества хлеба уже реализовали 290 кг [11].
Комиссия, приступив к разбирательству 26 ноября 1937 г., выяснила следующее. Хлеб был выпечен из муки, полученной 6 ноября 1937 г. из пакгауза № 1 станции Кыштым. Мука уже при получении имела сильный запах скипидара и нефти, однако работники хлебозавода не придали этому никакого значения. Мало того, они выпекли из нее 2 300 кг хлеба.
-
26 ноября комиссионным порядком был обследован пакгауз № 1. Обнаружено, что в одной части хранился овес насыпью, а в другой – три бочки скипидара, которые подтекали, вследствие чего пол был пропитан скипидаром. Тут же рядом во всю ширину пакгауза в три ряда был сложен штабель муки.
К расследованию подключилась прокуратура. В рамках проведенных следственных мероприятий установлено, что пакгауз предназначался не для хранения, а только для выдачи грузов. Причем хранение каких-либо жидкостей было запрещено категорически. Однако смотритель товарного двора Ерошкин отдал распоряжение на хранение с сахаром, мукой, овсом скипидара, олифы, смазочного масла, кожсырья и т. д. Вполне ожидаемо, что продукты и мука пропитывались запахом скипидара и становились непригодными к употреблению. Прокурором Уфалейского участка Южно-Уральской железной дороги Лукьяниным гр. Ерошкин арестован, обвинение ему предъявлено по статье 58-7 УК РСФСР. К делу привлекли также иных работников Кыштымского хлебозавода [12].
К сожалению, всех фигурантов дела привлекали к ответственности за диверсию, а не за бесхозяйственность. Разве могли советские работники потравить людей хлебом? Тем более что пока в дело не вмешалась прокуратура, никто не торопился начинать расследование: шум поднялся 22 ноября, а комиссия только 26 ноября обнаружила беспорядок в пакгаузе. Директор пакгауза Ерошкин даже не попытался в преддверии расследования скрыть следы преступления, что говорит о его непонимании важности происходящего. Возможно, этот случай был не первым, просто до таких масштабов не доходило, и директору пакгауза все сходило с рук. В то же время обвинение в антисоветчине опять позволяет закрыть глаза на вопиющую бесхозяйственность.
Чем вызвана эта попытка механика нанести предприятию ущерб? В материалах об этом не говорится, но если отбросить версию троцкистского следа, остается следующее: он или хотел досадить кому-либо, или же просто попался на «вентильную ловушку». Дело в том, что запорная арматура импортных агрегатов всегда выделяется или ярким цветом, или блеском полированного металла. Рука часто машинально тянется к ним, и бывают случаи, когда краны после непроизвольных движений оказываются закрытыми. Подобное случается не часто, но имеет место. Конечно, никаких связей с «другими троцкистами» главного механика Пушкина установлено не было, хотя в деле нет приговора, что указывает на поиск соучастников. Нет информации и об уровне образования главного механика. Вероятнее всего, речь шла снова об ужасающей халатности и элементарной неграмотности. Хотя именно в данном случае мы не можем исключить и подготовку диверсии. Дело не имеет приговора, поэтому не исключено, что им заинтересовались на более высоком уровне, так как здесь можно заподозрить реальное вредительство. Вместе с тем действия рядовых работников говорят об их профессионализме.
Данные дела позволяют взглянуть на ст. 58 УК РСФСР со стороны охраны государством своей собственности и попытки навести порядок в промышленности. Все рассмотренные эпизоды однозначно являлись преступлениями, за которые следовало наказать. Главной проблемой для экономического развития страны стало то, что подобные дела, рассматриваемые как политические, скрывали от руководства СССР реальные трудности становления и развития промышленности, просчеты в кадровой политике. К сожалению, власти негде было взять квалифицированные, профессионально обученные кадры. По всей вероятности, руководители страны считали, что метод кнута, или политических репрессий, являлся единственно возможным методом наведения порядка в организации промышленности на Южном Урале.
Был ли другой способ объяснить многочисленные аварии достаточно понятно для жителей городов, рабочих? Только в 1930 г. состоялся первый выпуск Всероссийской промышленной академии в Москве, а в 1934 г. поставлена задача о переходе ко всеобщему семилетнему образованию. Совершенно очевидно, что на небольших южноуральских заводах не могло быть достаточного количества не то что грамотных инженерных кадров, но и просто образованных работников. Политизация промышленных аварий не решала, а только усугубляла проблему кадров. Незначительный положительный фактор в данном случае состоял лишь в том, что руководители в дальнейшем могли быть более внимательны к соблюдению инструкций и элементарной техники безопасности. Результатом было, несмотря на все ошибки, создание промышленного потенциала страны, который показал свою мощь в период Великой Отечественной войны.
Ссылки:
-
1. Сосновских С.В. Политические репрессии середины 1930-х гг. на Урале в творчестве современных историков // Известия Уральского государственного университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2007. № 52, вып. 22. С. 319–328.
-
2. Форстман Г.В., Машин М.Д. Уральские станкостроители. Историко-биографический очерк. Челябинск, 1985. 175 с. ; Шмакова Н.П. Машиностроительная промышленность Южного Урала в 30-е гг. XX в. // Промышленность Урала в XIX–XX вв. : сб. науч. тр. / под ред. В.П. Чернобровина. М., 2002. C. 208–225.
-
3. Бакунин А.В. История советского тоталитаризма : в 2 кн. Кн. 2. Апогей. Екатеринбург, 1997. 224 с. ; Винниченко О.Ю. Номенклатура и репрессии 30-х гг. (на материале местных Советов Урала) // История репрессий на Урале в годы советской власти. Екатеринбург, 1994 ; Кириллов В.М. История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала, 1920 – начало 1950-х гг. : в 2 ч. Нижний Тагил, 1996 ; Москвина Р.Т. Репрессии как неотъемлемый элемент сталинской тоталитарной политической системы // История репрессий на Урале в годы советской власти ; Попов Н.Н. Сталинские репрессии на Урале во второй половине 30-х гг. // Там же ; Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997 ; Терехов В.С. Политические репрессии инженерно-технической интеллигенции Урала в 1930-е гг. // История репрессий на Урале: идеология, политика, практика. 1917–1980-е гг. Нижний Тагил, 1997 ; Хаустов В.Н. Репрессии второй половины 30-х гг. // История репрессий на Урале в годы советской власти ; и др.
-
4. Kuromiya H. Stalin and His Era // Historical Journal. 2007. Vol. 50, no. 3. P. 711–724.
-
5. Номоконов А.С. Сталинские репрессии: мифы и реальность // История органов внутренних дел : сб. науч. ст. Иркутск, 2016. С. 114–124.
-
6. ОГАЧО (Объед. гос. арх. Челяб. обл.). Ф. 211. Оп. 1. Д. 755. Л. 56.
-
7. Там же. Л.57.
-
8. Тамже.
-
9. Уголовный кодекс РСФСР // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.
-
10. ОГАЧО. Ф. 211. Оп. 1. Д. 755. Л. 54–55.
-
11. Там же. Л.84.
-
12. Там же. Л.85.
-
13. Там же. Л.86.
Список литературы Чрезвычайные происшествия на промышленных предприятиях Южного Урала в 1937 г.: диверсии или халатность?
- Сосновских С.В. Политические репрессии середины 1930-х гг. на Урале в творчестве современных историков//Известия Уральского государственного университета. Сер. 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2007. № 52, вып. 22. С. 319-328.
- Форстман Г.В., Машин М.Д. Уральские станкостроители. Историко-биографический очерк. Челябинск, 1985. 175 с.
- Шмакова Н.П. Машиностроительная промышленность Южного Урала в 30-е гг. XX в.//Промышленность Урала в XIX-XX вв.: сб. науч. тр./под ред. В.П. Чернобровина. М., 2002. C. 208-225.
- Бакунин А.В. История советского тоталитаризма: в 2 кн. Кн. 2. Апогей. Екатеринбург, 1997. 224 с.
- Винниченко О.Ю. Номенклатура и репрессии 30-х гг. (на материале местных Советов Урала)//История репрессий на Урале в годы советской власти. Екатеринбург, 1994.
- Кириллов В.М. История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала, 1920 -начало 1950-х гг.: в 2 ч. Нижний Тагил, 1996.
- Москвина Р.Т. Репрессии как неотъемлемый элемент сталинской тоталитарной политической системы//История репрессий на Урале в годы советской власти. Екатеринбург, 1994.
- Попов Н.Н. Сталинские репрессии на Урале во второй половине 30-х гг.//История репрессий на Урале в годы советской власти. Екатеринбург, 1994.
- Смыкалин А.С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997.
- Терехов В.С. Политические репрессии инженерно-технической интеллигенции Урала в 1930-е гг.//История репрессий на Урале: идеология, политика, практика. 1917-1980-е гг. Нижний Тагил, 1997.
- Хаустов В.Н. Репрессии второй половины 30-х гг.//История репрессий на Урале в годы советской власти. История репрессий на Урале в годы советской власти. Екатеринбург, 1994.
- Kuromiya H. Stalin and His Era//Historical Journal. 2007. Vol. 50, no. 3. P. 711-724. https://doi.org/10.1017/S0018246X07006322.
- Номоконов А.С. Сталинские репрессии: мифы и реальность//История органов внутренних дел: сб. науч. ст. Иркутск, 2016. С. 114-124.
- ОГАЧО (Объед. гос. арх. Челяб. обл.). Ф. 211. Оп. 1. Д. 755. Л. 56.
- Уголовный кодекс РСФСР//Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600.
- ОГАЧО. Ф. 211. Оп. 1. Д. 755. Л. 54-55.