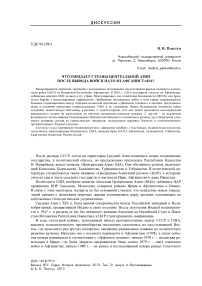Что ожидает страны Центральной Азии после вывода войск НАТО из Афганистана?
Автор: Пластун Владимир Никитович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 4 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема, связанная с возможными негативными последствиями вывода основного контин-гента войск НАТО из Исламской Республики Афганистан. В 2001 г. США возглавили «поход» на Афганистан, добившись мандата ООН на ввод в эту страну Международных сил содействия безопасности (МССБ) под пред-логом борьбы с международным терроризмом. Пребывание иностранных войск в этой стране сопровождается боевыми столкновениями между отрядами исламской оппозиции («Движение талибан») и частями, представлен-ными в основном воинскими подразделениями США и их союзников. Вывод большинства натовских войск осложняет политическую обстановку в регионе. С одной стороны, этот шаг может вдохновить последователей радикального ислама на наступление на светские центрально-азиатские режимы. С другой – не исключена возможность использования Соединенными Штатами нестабильного положения в регионе для утверждения здесь своего контроля, исходя из стратегических интересов: эксплуатации сырьевых богатств и геополитического противостояния с Россией и Китаем.
Центрально-азиатский регион, "движение талибан", "аль-каида", исламистская идео логия, геополитика, международная безопасность, сша, военные базы, нато, афганистан, таджикистан, узбекистан, кыргызстан, казахстан, Россия, китай
Короткий адрес: https://sciup.org/147218805
IDR: 147218805 | УДК: 94
Текст научной статьи Что ожидает страны Центральной Азии после вывода войск НАТО из Афганистана?
После распада СССР, когда на территории Средней Азии появились новые независимые государства, в политический обиход, по предложению президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, вошло понятие «Центральная Азия» (ЦА). Оно обозначило регион, включающий Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В политической литературе употребляется также название «Центрально-Азиатский регион» (ЦАР), к которому относят еще и часть соседних государств, в частности Иран, Афганистан и даже Пакистан.
Политологи США изобрели понятие «Большая Центральная Азия» (БЦА), добавив к ЦАР провинцию КНР Синьцзян, Монголию, северные районы Ирана и Афганистана и Кавказ. В связи с этим некоторые эксперты не без оснований считают, что появление новых определений связано с попытками мировых держав смонтировать карту региона, основываясь на собственных геополитических устремлениях.
Средняя Азия с XIX в. была ареной соперничества между Российской империей и Великобританией, превратившей Индию в свою колонию. После получения Индией независимости в 1947 г. и раздела ее (не без активного влияния Лондона) на Индийский Союз и Пакистан (Исламская Республика Пакистан), в ЦАР стали проникать американцы.
В ходе «холодной войны», положившей начало противостоянию между СССР и США, акценты геополитического противоборства постепенно сместились на мусульманский Восток, где произошел ряд крутых поворотов, оказавших радикальное влияние на политическое развитие региона. Началось все с военного переворота в Афганистане (1978), а затем события начали развиваться в соответствии с «эффектом домино»: начало 1979 г. – исламская революция в Иране, где были закрыты американские базы; конец 1979 г. – ввод советских войск в Афганистан; начало 1989 г. – их вывод и последовавший вскоре развал Советского
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 4: Востоковедение © В. Н. Пластун, 2013
Союза; 1992–1996 гг. – гражданская война в Афганистане и захват власти в Кабуле «Движением талибан» (ДТ); сентябрь 2001 г. – бомбардировка территории США «исламскими террористами»; октябрь 2001 г. – вторжение в Афганистан натовских войск под предлогом «борьбы с терроризмом» и вооруженных отрядов ДТ.
Пребывание НАТО в этой стране (вплоть до сегодняшнего дня) было оформлено мандатом Совета Безопасности ООН на присутствие воинского контингента Международных сил содействия безопасности (МССБ).
В итоге в регионе сложилась следующая картина. Войска МССБ (фактически – НАТО во главе с США) продолжают боевые действия против отрядов ДТ, требующих немедленного вывода иностранных войск из Афганистана (Исламская Республика Афганистан – ИРА). В Вашингтоне, кажется, осознали бесперспективность «антитеррористической» войны, продолжающейся уже более десяти лет, и приняли решение о «частичном» выводе своих войск. Однако геополитические интересы, а именно стремление контролировать богатый энергоресурсами регион ЦА, подталкивают американцев к новому шагу, который можно назвать «уходить, оставаясь».
3 мая 2012 г. в Кабуле состоялась встреча президента США Б. Обамы с президентом ИРА Х. Карзаем, в ходе которой сторонами было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве. Обосновывая необходимость подписания документа, Б. Обама заявил: «Мы переломили наступление талибов. Мы разгромили руководство “Аль-Каиды”, уничтожив 20 из 30 их лидеров. Год назад из этой базы в Афганистане наши войска провели операцию, в ходе которой был ликвидирован Усама бен Ладен. Поставленная мной цель – разгром “АльКаиды” и недопущение ее восстановления – близка».
Соглашением предусматривается вывод большей части войск НАТО в 2014 г. и передача ответственности за обеспечение безопасности страны афганским властям. Однако США получают право сохранить свое присутствие в Афганистане после запланированного вывода войск международных сил еще на 10 лет. Практически это значит, что американцы не уйдут, а продолжат борьбу с «террористами» и после 2014 г. 1
США собираются вывозить свое «военное снаряжение» по Северному (через территории государств – членов СНГ) и Южному маршрутам (через Пакистан). Одновременно они предполагают оставить часть своего вооружения в среднеазиатских государствах и ведут с ними переговоры о возможностях, скажем так, не полного и быстрого выхода, а растянутого во времени и пространстве, не называя точные даты.
Напомним, что речь идет о регионе, населенном преимущественно мусульманами, не испытывающими, мягко говоря, симпатии к чужеземцам, которые и ранее приходили без приглашения, и в настоящее время находятся на их территории. Местные власти без особого энтузиазма относятся к предложениям помощи в «борьбе против терроризма», полагая, с одной стороны, что со своими террористами они в состоянии справиться своими силами, с другой – опасаясь того, что появление чужеземных войск будет способствовать усилению экстремистских настроений.
В странах ЦА возникновение и распространение радикальных тенденций вызывается как внешними, так и внутренними причинами, тесно связанными и переплетенными. Эксперты, участвовавшие 20 августа 2012 г. в г. Алматы (Казахстан) в дискуссии на тему «Центральная Азия 2020: взгляд изнутри», основными внутренними причинами нарастания волны экстремистских выступлений, считают «социальную нестабильность и серьезные межэтнические, политические проблемы» 2.
Так, в Таджикистане и Кыргызстане периодически возникают очаги дестабилизации, порождаемой конфликтами интересов между центром и местной оппозицией, подстрекаемой исламистами. Эти «политические противоречия» нередко выливаются в вооруженные столкновения и на деле оказываются «разборками» между главарями местных контрабандистов и коррумпированными представителями государственных структур.
Представитель Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте прямо заявил, что «сохранение Афганистана в качестве основной базы подготовки террористов имеет своей целью дестабилизацию ситуации в Средней Азии и свержение политических режимов» 3. Он же отметил, что опасность представляют «этнические террористические организации на севере Афганистана, которые имеют тесные контакты с террористическим подпольем в государствах Средней Азии».
Психологической подпиткой усиления экстремистских настроений в регионе нередко называют активизацию радикального ислама на Ближнем и Среднем Востоке. Дело, по всей видимости, не только и не столько в негативном влиянии событий «арабской весны», проявившихся в Тунисе, Ливии, Египте, Сирии. В отношении ситуации в ЦА первопричины следовало бы искать в социальной сфере и проблемах экономического развития. Европейцы зачастую игнорируют менталитет азиатского общества . Об этом говорили и писали (в том числе и в России) очень много, но, к сожалению, теми, кому предназначалось, не было услышано, прочитано и осознано.
Обратим внимание на выводы востоковеда, генерала Л. В. Шебаршина, скончавшегося в марте 2012 г. В своей книге «Рука Москвы» он напоминал: «Мир суров. В азиатской отсталой стране (термин “развивающаяся страна” был изобретен вежливыми международными дипломатами) действительность жестока, грубое насилие пронизывает всю ткань общественных отношений, полное равнодушие к судьбе соотечественника (неимущего соотечественника) является нормой жизни. Индустриализация, перекачивание разоренного населения в города разрушают традиционные, сохранившие какие-то крохи гуманности, отношения между людьми» [Шебаршин, 2012. С. 33]. Это – из впечатлений Л. В. Шебаршина о пребывании в Пакистане.
Об иранцах: «Персы – шииты, им изначально присуща вера в жестокость мира, в неизбежность страданий и убежденность в конечном радостном торжестве справедливости. История учила персов приспосабливаться, хитрить, выживать под гнетом сильного противника, терпеть, философствовать, ждать своего часа, зная, что он может никогда не наступить» [Там же. С. 163–164].
И, наконец, Афганистан: «Афганцы доброжелательны, радушны, гостеприимны, но они могут быть коварными и безжалостными. Горе тому, кто это забывает» [Там же. С. 225]. А ведь забыли!
Эксперты предупреждают об осложнениях, которые могут возникнуть как в результате вывода натовских войск из Афганистана к 2014 г., так и президентских выборов в Казахстане и Узбекистане 4. Тревогу вызывает усиливающаяся напряженность в противостоянии между светскими режимами в странах ЦА и их исламистской оппозицией.
Директор КИСИ Б. Султанов перечисляет три фактора, вызывающие его озабоченность 5:
-
• усиление в ЦА радикальных исламских течений, оказывающих давление на светские режимы;
-
• «все более усиливающееся стремление Китая продолжить продвижение на рынки стран ЕС, Ближнего и Среднего Востока через Среднюю Азию»;
-
• вызванное этими шагами «противодействие со стороны США и их союзников по НАТО».
Средняя Азия, считает он, превращается в зону транзита и распространения «терроризма, религиозного экстремизма и наркотрафика, который надвигается на наш регион извне, из Афганистана».
Что касается наркотрафика, то в него, действительно, вовлечена значительная часть афганской и местной среднеазиатской «элиты». Известный специалист по Афганистану В. Кор- гун высказывает мнение 6, что «трансграничная связь между талибами, “Аль-Каидой” и “джихадистами” Центральной Азии подпитывается афганским наркотрафиком». В последние годы на мировых рынках опиатов предложение намного превысило спрос, который составляет 4 тыс. т. В производство наркотиков в Афганистане вовлечено 3,3 млн человек, или 14,3 % населения. Стоимость нелегального наркоэкспорта достигает 3,4 млрд долл., т. е. одну треть афганского валового продукта (11,5 млрд долл.).
Наркотики переправляются за рубеж в основном по трем маршрутам: в Иран и далее в Европу (34 %); в Пакистан и далее в Индию и Европу (около 40 %); в ЦА и далее в Россию и Европу (21 %). По данным НАТО, приведенным В. Коргуном, от 40–60 % доходов ДТ образуется за счет наркотиков.
Наркобизнес питает радикальные и террористические организации в ЦА, создаваемые и функционирующие на средства и при содействии коррумпированных элементов из высших эшелонов власти («элиты»). Кровнородственные связи определяют формирование совместного бизнеса, развитие которого невозможно без контактов с зарубежными партнерами. Не секрет, что в некоторых странах региона интересы «элиты» часто подменяют интересы государства. Такое наблюдается и в России. В США и на Западе тщательно и внимательно отслеживают такие процессы, принимая соответствующие шаги по «вербовке» сторонников именно на основе общих бизнес-интересов. На этом фоне заметно, что в отличие от США ни Китай, ни Россия не проводят систематическую работу с интеллектуальной и политической элитой региона.
Угрозу безопасности стран ЦА представляют также перманентные вспышки межстрановых конфликтов из-за нерешенности вопросов распределения водных ресурсов и из-за этнических противоречий.
Слабость государственных и общественных институтов в странах ЦА, отмечают эксперты, способствует «повышению уровня религиозности в регионе» и политизации ислама. Радикальные исламские организации частично используют традиционную религиозную идеологию, которая возрождается в сельских районах, где «у населения низкий уровень религиозных знаний и отсутствует иммунитет к фанатизму». Лидеры исламистов к тому же пользуются международной финансовой и, возможно, военной поддержкой 7.
Стабильность власти определяется ее способностью бороться с такими социальными болезнями, как углубляющаяся материальная дифференциация, бедность, коррупция и др. Столкнувшись с пренебрежительным отношением к их элементарным нуждам со стороны официальных лиц, люди обращаются к духовным религиозным авторитетам. Там, где государственным и общественным институтам не удается использовать влияние религии в интересах народа, радикальный ислам начинает постепенно приобретать значение мощной политической силы. Исламские авторитеты разрабатывают пути к созданию структуры, альтернативной светскому государственному строю. Лидеры оппозиционных экстремистских групп уже давно выдвигали идею создания на территории Ферганы «исламского халифата». Социальная и этническая напряженность в регионе вкупе с предстоящим выводом натовских войск из Афганистана способствует созданию условий для дестабилизации ситуации.
По мнению полковника Военного колледжа Армии США Т. Донелли, после вывода натовских войск из Афганистана в 2014 г. Ферганская долина «станет прибежищем, инкубатором и плацдармом для вооруженных экстремистских группировок и боевиков». Они будут использовать эту территорию и «свои новые тыловые районы в Афганистане для наращивания давления со стороны исламистских мятежников на светские правительства стран Центральной Азии» 8.
Усилия исламистов по созданию «халифата» на территории ЦА облегчаются также притоком афганских мусульман – беженцев и нелегальных мигрантов, прибывающих в средне- азиатские страны из охваченного войной Афганистана. Поскольку принявшее их государство не всегда в состоянии оказать им помощь, прибывающие вместе с беженцами эмиссары экстремистских организаций включаются в антиправительственную пропагандистскую кампанию, провоцируя молодежь на насильственные действия.
Казахстанский политолог Е. Карин замечает, что «главная проблема – в социальных факторах, в причинах, которые препятствуют социализации этих молодых людей в обществе». Молодежь особенно остро реагирует на несправедливость, коррупцию, безысходность. «На ТВ какой ролик ни посмотришь, – говорит Е. Карин, – там яхты, дорогие “тачки”, пальмы и фазенды! Но все это не для них. И они создают для себя другую реальность, находят единомышленников и идут искать справедливость» 9.
Современные исламисты тоже пропагандируют идеи справедливости и равенства, предлагая не ждать милостей от проворовавшихся государственных чиновников, а полагаться на волю Всевышнего и насилие. Таким образом, если правительства будут игнорировать новые вызовы, то регион обязательно ожидает «арабская весна».
Американские войска и их союзники вряд ли покинут в полном составе регион в ближайшей перспективе. Афганистан, в котором они «обжились», является идеальным плацдармом для контроля за ситуацией. Академик Е. Примаков еще в 2002 г. предупреждал: «Даже одна вероятность сохранения на длительный срок баз США в Центральной Азии создает трудности для России, так как ослабляет тенденцию к большей включенности государств в интеграционные процессы в рамках СНГ. Расшатывается и Договор о коллективной безопасности стран Содружества» [2002. С. 115].
США имеют серьезные бизнес-интересы в Афганистане, обладающем огромными запасами урана, золота, ртути, железа, которые Пентагон оценивает в 1 трлн долл. 10 На американских сотрудников частных военных и разведывательных компаний, работающих в этой стране, кроме «крышевания» наркопроизводителей, возлагается ответственность за сохранность стратегически важных для США объектов. Эти лица устанавливают деловые контакты с местными бизнесменами и силовыми структурами, которые в свою очередь неизбежно связаны с полевыми командирами, наркомафией, криминальными группировками и талибами. Слово «неизбежно» употреблено здесь для напоминания о том, что для афганца приоритетом является не политическая ориентация, а родоплеменная принадлежность. Последний фактор играет важнейшую роль в установлении связей между исламистскими организациями на территории региона, где проживают их соплеменники.
Об угрозе дестабилизации положения в странах региона после ухода НАТО из Афганистана говорят многие эксперты 11, напоминая, что сами центрально-азиатские государства вряд ли могут справиться с этой задачей. Гарантом безопасности могла бы стать Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В результате нелегких переговоров между правительствами России, Кыргызстана и Таджикистана была достигнута договоренность о том, что наши базы остаются в Кыргызстане еще на 15 лет, в Таджикистане – до 2042 г. Узбекистан хотя и принял решение о запрете на размещение иностранных военных баз на своей территории, но временно приостановил свое членство в ОДКБ.
По последним сообщениям СМИ, Министерство обороны США намерено, «уходя», оставить в Афганистане 25 тыс. военнослужащих, которые «не будут принимать участия в боевых операциях, ограничившись обучением афганских военных» 12.
США вряд ли удастся «выдавить» из ЦА своих геополитических соперников, но им важнее «остаться в регионе как на плацдарме против Ирана, России и Китая» 13.
CENTRAL ASIA COUNTRES’ FUTURE AFTER NATO’S FORCES WITH DRAWAL FROM AFGHANISTAN
Список литературы Что ожидает страны Центральной Азии после вывода войск НАТО из Афганистана?
- Примаков Е. М. Мир после 11 сентября. М.: Мысль, 2002. 190 с
- Шебаршин Л. В. Рука Москвы. Разведка от расцвета до развала. М.: Алгоритм, 2012. 336 с