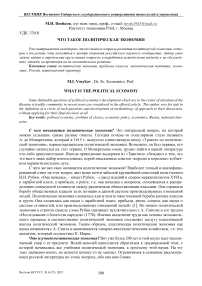Что такое политическая экономия
Автор: Воейков М.И.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 6 (57), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются некоторые дискуссионные вопросы развития политической экономии, которые в последние годы находятся в центре внимания российского научного сообщества. Автор свою задачу видит в определении круга таких вопросов и выработки методологии подхода к их обсуждению, отнюдь не претендуя на их окончательное решение.
Политическая экономия, проблема классов, экономическая политика, экономикс, Россия, национальный характер
Короткий адрес: https://sciup.org/142143123
IDR: 142143123 | УДК: 330.8
Текст научной статьи Что такое политическая экономия
С чего же все-таки начинается политическая экономия? Наиболее точный и квалифицированный ответ на этот вопрос дает ныне почти забытый крупнейший советский политэконом И.И. Рубин. «Она началась, ‒ пишет Рубин, ‒ с рассуждений и споров меркантилистов ХVII в. о заработной плате, о прибыли, о ренте, т.е. она началась с вопросов, относящихся к распределению совокупной стоимости между различными общественными классами. Она отражала борьбу общественных классов за их позиции в данной системе производственных отношений людей. Политическая экономия сложилась в результате ожесточенной борьбы разных классов и групп. Она сложилась как наука о заработной плате, прибыли, ренте, словом, как наука о системе стоимостей, или производственных отношений людей» [1]. Но начало политической экономии в строгом смысле слова Рубин связывает исключительно с А. Смитом и его трудом «Исследование о богатстве народов» (1776). Именно выделение труда как основы экономического процесса и соответственно политической экономии составляет заслугу классической школы политической экономии. Таким образом, классическая политическая экономия как наука начинается с А. Смита и заканчивается товарно-капиталистическим хозяйством, т.е. тем анализом, который осуществил К. Маркс.
Что изучает политическая экономия? Вот уже более 200 лет в этой науке идет нескончаемый спор о ее предмете. Волей-неволей приходится обратиться к традиционной теме, с которой начинались все учебники политической экономии, к предмету этой науки. На эту тему написано много, но ясности почему-то не хватает. Ограничимся в основном рассмотрением русской литературы по этому вопросу, ибо она нам ближе.
Если обратиться к старым русским политэкономам, то можно обнаружить в их работах достаточно конкретные определения политической экономии. Так, М.И. Туган-Барановский пишет: «Изучая отношения хозяйства, политическая экономия вторгается в сферу хозяйственных интересов, являющихся, при господствующих условиях общественной жизни, наиболее мощными и доминирующими интересами современности. Но при наличности глубокого и неустранимого антагонизма хозяйственных интересов, характерного для существующего строя хозяйства, выводы политической экономии не могут не вступать в столкновение с хозяйственными интересами тех или иных групп населения» [2]. Очень близка к этому позиция И.И. Ян-жула, утверждавшего, что в политической экономии следует «искать ответов и разъяснений на ... вопрос о пользе или вреде покровительственных пошлин, о причинах, которыми вызвано их существование» [3]. Таким образом, политическая экономия изучает то, что связано с экономическими интересами определенных групп, слоев и классов людей. Из старых экономистов очень точно это выразил Д. Рикардо. В письме к Т. Мальтусу 9 октября 1820 г. он писал: «По вашему мнению, политическая экономия есть исследование о природе и причинах богатства; я думаю, что ее следует скорее назвать исследованием о законах, на основе которых продукт труда распределяется между классами, участвующими в его создании» [4].
И действительно, если политическая экономия изучает отношения между людьми в производстве, т.е. производственные отношения, то изучение это идет вокруг вопроса о «пользе или вреде» той или иной экономической ситуации для определенных больших групп людей. Политическая экономия не может изучать поведение отдельного человека, индивидуума, поскольку их бесконечное разнообразие в конкретной практике не есть научное изучение. Научно изучать экономическое поведение людей можно, лишь абстрагируясь от многих личностных характеристик и объединяя этих людей в большие социальные группы, в классы. Социальная проблема, т.е. проблема социального неравенства людей, проблема распределения социального продукта остается; противоречия между трудом и капиталом, если и не принимают взаимоуничтожающих форм, все же остаются. Причем эти проблемы остаются как основные проблемы общественной жизни. Остаются, следовательно, и функции политической экономии. Политэкономический подход к анализу социальных явлений по сути своей есть осмысливание и объяснение определенных экономических явлений и процессов с точки зрения интересов народа, отдельных его слоев и классов. Именно это дает понимание объективных закономерностей экономического и социального развития общества.
Исчезновение или угасание политической экономии как «общетеоретической дисциплины и науки» в развитых странах Запада, возможно, есть свидетельство снижения напряженности социального противостояния, демократизации форм классовой борьбы, исчезновения самих классов и, наконец, страшно выговорить, угасания рыночной экономики. Возможно, рынок и собирается в текущем столетии угаснуть, но пока еще нигде не угас. А Россия, напротив, уже который год бодро осваивает рыночные премудрости. Так что для России вопрос о судьбе политической экономии стоит особо.
Таким образом, политическая экономия есть по сути дела экономическая идеология наиболее прогрессивного класса в классовом обществе, т.е. в обществе, которое осваивает товарное производство и рыночный механизм. Когда-то таким классом была буржуазия, и политическая экономия была идеологическим обоснованием и прикрытием ее борьбы за господствующее положение в обществе. Когда такое господство было достигнуто полностью в начале XX в. (если брать христианский мир, то окончательно феодальные отношения в нем были сломлены только в 1917 г. в России), то политическая экономия как таковая перестала развиваться, но окончательно не утратилась. В ее поле зрения оказались не проблемы развития рыночных отношений и товарного производства, а наоборот, проблемы государственного регулирования рынка, его ограничений, «провалы рынка». Класс, который оказался заинтересованным в этих проблемах, – не столько рабочий класс, сколько вообще трудящиеся или, точнее, средние слои современного общества. Политические их интересы состоят не столько в поддержании рыночного равновесия и рыночного саморегулирования (хотя в какой-то части это тоже их интересы), сколько в укреплении государства и государственной или общественной поддержки таких нерыночных сфер, как культура, образование, наука, здравоохранение и др.
Политическая экономия и буржуазное общество. Тем не менее мало кто из специалистов будет возражать против утверждения, что политическая экономия ‒ возможно, та единственная наука, которая дает понимание глубинных основ общества, в котором живешь, своей гражданской позиции, динамики общественного развития. Отмена политической экономии как научной и вузовской дисциплины, что произошло в России в начале 1990-х гг., очень выгодна тому правящему классу, который хочет навязать свою правоту всему остальному населению как раз в тот момент, когда этот класс переходит к развертыванию именно товарнокапиталистических отношений. А без политэкономического знания население неспособно понимать ни экономического устройства общества, ни активно принимать участие в его совершенствовании. Об этом еще в самом начале ХIХ в. писал Ж.-Б. Сэй: «В стране, пользующейся представительным правлением, каждый гражданин обязан изучать политическую экономию уже потому, что там каждый призван к участию в обсуждении государственных дел» [5]. Так, по Ж-Б. Сэю, каждый гражданин обязан изучать политическую экономию, если хочет быть активным участником гражданского общества. То есть гражданское общество и политическая экономия органически связаны. Политическая экономия, таким образом, объясняет классовое состояние общества и классовое распределение социального продукта. И в этом случае замена политической экономии неоклассической либеральной экономической теорией очень удобна, ибо последняя социальную проблему представляет как индивидуализированную проблему отдельных людей, которые озабочены лишь «максимизацией полезности» приобретаемых благ. Вместо классов и социальных слоев в центре экономической науки оказывается методологический индивидуализм. Но сколько бы ни говорили о том, что классовое расслоение общества и классовая борьба уходят в прошлое, все же сами классы и классовая борьба в реальности остаются. И Россия в этом смысле превращается в обычное капиталистическое общество, даже более отсталое и дикое, раздираемое именно и прежде всего классовым противостоянием. Вот это классовое общество и есть предмет исследования политической экономии.
Политическая экономия изучает общественное производство и отношения, которые при этом возникают, как отношения не атомизированных индивидуумов, а объединенных в большие социальные группы, т.е. в классы. Политическая экономия есть, таким образом, наука о классовом обществе. Исчезновение классов должно неминуемо вести и к исчезновению политической экономии. Поэтому политэкономический метод изучения общества состоит в классовом анализе этого общества. Метод политической экономии – это не только восхождение от абстрактного к конкретному, диалектика и т.п., но прежде всего классовый анализ общества. В свое время в буржуазном или капиталистическом обществе имелись два основных класса: рабочие и капиталисты. Имелись, конечно, и другие классы и слои. Но по мере развития современного буржуазного общества его социальная структура усложняется, численно рабочий класс сокращается. Основным классом становится средний класс. Это противоречит старой марксистской догме, что в конечном счете в капиталистическом обществе останутся только два класса. Впрочем, эта догма в самой же марксистской литературе была преодолена уже в конце ХIХ – начале ХХ в.
Сегодня политическую экономию в России отменили. В ХХ в. это делали дважды: в 1920-е гг., когда намечался переход к социализму, и в 1990-е гг., когда наметился переход к капитализму. Странная аналогия. Оказывается, гонения на политическую экономию ‒ это давняя российская традиция. «Самодержавие и политическая экономия, как она сложилась на Западе и развивалась в России, ‒ пишет А.В. Аникин, ‒ были по существу несовместимы. Политическая экономия и занятия ею были обычно под подозрением у властей… Время от времени отменялось или ограничивалось преподавание политической экономии в университетах, запрещались отечественные и иностранные труды в этой области» [6]. Удивительным образом все повторяется и сегодня.
Итак, политическая экономия сегодня в России каким-то непонятным образом заняла место генетики сталинских времен, т.е. стала если не запрещенной, то явно гонимой наукой.
Ее исключили из наших университетов, из учебников, из государственных стандартов. Но если генетика в те незабвенные годы объявлялась буржуазной наукой, то сегодняшние российские власти, видимо, считают политическую экономию «социалистической наукой», не подходящей для нынешней буржуазной России. В истории многое повторяется, только с другим знаком. Если по поводу генетики трудно (или невозможно) определить ее отношение к пролетариату, то политическая экономия ‒ действительно буржуазная наука. Словосочетание «пролетарская политическая экономия» остается пустой красивой фразой. Маркс был критиком буржуазной политической экономии, но никакой пролетарской политэкономии он не создал и не собирался это делать. Все традиционные категории классической политической экономии принадлежат буржуазному способу производства и никакого отношения не имеют к тому, что было до него и, возможно, будет после него. Кредит, процент, рента, капитал и т.п. категории, которые анализировал К. Маркс и которые как кирпичи составляют здание политической экономии, никакого отношения не имеют к пролетариату. Не может же быть «пролетарского кредита» или «пролетарского процента». Эти и подобные вещи есть категории буржуазного общества. Это не значит, что они плохие или хорошие, но они есть и составляют предмет научного изучения. Перефразируя Р. Гильфердинга, можно сказать, что политическая экономия есть самосознание буржуазной эпохи. Такая интерпретация политической экономии в 1920-х гг. была широко распространена среди марксистских интеллектуалов. Поэтому можно понять первых большевиков, которые в 1920-е гг. отменили в Советской России политическую экономию. Но как понимать нынешние российские власти?
Приведем еще одно важное положение Р. Люксембург: «Политическая экономия возникает как одно из важнейших идеологических орудий буржуазии в борьбе против средневекового феодального государства за современное капиталистическое классовое государство» [7]. Добавим сюда и такой факт. Оказывается, русские декабристы с увлечением изучали политическую экономию, труды физиократов и особенно А. Смита. Здесь напрашивается аналогия с современным Российским государством, которое отменило (или запретило?) преподавание политической экономии в наших вузах. Создается впечатление, что оно боится российской буржуазии, которая может использовать политэкономию как «важнейшее идеологическое орудие» против феодального государства? Так что, Россия под лозунгами модернизации и инновации строит средневековое государство? Вот какие ассоциации вызывает неторопливое чтение политэкономических текстов. Наверное, действительно, политическая экономия – опасная наука.
Сегодня российское общество опять является буржуазным, капиталистическим обществом. Значит, должно сохраняться противостояние классов. В России в силу ее специфики и особенностей исторического развития в настоящее время наиболее активными классами (или слоями) общества являются: а) владельцы крупных капиталов («олигархи»); б) бюрократический класс; в) трудящиеся классы. И именно социальный конфликт (или социальная проблема) между этими классами как основной конфликт в распределении социального продукта и должен быть предметом изучения политической экономии. Если такого конфликта нет, то, следовательно, и политической экономии изучать нечего. Но в сегодняшней России социальные проблемы, т.е. проблемы социального и экономического неравенства людей, проблема распределения социального продукта остаются; противоречия между трудом и капиталом, если и не принимают взаимоуничтожающих форм, все же остаются. Причем эти проблемы остаются как основные проблемы общественной жизни. Так, экономическое неравенство в стране за последние 25 лет приобрело угрожающие размеры. Остаются, следовательно, и функции политической экономии. На эту функцию политической экономии еще в начале ХХ в. указал С.Н. Булгаков: «Социальный вопрос – вот главная и даже единственная проблема, определяющая все содержание политической экономии, ее нравственный центр» [8]. И классовый конфликт в современной России есть. И в декабре 2011 – марте 2012 г. он вылился на улицы крупных городов в виде массовых митингов, организуемых по четкому классовому признаку. Это означает, что политической экономии есть что изучать в современной буржуазной России.
Политэкономическое исследование – это не только и даже не столько сугубо экономическое исследование материального процесса. Последним занимаются конкретные экономические дисциплины:
– или отраслевого разреза: экономика промышленности, экономика транспорта, экономика туризма, экономика строительства и т. п.;
‒ или народнохозяйственного: финансы и кредит, денежное обращение, экономическое планирование, размещение производительных сил и т.п. Этим, наконец, призван заниматься «economics». Политическая экономия изучает преимущественно идеологию этого процесса, т.е. что и как отражается в головах и поведении людей в связи с их отношениями по производству вещей. Ведь производственные отношения проявляются в человеческом поведении, а осмысление этого процесса ‒ в головах. За производством вещей политэкономия видит людей и объясняет их действия. Таким образом, политическая экономия состоит из различных концепций и воззрений, которые интерпретируют живую материю экономического процесса и служат основой для формирования той или иной экономической политики. В конце концов, политическая экономия – это идеологическая и политическая наука.
Конечно, это не означает, что политическая экономия должна отражать или выражать только идеологию «марксизма-ленинизма», как, видимо, думают ее гонители. Идеологий, в том числе экономических, множество. Наука, которая отражает (точнее, формирует) экономическую идеологию буржуазного общества, ее разрабатывает, развивает, и носит название политической экономии. Если выхолостить из политической экономии идеологические и политические сюжеты, по необходимости все сведется к «economics» или каким-либо отраслевым наукам. Например, к менеджменту или маркетингу и т.п. Это, собственно говоря, и происходит в западной (англоязычной) литературе, где политические и идеологические проблемы все больше отходят к политологии или социологии.
Политэкономия в отечественной интеллектуальной традиции. Использование термина и понятия «политическая экономия» является отечественной научной традицией. Наверное, начиная с Н. Чернышевского, общетеоретические экономические исследования в России развивались как политэкономические, хотя становление политической экономии как науки в России следует отнести к более позднему периоду. Отечественные исследователи за более чем 150 лет выработали понятийный аппарат, инструментарий, набор категорий и понятий и в общем привыкли к политэкономическому дискурсу.
Сегодня все наоборот. Переименование многих бывших кафедр политической экономии в кафедры экономической теории носит в большинстве случаев поверхностный, конъюнктурный характер. Там же, где в действительности отказались от политэкономии, преподавание свелось к пересказу компиляций из западного «economics», имеющего мало общего с реальной российской экономикой. Отказ от понятия «политическая экономия» надолго дезориентирует отечественных экономистов и преподавателей, а в конечном счете окончательно сведет русскую экономическую мысль к подражанию моделям западного экономического мышления. Но Россия не Запад.
Суть политэкономического подхода в отечественной (и не только в отечественной) общественной науке заключается в том, что при изучении соответствующих проблем захватываются их социальные и политические аспекты. Это не только то, что сегодня называют макроэкономикой или микроэкономикой, но и то, что в западных странах обычно изучается в курсах политики, истории и, особенно, социологии. У нас же нет такой традиции. Возможно, то, что традиционно изучалось у нас политической экономией, ныне отходит к институциональной экономике. Но и тут имеются некоторые сложности. Первая ‒ пока еще институционализм даже в лучших своих представителях по масштабам и глубине не в силах конкурировать с достижениями классической политической экономии. Вторая ‒ в нашей отечественной научной и преподавательской практике, несмотря на бурное развитие институционализма, по-литэкономическая традиция и ее научные накопления значительно превосходят ростки институциональной экономии. Скорее всего, следует ожидать синтеза этих ростков с обновленной политэкономией. В англосаксонской практике преподавания многие вопросы, которые у нас изучает политическая экономия, относятся к социологии, ее многочисленным ответвлениям. У нас же социология не имеет такого развития и широты охвата. Отказ от понятия «политическая экономия» приведет к тому, что многие проблемы вообще не будут изучаться.
В отечественной экономической науке сложилась определенная схема, классификация, традиция в соотношении различных ветвей. Конечно, эту схему можно совершенствовать и развивать, что будет означать большую детализацию, уточнение, наконец, усложнение. Простая замена термина «политическая экономия» на термин «экономическая теория» упрощает схему экономических наук. Тогда по логике остается лишь два направления «экономическая теория» и «экономическая практика», что делает всю схему очень примитивной. Более того, такая замена требует все специальности ВАКА свести к двум: теория и практика. Все это внесет очень большие трудности в определение специализации каждой диссертационной работы. К настоящему времени у нас и так очень много всего переименовали и изменили. И в случае переименования «политической экономии» следует поступать особо осторожно: семь раз отмерить. Прежде всего следовало бы спросить об этом научную и преподавательскую общественность. Уже сейчас очевидно, что студенты, которые не изучали политическую экономию, не владеют базовыми понятиями экономической науки. Квалификационный уровень молодых экономистов резко понизился. В отказе от термина «политическая экономия» просматривается исключительно политический ход: пересмотреть все, что было раньше. Но глупо отказываться от старого только в угоду новому экстремизму.
И еще. Возвращаясь к российской политэкономической традиции, надо иметь в виду, что, в общем и целом, она была взращена в лоне марксизма. Как отмечал еще Н.А. Бердяев, марксизм был процессом европеизации русской интеллигенции. Российскому интеллигенту в начале ХХ в., чтобы выглядеть современно и умно, надлежало быть марксистом. Конечно, с тех пор много утекло воды. Был Сталин, который уничтожил многих марксистских интеллигентов (Н. Бухарина, Е. Преображенского, И. Рубина и др.), теперь американская мысль, которая часто путает марксизм и сталинизм (Л. Мизес, Ф. Хайек). Но есть Россия, есть российская интеллигенция, пронизанная марксизмом, – дело осталось за политической экономией.
Речь должна идти не о воссоздании марксистской политической экономии. Такой нет и быть не может. Маркс был критиком классической политической экономии, он создал ее завершение, вершину. Выражение «пролетарская политическая экономия» бессмысленно, ибо цель пролетариата состоит в упразднении классов, а следовательно, самого себя. Вот этот процесс уничтожения («снятия») классов и вещного мира и призвана объяснять современная политическая экономия.
Может ли политическая экономия исчезнуть? Политическая экономия в России имеет давнюю традицию, но в постсоветский период эта традиция была резко, почти административным путем нарушена. В связи с этим возникают естественные вопросы. Может быть, действительно политическая экономия представляет собой устаревшую научную дисциплину, остаток идеологических схем советского периода? Может быть, политэкономию нужно также отбросить (или преодолеть), как она почти преодолена в западной литературе? А если сохранять и восстанавливать политэкономию «как общетеоретическую дисциплину», то, собственно, какую? Советского периода или какую-то другую? Очевидно, что советскую политическую экономию, плотно пропитанную идеологическими догмами того времени, в полном объеме восстанавливать сегодня невозможно. Можно, наверное, было бы освободить ее от этих догм и преподавать «зерна истины», которые там, наверняка, есть. Но как отделить догмы от зерен? Как найти согласие большинства научного сообщества по этому вопросу? Все это, видимо, потребует многих лет, а то и десятилетий научных дискуссий. Восстанавливать старую политэкономию времен М.И. Туган-Барановского, очевидно, бесперспективно в начале ХХI в., хотя там тоже много, и даже больше, чем где бы то ни было, «зерен истины». А импортировать зарубежную политическую экономию невозможно, ибо там ее просто нет. Все эти вопросы довольно существенны. Вопрос упирается в предметное поле политической экономии. Изменилось ли оно или нет? И может ли наука меняться до неузнаваемости, что по сути будет означать ее исчезновение?
Ведь как ни уважай и цени политэкономию, нельзя же думать, что роль, значение и функции политической экономии всегда и везде неизменны. Политическая экономия в отличие от естественных наук, где предмет задается природой, есть отражение в головах людей определенных социальных условий бытия. А эти условия могут меняться. Но если меняется роль политической экономии, то как она меняется? И вообще, может ли какая-либо наука меняться? Развиваться, совершенствоваться, расти, естественно, может. Но меняться так, что современное ее состояние оказывается мало похожим на то, что было 200 лет назад, или вообще перестать существовать. Так, например, сегодня в наших университетах «economics» заменил политическую экономию. И естественно возникают вопросы. Например, это одна и та же наука или разные? Все эти вопросы продиктованы не только гримасами сегодняшней идеологической жизни, когда одну тоталитарную идеологию пытаются заменить другой – почти тоталитарной. Или вообще жить без всякой идеологии, как живет крупный рогатый скот.
Таким образом, прежде чем ответить на вопрос, может ли изменяться политическая экономия, нужно ответить на вопрос об изменении той экономической реальности, которую эта наука объясняет. Трудно оспорить факт изменения экономических систем за 100 или 200 лет. То общество, которое описывал А. Смит в знаменитом «Исследовании», разительно отличается от современного западного общества. Значит, и наука в чем-то должна измениться. Или даже исчезнуть, если экономическая реальность изменится кардинально. То есть для исчезновения политической экономии должна исчезнуть экономическая реальность времен А. Смита с «невидимой рукой» рынка, с банками и денежно-кредитной системой, с резкой дифференциацией в оплате труда и экономическим неравенством, с экономическими кризисами и тому подобными классическими и неизбежными атрибутами капитализма. Но пикантность ситуации состоит в том, что все эти знаменитые атрибуты капитализма никуда не собираются исчезать и даже завоевывают все новые страны и территории. Например, Россию.
Итак, за последние 100 лет в политической экономии произошли существенные изменения. Процесс детализации и специализации научного знания не мог обойти и не обошел стороной такую науку, как политическая экономия. Классическая политическая экономия середины ХIХ в. перестала существовать. Выделились отраслевые и специальные экономические науки, выделился и превратился в мощную ветвь современного экономического знания так называемый «economics», т.е. аналитическая часть экономической теории. Какие-то проблемы и вопросы, получившие сегодня очень большое развитие, отошли к социологии и политологии. На границе с ними и традиционной экономической теорией возникла «новая политическая экономия». И, тем не менее, многое осталось в зоне научного интереса политической экономии. Это прежде всего онтологическая часть экономической теории, осмысление современных экономических процессов, которые не укладываются в прежние понятия и категории классической политической экономии. Например, феномен фидуциарных денег, сжатие сферы материального производства, финансиализация, экономика знаний и т.п. Все эти новые явления и понятия, думается, нельзя отвергать «с порога» как происки классовых врагов, но и нельзя принимать бездумно, не разъясняя их смысла и значения. Итак, нужны дискуссии.
Список литературы Что такое политическая экономия
- Рубин И. Диалектическое развитие категорий в экономической системе Маркса//Под знаменем марксизма. -1929. -№ 4. -С. 85.
- Туган-Барановский М.И. Основы политической экономии. -Петроград, 1915. -С. 1-2.
- Янжул И.И. Избранные труды. -М.: Наука, 2005. -С. 372.
- Рикардо Д. Письма к экономистам//Соч. Т. 5. -М.: Соцэкгиз, 1961. -С. 110-111.
- Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии. Бастия Ф. Экономические софизмы. Экономические гармонии. -М.: Дело, 2000. -С. 24.
- Аникин А.В. Путь исканий: Социально-экономические идеи в России до марксизма. -М.: Политиздат, 1990. -С. 14.
- Люксембург Р. Введение в политическую экономию. -М.: Соцэкгиз, 1960. -С. 93.
- Булгаков С.Н. Задачи политической экономии//Булгаков С.Н. Труды по социологии и теологии. Т. 1. От марксизма к идеализму. -М.: Наука, 1999. -С. 276.