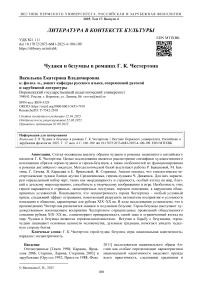Чудаки и безумцы в романах Г. К. Честертона
Автор: Васильева Е.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.17, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу образов чудаков в романах знаменитого английского писателя Г. К. Честертона. Целью исследования является рассмотрение специфики художественного воплощения образов героев-чудаков и героев-безумцев, а также особенностей их функционирования в романах английского писателя. Методологической базой выступают работы Р. Бажановой, М. Бахтина, Г. Гачева, В. Карасика и Е. Ярмаховой, И. Стернина. Анализ показал, что типологически честертоновские чудаки близки шутам Средневековья, героям-чудакам Ч. Диккенса. Для них характерен определенный набор черт, таких как неординарность и странность, особый взгляд на мир, близкий к детскому мироощущению, способность к творческому воображению и игре. Необычность этих героев выражается в странных, эксцентричных поступках, игровом поведении, в нарушении общепринятых условностей. Показывается, что эксцентричность героев Честертона – особый условный прием, создающий эффект остранения, помогающий разрушить автоматизм восприятия и условности поведения в обществе, характерные для рубежа XIX–XX вв. В ходе исследования установлено, что в произведениях Честертона различается мнимое и подлинное безумие. Герои-безумцы выступают художественным воплощением восприятия Честертоном отрицательных проявлений общественного сознания рубежа XIX–XX вв., олицетворяют приверженность одной идее и ограниченный взгляд на мир. Чудаки и безумцы являются героями-антагонистами. Вступая в борьбу с безумцами, герои-чудаки защищают основные ценности человечества, духовные традиции, помогают увидеть чудесную сторону бытия.
Г. К. Честертон, герой-чудак, безумец, игра, национальная идентичность, парадокс, эксцентричность
Короткий адрес: https://sciup.org/147252793
IDR: 147252793 | УДК: 821.111 | DOI: 10.17072/2073-6681-2025-4-100-109
Текст научной статьи Чудаки и безумцы в романах Г. К. Честертона
Отечественные [Гачев 1998; Карасик, Ярма-хова 2006; Стернин, Ларина, Стернина 2003] и зарубежные [Оруэлл 1992; Пристли 1988; Фокс
2011] исследователи национального образа Англии как особые определяющие характеристики национальной идентичности выделяют прежде всего практичность, следование традициям и
установленным правилам, приверженность здравому смыслу, а в качестве доминирующих черт поведенческих проявлений называются умеренность, сдержанность, вежливость (см.: [Стернин, Ларина, Стернина 2003]). При этом такие ценностные ориентиры англичан, как индивидуальность и личностная свобода, предполагают «плюрализм и терпимость к осуществлению многообразия» [Гачев 1998: 401], допустимость странного, эксцентричного поведения человека, увлеченность игрой [Оруэлл 1992: 197]. В работе В. Карасика и Е. Ярмаховой утверждается, что эксцентричность является важной особенностью английского национального характера, при этом она рассматривается как «реакция на традиционные нормы поведения, которые воспитывались школой, моралью, социальными институтами» [Карасик, Ярмахова 2006: 78]. «Пройдя жестокие испытания, связанные с социализацией, англичанин резервирует за собой право эксцентрически выражать свою индивидуальность» [там же: 79].
Эксцентричность как особенность национальной ментальности получает художественное воплощение в образах героев-чудаков, так часто встречающихся в английской литературе. «Наша страна всегда была страной чудаков, ими кишмя кишит английская литература прошлого, где они служат источником неистощимого веселья, которое нам облегчает душу» [Пристли 1988: 52]. Особенности художественного воплощения героев-чудаков в произведениях английских писателей достаточно хорошо изучены в работах отечественных литературоведов и культурологов. Динамика эволюции образа чудака прослеживается в работе К. Разумахиной: в контексте комической традиции английской литературы характеризуется специфика образов чудаков, литературная родословная которых ведется от героев шекспировских произведений (шуты комедий, Фальстаф), включает экстравагантных героев романов XVIII-XIX вв. Г. Филдинга, Т. Смол-летта, Л. Стерна, Ч. Диккенса [Разумахина 2017]. Р. Бажанова, исследуя эксцентричность как культурно-эстетический феномен, утверждает, что эксцентрическое поведение соединяет «в себе такие способы действий, как нестандартность, необычность, доходящие до странности; нарушение логики и даже нелепость, заведомо ломающая, искажающая очевидный порядок вещей» [Бажанова 2012: 188]. Лингвокультурологический подход характерен для исследования В. Карасика и Е. Ярмаховой, где рассматривается типаж «английского чудака» как значимый концепт английской ментальности. В качестве материала для анализа привлекаются и произведения английской литературы, где герой-чудак стано- вится знаковой фигурой. В работе формулируется и определение эксцентричности как странного, выходящего за рамки общепринятых, привычных норм общественного поведения: «Эксцентриком можно назвать человека, чье поведение, взгляды и/или хобби отличаются в значительной мере от принятых норм в обществе, однако во всем остальном такой человек вполне нормален. Он (или она) воспринимается как личность странная, необычная, нетрадиционная, сумасбродная» [Карасик, Ярмахова 2006: 109110]. Именно это исследование часто используется в качестве теоретической базы в отечественных работах для анализа содержания и функционирования образа героя-чудака в английской литературе на примере творчества отдельных писателей.
В трудах К. Разумахиной, О. Королевой, М. Козыревой и др. в качестве литературного материала предлагаются произведения П. Вудхауса, Т. Фишера, Г. Честертона, О. Хаксли. Стоит обратить внимание, что английские писатели в своих научно-критических трудах также уделяли большое внимание героям-чудакам как традиционным персонажам национальной литературы. Достаточно вспомнить биографию «Чарльз Диккенс» Г. К. Честертона или статью Дж. Б. Пристли «Комические персонажи английской литературы». Дж. Пристли замечает: «Среди писателей у нас немало было чудаков, и вся литература Англии, не знавшая академии, росла и развивалась с неподрезанными крыльями и потому полна чудачеств, прихотей, своеобразия и духа самоутверждения» [Пристли 1988: 52].
Обобщая основные положения вышеназванных исследований, можно сделать следующие выводы: образ героя-чудака в английской литературе имеет богатую традицию, сформировались устойчивые характерные черты подобного типа героя. Несмотря на всё разнообразие чудаков английской литературы, выявляются устойчивые типологические черты. Можно утверждать, что собирательный образ чудака отличается такими качествами, как странность поведения, которое может нарушать общепринятые нормы, пристрастие к какому-либо необычному занятию, хобби в частной жизни, схожесть с ребенком, при этом окружающие чаще всего воспринимают подобное проявление чудачества как неопасное, с веселым недоумением, что придает образам юмористическую тональность. В образе чудака получают художественное воплощение особенности английского юмора, приверженность англичан к парадоксу и нонсенсу.
В отечественном литературоведении не уделялось пристального внимания анализу образов чудаков в романах Г. К. Честертона, что и опре- деляет актуальность данного исследования. В нашей статье предлагается рассмотрение специфики художественного воплощения образов героев-чудаков, а также особенностей их функционирования в романах английского писателя. В данной работе мы будем придерживаться традиции, сложившейся в отечественном литературоведении [Бажанова 2012; Карасик, Ярмахова 2006; Козырева 2016], и использовать слова «чудак» и «эксцентрик» как синонимы, соответствующие английским eccentric, weirdo.
Г. К. Честертон (1874–1936) известен как оригинальный христианский мыслитель, знаменитый публицист и полемист в Англии начала ХХ в., а также автор детективных рассказов и нескольких романов. Основным содержанием его творчества стали осмысление и критический анализ состояния западноевропейского общественного сознания конца XIX – начала XX в., полемика с теориями и концепциями, утверждающими хаос и распад мира, изжитость и исчерпанность бытия, а также утверждение собственной концепции гармоничного существования человека и мира («философии радости») (см. подробнее: [Boyd 1975; Coats 1984]).
В честертоновских романах представлена галерея чудаков: Оберон Квин и Адам Уэйн («Наполенон Ноттингхилльский», 1904), Воскресенье («Человек, который был Четвергом», 1908), Тернбулл и Макиэн («Шар и крест», 1910), Инносент Смит («Жив-человек», 1913), Патрик Дэлрой («Перелетный кабак», 1914), Майкл Херн («Возвращение Дон Кихота», 1928). Чудачество честертоновских героев выражается в странных, эксцентричных поступках, игровом поведении, в нарушении общепринятых условностей, что сближает отдельных персонажей с фигурой карнавального шута. Прежде всего это относится к образам Оберона Квина и Инносента Смита.
В романе «Наполеон Ноттингхилльский» изображается Англия далекого для современников Честертона будущего (действие происходит в 1984 г.), имеющего черты тоталитарно-бюрократической утопии. Мир, с которым знакомится читатель, устойчив и неизменен благодаря своей упорядоченности, подчинению интересам «общественной пользы», прагматичен и скучен. Люди, разуверившись в возможности революционных преобразований, полностью утратили интерес к политическим и социальным проблемам, демократия выродилась в бюрократическую деспотию. Избранный правитель попадает во власть административной рутины и подчиняется установленным порядкам. По мнению исследователя Дж. Коутса, в романе Честертона воплощается идея о том, что бюрократическая система становится маскировкой для захватнических политических и экономиче- ских интересов представителей капиталистического мира (“Its routines of administration in which ‘efficiency’ and ‘public order’ mask the reality of control by business interests...” [Coats 1984: 104]).
Мир однообразия и скуки кардинально меняется по воле Оберона Квина, нового короля, избранного по жребию: он пытается расшевелить равнодушных сограждан, положить конец «немому безразличию», «сонному эгоизму, немоте и одиночеству миллионов» [Честертон 1992: I, 84–85] с помощью шуток и эксцентричных выходок. Делая ставку на творческое воображение и юмор, король Оберон преобразует общественную жизнь в грандиозное театральное представление в духе Средневековья.
С первого появления Квина в характеристику героя включается постоянное упоминание его глупости и странного, чудаковатого поведения. Все терялись «перед таинственным ужасом бредового скудоумия, которое явственно являл малышок-замухрышка» [Честертон 1992: I, 320]. Портрет героя с намеренно гиперболизированными чертами напоминает шутовскую физиономию клоуна. Его приятели, Джеймс Баркер и Уилфрид Ламберт, добропорядочные и солидные джентльмены, не стесняются в выражениях, браня Квина за шутовство и дурацкие проделки. Они никак не могут решить: Квин глуп от природы или дурачит их. Их рациональное, утилитарное представление о мире не может принять своеобразный юмор героя и его игровое поведение.
Оберон Квин – эстет, избравший своей единственной «верой» юмор, – своим эпатажем и буффонадой намеренно старается разрушить устоявшиеся условности и штампы общественного поведения. Действия Квина сближают его со средневековым шутом. Он как бы находится на грани жизни и искусства: шутовство для Квина является жизнью. Обращая внимание на это качество средневекового шута, М. Бахтин замечает: «Такие шуты и дураки ˂...> вовсе не были актерами, разыгрывающими на сценической площадке роль шута и дурака... Они оставались шутами и дураками всегда и повсюду, где бы они ни появлялись в жизни» [Бахтин 1990: 13].
Эксцентричные поступки и действия Оберона Квина, странные с точки зрения норм бытового или общественного поведения, приобретают символическое значение, если их рассматривать в контексте карнавальной эстетики. Используя мотив избрания карнавального короля, Честертон воплощает на сюжетном уровне главную идею праздника дураков, да и всего средневекового карнавала, – инверсию общественного положения. Чудак Квин избирается по жребию королем Англии, и изданным им законам, а также его прихотям должны подчиняться государственные деятели (Баркер), чиновники (Ламберт) и промышленники (Бак). Все события, связанные с избранием и провозглашением Квина королем, изображаются автором как карнавальные, с элементами буффонады, пародии, эксцентрики. Для народно-смеховой культуры было характерно травестирование официальных религиозных праздников, где шут мог выступать смеховым дублером персонажей священной истории. В главе «Нагорный юмор» (“The Hill of Humour”) читатель сталкивается с травестийной аллюзией Нагорной проповеди Христа. На холме в Кен-сингтон-Гарденз Квин провозглашает новую религию: «Да, юмор, друзья мои, это последняя святыня человечества....чувство юмора, причудливое и тонкое, – оно и есть новая религия человечества!» [Честертон 1992: I, 43]. Свою речь Квин сопровождает стоянием на голове вверх ногами и прыганием на одной ножке под возмущенную брань зрителей этого действа – Баркера и Ламберта. Сам герой воспринимает свою речь как эпатаж окружающих и пародию на религиозные святыни: «А мы стоим на возвышении под открытым небом, на фантасмагорическом плато, на Синае, воздвигнутом юмором» [там же: 44]. Именно в этот момент к зрителям импровизированного спектакля присоединились «двое чинных мужчин в строгих униформах» [там же: 45], но не для того, чтобы задержать Квина как нарушителя общественного порядка и спокойствия, а чтобы оповестить об избрании Его Величества Короля – Оберона Квина. Дальнейшие события изображаются автором как пародия на официальные церемонии, как карнавальное «наоборот», «непрестанное перемещение верха и низа» [Бахтин 1990: 16]. Комический эффект происходящего усиливается за счет контраста несообразных действий Оберона и того поста, роли, которая ему уготована и которую окружающие воспринимают с полной серьезностью. Квин встречает неожиданное известие шутовской жестикуляцией: «Мистер Квин с головою между колен скромно ответствовал: – Я недостоин избрания. …Единственное, на что уповаю – это что впервые в истории Англии монарх изливает душу народу в такой позиции» [там же: 46]. Для Квина избрание королем становится возможностью сыграть короля дураков, и он старается вовсю: «Ох, и потружусь я для тебя, мой добрый народ! Ну, ты у меня посмеешься!» [Честертон 1992: I, 46].
Коронация новых королей чаще всего у Честертона, согласно карнавальной традиции, сопровождается «смертью», развенчанием старого. В «Наполеоне Ноттингхилльском» свою власть над подданными король-эксцентрик закрепляет в комическом действии: совершая своеобразный ритуал, садится на шляпу Баркера и сминает ее.
«– Диковатый старинный обычай, – пояснил он, как ни в чем не бывало. – ...Таким образом как бы увековечивается акт почтительного снятия шляпы. Это символический намек: доколе оная шляпа не появится снова на вашей голове (а я твердо убежден, что это маловероятно), дотоле Дом Баркеров пребудет верен нашей английской короне» [там же: 48]. Избитый театральный и цирковой штамп (клоун садится на шляпу) наполняется карнавальным смыслом – снижением общепринятого и официального (Баркер, «молодой государственный муж», принадлежит миру официальному). Это карнавальное событие сигнализирует о смене власти, о том, что начинает действовать «логика обратности», перемещение верха и низа: чиновник Баркер, предприниматель Бак и другие должны подчиняться чудаку Оберону и жить по законам, которые он выдумал.
Сам Квин осознает и отстаивает свою шутовскую роль. На просьбу Баркера не дурачиться на людях, а «валять дурака взаперти» [там же: 49] он отвечает: «Не взаперти, потому что смешнее на людях....Чувство юмора подсказывает мне, что надо быть шутом на людях и степенным на дому. Я хочу превратить все государственные занятия, все парламенты, коронации и т. п. в дурацкое старомодное представленьице» [там же: 49].
«Глупость», чудачество, шутовство Квина сродни амбивалентной карнавальной глупости Средневековья, которая определяется М. Бахтиным следующим образом: «Глупость – обратная мудрость, обратная правда. Это изнанка и низ официальной, господствующей правды; глупость прежде всего проявляется в непонимании законов и условности официального мира и в уклонении от них» [Бахтин 1990: 287].
Таким образом, эксцентрик Квин бросает вызов буржуазному прагматизму и пресловутым «интересам общественности», его поступки станут антитезой «зеленой тоске» действительности Лондона 1984 г. Король-чудак утверждает «мир наоборот», «Страну Дураков» (слова Квина) (в оригинале Paradise of Fools [Chesterton 1996: 27]), где больше серьезничать не придется. Роль чудака Квина заключается в разрушении устоявшегося порядка вещей в бюрократическом мире собственнических рациональных интересов. По мнению Дж. Коутса, этот герой предоставляет возможность проявления творчества, освобождает инстинкты игры, свободу воображения [Coats 1984: 104]. Игра в Средневековье сподвигнет Адама Уэйна бросить вызов воротилам капиталистического мира и встать на защиту родной улицы.
Чудачество и эксцентричность ярко выражены также в образе Инносента Смита, главного героя романа «Жив-человек». Появление этого персонажа на страницах романа - это описание серии ошеломляющих акробатических трюков. Погоня Смита за улетающей шляпой исполнена динамизма и производит на зрителей, жителей пансиона «Маяк», неизгладимое впечатление: «Безумец встал на руки, вскинул ноги кверху, заболтал ими в воздухе, как символическими знаменами ˂...>, и на виду у всех поймал шляпу ногами» [Честертон 1992: II, 14]. Розамунда, Диана, Мун, Инглвуд и доктор Уорнер, затаив дыхание, наблюдают за всем происходящим, как дети в театре или цирке. Появление Смита в пансионе «Маяк» полностью меняет образ жизни его постояльцев: исчезают скука и уныние, безразличие и равнодушие, потому что Инносент Смит создает настроение легкой, увлекательной игры и побуждает молодых людей к активному участию в ней: «Он заразил всех своей полубезумной активностью, но не в разрушении старого проявлялась она, а скорее в созидании нового, в головокружительном и неустойчивом творчестве» [там же: 28]. Герой Честертона, чудак и эксцентрик, не только играет сам, он заражает этой способностью и остальных.
Честертоновские чудаки ведут свою родословную не только от средневекового шута, но и от героев-чудаков Ч. Диккенса: имеются в виду прежде всего члены Пиквикского клуба, а также Гримуинг («Оливер Твист»), миссис Никльби («Николас Никльби») и др. «Они отличаются эксцентричностью поведения, наивностью, добротой и доверчивостью, что в ряде случаев отнюдь не исключает известной проницательности, основанной на умении “видеть сердцем”. Эти герои кажутся окружающим шутами и вследствие собственной наивности способны выполнять в сюжете функцию шекспировского шута, которому дозволено говорить неприятную правду» [Потанина 1998: 176]. В биографии «Чарльз Диккенс» Г. К. Честертон замечает, что почти всегда герой Диккенса «еще и дурак» [Честертон 1982: 159]. «Ключ к великим героям Диккенса в том, что все они - великие дураки. <.. .> Великий дурак не ниже, а выше мудрости» [там же] (“The key of the great characters of Dickens is that they are all great fools. …The great fool is a being who is above wisdom rather than below it” [Chesterton 1911: 159]). Большим сердцем и особой мудростью наделяются и герои Честертона.
Радостное удивление перед миром и способность к игровому поведению сближают чудаков Честертона с ребенком, что становится их особой характеристикой. Писатель наделяет Уэйна, Квина, Смита, Дэлроя мироощущением детства, которое является важной составляющей честер-тоновского идеала. Автор обращает внимание на особенность детского восприятия окружающей действительности как чудесной. Устоявшиеся понятия, штампы и социальные условности, которые подчиняют поведение взрослого, еще не властны над детским воображением. Сравнения с ребенком могут присутствовать в портретной характеристике, в оценке действий, в особом восприятии мира.
Более полно идеал детского мироощущения воплощен Честертоном в образе Инносента Смита - в этом персонаже реализуются непредвзятость, непосредственность, невинность (англ. “innocent” - «невинный»). Сравнение Смита с ребенком возникает при первом же его появлении и постоянно сопровождает героя в процессе повествования. На суде «в течение всего процесса он с большим удовольствием мастерил из ˂...> бумаги бумажные кораблики, бумажные стрелы и бумажные куклы. Он ни разу не сказал ни слова и даже не поднял глаз; казалось, он чувствовал себя на суде так же беззаботно, как ребенок на полу в своей детской, где нет ни одного человека» [Честертон 1992: II, 66]. Описание комнаты Смита становится очередным доказательством принадлежности героя к миру детства. Честертон отмечает особую черту детской психологии - условное, игровое использование предметов, открывающее их новое качество: «Все вещи здесь служили не тем надобностям, для которых были предназначены» [там же: 21]. После посещения этой комнаты Мун «с каким-то жутким чувством начал понимать, что перед ним воистину ребенок. Смит действительно был младенцем - насколько это возможно в пределах человеческой психики, и все чувства его были детские ...» [там же: 22].
Являясь символом детства, герой и для других персонажей несет воспоминание о детстве, ставшем забытым, утраченным светлым началом, истиной, которую они потеряли. Майкл Мун говорит о Смите как о символе детства и юности: «Он - астральный младенец, рожденный нами, нашими мечтами. Он - наша возродившаяся юность» [там же: 46]. Инносент Смит ставит перед собой задачу развеять скуку и однообразие, царящие в «Маяке», показать прелесть и чудо простых обыденных вещей, помочь ощутить радость бытия.
Но свое намерение Смит претворяет в жизнь особым способом: «Он шутил от всей души - не словами, а делами» [там же: 104]. Честертон делает акцент на особом поведении героя: он не говорит, а действует. Сам автор называет Смита арлекином и эксцентриком [там же: 13], указывая на его сходство со знаменитым карнаваль- ным персонажем, впоследствии персонажем-маской комедии дель арте. Жесты, движения, действия Смита подобны участнику пантомимы, имеют символический ритуальный характер: они должны быть поняты, разгаданы остальными персонажами романа. В работе М. Молодцовой так определяется сценическое поведение Арлекина, одного из главных действующих персонажей комедии дель арте: «Арлекин все время что-то измышляет и дает это понять публике. Но не словами, а телодвижениями. Его прыжки, кульбиты, падения, пробежки, потасовки, прятки и палочные колотушки ˂…> – все это его сценический язык, средства изъяснения своего мирочув-ствования, притом – главные средства» [Молодцова 1990: 59]. О символическом подтексте эксцентричных поступков Смита догадывается Майкл Мун: «Этот человек молчал целыми часами; и все же он говорил беспрерывно. ˂...> Инносент Смит не безумец – он ритуалист. Он желает изъясняться не словами, а с помощью рук и ног» [Честертон 1992: II, 64]. В своей статье английский критик Д. Лодж называет Смита «практическим аллегорическим шутником» [Lodge 1987: 331].
Непонятное, странное поведение и эксцентричные поступки этого героя становятся загадками для остальных, и они должны быть разгаданы. Совершая мнимые «преступления» (а Смита обвиняют в покушении на убийство, воровстве и многоженстве), герой своими парадоксальными поступками побуждает персонажей (Диану Дьюк, Розамунду, Майкла Муна, Артура Инглвуда) к активному действию – поиску ответов на свои «загадки». Это приводит молодых людей «Маяка» к постижению чудесной стороны бытия, приобщению к подлинным человеческим ценностям. Смит соответствует своей родословной, то есть выполняет функции Арлекина. «За ним [Арлекином] закреплена главенствующая сценическая функция: организовать игру. ˂...> Арлекин все запутает, чтобы прояснить, и, развязав все узлы, снова поставит нас перед какой-нибудь загадкой…» [Молодцова 1990: 56].
Странное, эксцентричное поведение героев-чудаков не соответствуют общепринятым условностям, поэтому они воспринимаются разумными и благонамеренными обывателями, и прежде всего буржуазным миром, как глупцы или сумасшедшие. Приятели Оберона Квина, Джеймс Баркер и Уилфред Ламберт, не жалеют ругательств по поводу поведения своего чудаковатого знакомого: «Он ведь рта не разинет, чтобы не ляпнуть такую несусветицу, которой постыдится последний идиот...» [Честертон 1992: I, 31]. Предприниматель Бак и его сторонники не понимают и поведения Адама Уэйна, его героиче- ского стремления защитить от разрушения родную улицу. По их мнению, не может быть нормальным тот, кто мешает получению огромной прибыли (поведение Уэйна в оценке Бака – “It’s midsummer madness” [Chesterton 1996: 38]). Они видят единственный выход из создавшейся ситуации – заточить Уэйна в сумасшедший дом как досадное недоразумение. Угроза сумасшедшего дома нависла и над другими героями: Инносен-том Смитом и доктором Хэндри («Возвращение Дон Кихота»), создателем уникальной краски. В романе «Шар и крест» любое человеческое проявление, угрожающее системе, объявляется безумием. Постоянно повторяющийся мотив безумия, видимо, свидетельствует о том, что Честертона очень беспокоило, что неординарное поведение, уникальные знания или своя точка зрения в обществе, не терпящем индивидуальности, могут быть оценены как сумасшествие.
В произведениях Честертона мнимое безумие героев (чудачество, эксцентрика, игра, героическое безрассудство) противостоит безумию истинному: духовной узости, помноженной на приверженность одной идее, которая ограничивает и обесцвечивает многообразие мира и человека. Оберон Квин обращается к политику Джеймсу Баркеру: «…все серьезные люди – маньяки. Вы – маньяк, потому что вы свихнулись на политике – это все равно, что собирать трамвайные билеты. Бак – маньяк, потому что он свихнулся на деньгах – это все равно, что курить опиум. Уилсон – маньяк, потому что он свихнулся на своей правоте – это все равно, что мнить себя Господом Богом» [Честертон 1992: I, 67].
Честертон в своих философских, художественных и публицистических произведениях формулирует концепцию безумия, которая характеризует состояние современного автору общественного сознания. Безумие, по Честертону, – это приверженность одной идее и взгляд на мир только с одной точки зрения, единственно верной, по мнению автора идеи. «Ущербная мысль так же логична, как здравая, но не так велика. ˂...> Бывает узкая всемирность, маленькая, ущербная вечность – как во многих современных религиях. Наиболее явный признак безумия – сочетание исчерпывающей логики с духовной узостью» [Честертон 1991: 367]. В своем знаменитом трактате «Ортодоксия» философов и мыслителей рубежа XIX–XX вв. английский писатель сравнивает с сумасшедшими (одна из глав называется “The Maniac”). И дело совсем не в том, что в их теориях не хватает логики, как раз наоборот. Однобокий взгляд и возведение в абсолют какого-то одного принципа восприятия действительности, что характерно, по мнению Честертона, для позитивистов, социалистов, скептиков и нигилистов, и приводят к идеям и теориям, которые английский писатель называет объяснениями «безумцев»: «Сумасшедший заключен в чистую, хорошо освещенную тюрьму одной идеи, у него нет здорового сомнения, здоровой сложности» [Честертон 1991: 369].
Подлинное, в честертоновском понимании, безумие воплощено в таких героях, как чиновник Баркер и промышленник Бак («Наполеон Нот-тингхилльский»), профессор Л. («Шар и крест»), доктор Уорнер («Жив-человек») и лорд Айвивуд («Перелетный кабак»).
Роман «Шар и крест» открывается дискуссией между монахом Михаилом и профессором Л., приверженцем логики и практической целесообразности, отрицающим христианскую веру. Аргументы, приводимые в споре отцом Михаилом, во многом совпадают с рассуждениями Честертона, которые высказываются в защиту христианства в «Ортодоксии»: одной из главных заслуг христианства, в отличие от философии позитивизма и детерминизма, является объяснение мира не как четко упорядоченной системы, которую можно изложить с помощью логики, а как мира, включающего в себя и закон, и чудо. «В нашем мире сложно не то, что он не разумен, и даже не то, что он разумен. Чаще всего беда в том, что он разумен - но не совсем. Жизнь - не бессмыслица, и все же логике не по зубам. На вид она чуть-чуть логичней и правильней, чем на самом деле; разумность ее - видна, бессвязность скрыта» [Честертон 1991: 416]. С точки зрения Честертона, христианство предугадывает «эту потаенную неправильность» [там же: 417] при объяснении жизни: «Оно не просто вывело логические истины - оно становится нелогичным там, где истина неразумна. Оно не только правильно - оно неправильно там, где неправильна жизнь» [там же: 417]. Честертоновким безумцам недоступна «потаенная неправильность» жизни и самого человека, поэтому их логика в конечном итоге приводит к отрицанию самой жизни. Отец Михаил рассказывает притчу о безумцах профессору Л., заключая ее словами: «Сперва вы ненавидите все, что не сведешь к логике, потом -просто все, ибо ничто в мире не сводится к логике без остатка» [Честертон 1994: 265].
В романе «Перелетный кабак» (1914) основой сюжетного действия становятся авантюрные приключения капитана Патрика Дэлроя, ирландского бунтовщика, и его друга Хэмфри Пэмпа, владельца кабака «Старый корабль». Вопреки закону, запрещающему продажу и распитие спиртного, они продвигаются по стране с кабацкой вывеской и запасом рома. Закон издается лордом Айвивудом, членом парламента и основным идеологом государственной политики, увлеченного идеями ницшеанства и ислама. Запрет кабаков объясняется Айвивудом заботой государства о здоровье и благосостоянии простого народа, спасением его от ненужных трат. Но в романе Честертона показывается, что государство таким образом посягает на сложившийся уклад жизни человека, освященный многовековыми традициями. Непомерная гордыня и фанатизм этого героя, одержимого идеей сверхчеловека и верящего в свою избранность и особое предназначение, позволяют ему рассматривать человека настоящего как материал для будущего. Честертон смог уловить характерную особенность ницшеанской философии: неприятие и недоверие к современному человеку, ценность которого трактуется лишь как залог будущего. В соответствии со своими абсурдными идеями лорд Айвивуд мыслит и дальнейшее переустройство мира.
Попав под влияние проповедей Мисисры Аммона, «пророка Луны», лорд Айвивуд проводит диспуты, на которых обсуждаются основные мусульманские догматы и традиции (запрет на употребление спиртного и свинины, многоженство и др.). Мисисра Аммон не только пытается доказать, что Европа обязана Востоку всеми культурными и научными достижениями, но и производит подмену, переименование реалий английской действительности, топонимов, перетолковывает исторические события и легенды. Так, «пророк Луны» утверждает, что можно найти следы азиатских слов в названиях английских кабаков: “It is obvious, let us say, that the ‘Saracen’s Head’ is a corruption of the historic truth ‘The Saracen is Ahead’- I am far from saying it is equally obvious that the ‘Green Dragon’ was originally ‘the Agreeing Dragoman’; though I hope to prove in my book that it is so” [Chesterton 1928]. Увлеченное новыми модными идеями (ницшеанство и ислам), английское общество не замечает, что осмысление истории и культуры Англии с точки зрения чуждых ей религиозных и нравственных позиций приводит к их искажению и подмене. Поэтому экспансия мусульманства, угрожающая английской идентичности, изображается в произведении не только как идеологическое влияние на общественное сознание, но и как вероятные последствия влияния «чужой» религии на политическую, социальную, бытовую реальность Англии. Используя такие художественные средства, как фантастика, гротеск, гипербола, автор обыгрывает различные возможности воздействия ислама на жизнь христианской страны. В результате деятельности лорда Айвивуда в стране не только вступает в силу запрет на спиртное, но и в конечном итоге английская армия встает под зеленые знамена ислама. Глазам главной героини, леди Джоан, предстает следующая фантасмагорическая картина: «Внизу стояли строем солдаты… Над ними развивалось зеленое знамя той великой религии, той могучей цивилизации, которая часто подходила к столицам Запада, …но никогда не вступала на английскую землю. ˂…> ей показалось, что Турция завоевала Англию, как Англия – Индию» [Честертон 1992: II, 297].
Патрик Дэлрой констатирует опасность деятельности Айвивуда, которая приводит к потере национальной идентичности: «Когда английской олигархией правит англичанин, лишенный английских свойств, тогда получается весь этот кошмар, конец которого ведом только Богу» [Честертон 1992: II, 235]. Попытка реализации идей Айвивуда на государственном уровне, стремление к созданию нового, искусственного общества приводит к пренебрежению традициями и создает угрозу вещами, без которых, по мысли автора, невозможна жизнь: это дом, счастье, радость, любовь. Честертон в своей художественной практике сумел показать одну из основных опасностей общественного развития ХХ в.: опасность идеи (социальной, национальной, философской), если она становится бескомпромиссным руководством к жизни.
Создавая комплексную характеристику героя-безумца, в которой сочетаются портретные, социальные и психологические черты, Честертон выражает авторское отношение к ним через оценочные сравнения и определения. Портретные детали приобретают символическое значение, становятся «говорящими» и выступают оценочной характеристикой воплощенных в образе героя идей. Так, «бесцветность» («белое» и «серое») в портретах лорда Айвивуда и доктора Уоррена включает в себя безупречность, доходящую до холодности, безжизненность, голую логику и слепоту ко всему человеческому. Герой-безумец становится символом условности, безжизненности, смерти. Честертон подбирает парадоксальное определение таким героям – “dead alive”. В конце романа «Жив-человек» Мун так отзывается об Уорнере: «Мы сидели рядом с привидением. Доктор Герберт Уорнер давно уже умер» [Честертон 1992: II, 138].
Таким образом, честертоновские герои-безумцы становятся символическим воплощением интеллектуальной болезни общественного сознания рубежа XIX–XX вв. Абсолютизированные идеи материальной пользы и духовной свободы, позитивизма и скептицизма, по Честертону, ведут к «безумию». При этом человеческое восприятие перестает улавливать многообразие действительности, потому что теряет свою стереоскопичность. Честертон констатирует, что утрата целостной системы взглядов на бытие в результате абсолютизации одной идеи или теории, попытка расщепить человека на составляющие приводят в современной науке и философии к кризису общественного сознания.
С идеями «безумцев», воплощаемыми в жизнь, борются герои-чудаки. В образах чудаков Честертона органично сочетаются особое, не отягощенное штампами и условностями взрослого мира видение, эксцентрика и игровое поведение, ведущее свое начало из народной карнавальной культуры, «глупость» и доброта диккенсовских чудаков. Их оружием и силой становятся благодарное удивление перед чудом мира, творческая игра, радостное созидание, защита основных, незыблемых, по Честертону, традиций человечества. Эксцентричность героев Честертона, парадоксальность их действий – особый условный прием, создающий эффект остранения, помогающий разрушить автоматизм восприятия и общественные условности, характерные для рубежа XIX–XX вв. Именно в этом видит Р. Бажанова культурную функцию эксцентрики: «Удивить и поразить воображение человека своим “парадоксальным, вывернутым” сходством с самой действительностью, богатой неожиданностями, случайностями, непредсказуемостью и шаткостью незыблемых порядков – такова познавательно эстетическая нацеленность эксцентрики» [Бажанова 2012: 190].
На фоне характерного для западноевропейской философии, литературы и культуры в целом на рубеже ХIХ–ХХ вв. разочарования в рациональнодейственной природе человека в произведениях Г. К. Честертона возникает герой-чудак, чье эксцентричное поведение направлено на внешний мир и становится парадоксальным способом разрушения безжизненных условностей и выявления подлинной сущности мира. Целью действий такого героя выступает защита добра, высокого порядка, неповторимости мира и индивидуальности человека. Чудак становится защитником мироздания против небытия, которое в романах Г. К. Честертона принимает самые разные формы.