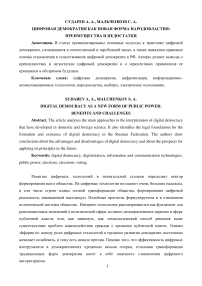Цифровая демократия как новая форма народовластия: преимущества и недостатки
Автор: Мальченков С.А., Сударев А.А.
Журнал: Огарёв-online @ogarev-online
Статья в выпуске: 8 т.11, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы основные подходы к трактовке цифровой демократии, сложившиеся в отечественной и зарубежной науке, а также выявлены правовые основы становления и существования цифровой демократии в РФ. Авторы делают выводы о преимуществах и недостатках цифровой демократии и о перспективах применения ее принципов в обозримом будущем.
Выборы, информационно-коммуникационные технологии, народовластие, цифровая демократия, цифровизация, электронное голосование
Короткий адрес: https://sciup.org/147250420
IDR: 147250420 | УДК: 32.019.5:004.056
Текст научной статьи Цифровая демократия как новая форма народовластия: преимущества и недостатки
Развитие цифровых технологий в значительной степени определяет вектор формирования всего общества. На цифровые технологии возлагают очень большие надежды, в том числе строят планы полной трансформации общества, формирования цифровой реальности, замещающей настоящую. Подобные прогнозы формулируются и в отношении политической системы общества. Интернет-технологии рассматриваются как фундамент для революционных изменений в политической сфере, истинно демократических перемен в сфере публичной власти, или, как минимум, как технологический способ решения ныне существующих проблем взаимодействия граждан с органами публичной власти. Однако эйфория по поводу роли цифровых технологий в процессе развития демократии постепенно начинает ослабевать, и тому есть немало причин. Помимо того, что эффективность цифровых инструментов в демократических процессах весьма спорна, тотальная трансформация традиционных форм демократии несет в себе опасность становления цифрового авторитаризма.
Фактор цифровизации в политике стал объектом исследования многих ученых. Различные аспекты интеграции цифровых практик в структуру конституционного права раскрывает С. А. Авакьян [2]. Соотношение электронной и традиционной демократии изучено в работах Р. М. Дзидзоева [5], А. С. Лолаевой [9], Е. Ю. Киреевой [8], В. А. Осинюк [11]. О недостатках цифровой демократии и угрозах цифровой диктатуры пишут такие авторы, как О. Ю. Власова [3], C. Ю. Волков и А. С. Кондратьев [4]. В зарубежной научной литературе наиболее известны классические труды М. Кастельса о роли Интернета в жизни общества [7]. Новейшие тенденции развития цифровой демократии за рубежом отражены в публикациях Я. ван Дейка [17], С. Бушера [15] и К. Пейриса [16].
В настоящее время в отечественной и иностранной научной литературе сложились широкое и узкое понимание электронной демократии. В узком смысле под цифровой демократией понимается облачение в цифровую форму традиционных средств демократического участия граждан в жизни государства и осуществлении народной власти, т.е. исключительно электронные референдумы и выборы [9, с. 25].
Более широкой подход предлагает включать в понятие электронной демократии все формы взаимодействия граждан с публичной властью, облачённые в цифровую форму. Так, например, помимо традиционных форм участия граждан в жизни государства (референдумы, свободные выборы), некоторые авторы вкладывают в понятие цифровой демократии также электронные опросы граждан, предоставление электронных государственных услуг, электронные петиции, электронные консультации, электронные ходатайства, электронное правосудие, электронное взаимодействие граждан с местным самоуправлением на уровне системы «умного города» и т.д. [9, с. 24]. Однако существует также позиция, согласно которой все вышеописанное следует относить к понятию более широкому, чем цифровая демократия, а именно – электронное участие. Это предполагает оставить за понятием цифровой демократии лишь вопросы отношений граждан с правительством и политическими представителями и вынести за рамки остальные формы контакта граждан с публичной властью (местными администрациями и др.) [17, с. 56].
В рамках указанных подходов существуют два противоположных понимания того, в чем именно будет состоять становление цифровой демократии. Сторонники первого подхода считают, что конституционное право, стоящее на защите демократических ценностей и институтов, должно подчинять себе цифровые достижения и обращать их на благо служения народа, а не наоборот [2, с. 25]. Развертывание электронной демократии должно ограничиваться лишь модернизацией традиционных инструментов народовластия с целью повышения удобства взаимодействия граждан и публичной власти. Это предполагает создание возможности электронного голосования на выборах, подачу онлайн-петиций, беспрепятственную реализацию электронного документооборота и т.д.
Главный недостаток указанного подхода состоит в том, что он предполагает модернизацию инструментов непосредственной демократии, и никак не влияет на демократию представительную, на которой и строится народовластие в большинстве государств. Кроме того, даже простая трансформация форм непосредственного народовластия некоторым исследователям кажется неэффективной, поскольку виртуальное пространство плохо справляется с тем, чтобы заменить личное взаимодействие граждан с властью [2, с. 27].
Второй подход его сторонники видят следующим этапом становления цифровой демократии, а именно как качественное изменение структуры органов государственной власти и характера осуществления власти граждан путем замены существующих демократических институтов и переходом к прямой демократии. Основными инструментами реализации такого непосредственного народовластия должны стать электронные средства реализации непосредственного волеизъявления граждан по всем политическим вопросам, в том числе и принятия законопроектов. Некоторые авторы проводят прямые параллели с прямой демократией, реализуемой в древнегреческих полисах [9, с. 25]. Особо радикальные позиции предполагают формирование нового цифрового гражданского общества, параллельного или замещающего существующее [2, с. 25]. Такие изменения помимо внедрения инструментов электронного голосования предполагают формирование электронного правительства, электронного парламента и даже цифровой конституции и цифрового конституционного права [5, с. 20].
Основной вопрос в том, ограничится ли электронная демократия лишь «обертыванием» классических демократических институтов в цифровую форму или же этот процесс предполагает качественные изменения в структуре органов государственной власти . Коснутся ли перемены лишь процедуры или самой сути демократии? Представляется, что именно выбор одного из приведенных выше подходов в дальнейшем предопределит основные траектории развития цифровой демократии как в мире в целом, так и в нашей стране.
Ключевым документом, определяющим вектор развития цифровой демократии в России, является Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». Данный Указ формирует основные понятия, связанные со становлением информационного общества: инфраструктура электронного правительства, общество знаний, технологически независимые программное обеспечение и т.д. Примечательно, что одними из задач применения информационных и коммуникационных технологий для развития системы государственного управления взаимодействия граждан и государства рассматриваемый акт выделяет, в частности: совершенствование механизмов электронной демократии; применение 3
в органах государственной власти Российской Федерации новых технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления; развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, государственных органов, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий [12].
Анализ указанных положений позволяет прийти к нескольким выводам. В российском правопорядке утвердился узкий подход к определению цифровой демократии, поскольку задачи по совершенствованию электронной демократии намеренно отделены от улучшения иных форм взаимодействия граждан с государством. Но главное положение заключается в том, что разработчики нормативно-правовой базы целенаправленно выделяют необходимость сохранения традиционных (нецифровых) форм демократического участия. Гражданам должен предоставляться выбор, пользоваться ли ему новыми электронными средствами взаимодействия с государством или нет. Это подтверждают и следующие указанные в Указе принципы: обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией; сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг [12].
Рассмотренные выше положения Указа Президента развиваются и дополняются также и другими законодательными актами. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» устанавливает правовые основы электронного голосования граждан на выборах. В частности, вводятся понятия дистанционного электронного голосования и электронного бюллетеня. Гражданам предоставляется возможность проголосовать с использованием электронных средств как очно (с помощью комплексов для электронного голосования), так и дистанционно, с использованием ГАС «Выборы» и иных государственных систем [13]. Данная автоматизированная информационная система, реализующая информационные процессы, используется при подготовке и проведении референдумов и выборов всех уровней – к примеру, выборов в Государственную Думу и выборов Президента РФ. В 2020 году возможность электронного голосования была также закреплена Законом РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» [6].
Кроме того, российским законодательством устанавливаются основы и гарантии электронного документооборота при сохранении традиционных способов. В частности, закрепляется обязанность органов государственной власти предоставлять по выбору граждан и организаций информацию в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью [14].
Исходя из анализа рассмотренных выше положений российского законодательства, можно сделать вывод о том, что основным и единственным вектором развития электронной демократии и цифрового общества в РФ является модернизация традиционных форм народовластия, но не коренные изменения в институте демократии как таковом. Действительно, российские законы формируют обширный фундамент для цифровизации выборного процесса и иных форм взаимодействия граждан с публичной властью, но механизмы перехода к прямой демократии путем внедрения цифровых средств законодателем не рассматриваются.
Основная идея цифровой демократии заключается в изменении демократических институтов с той целью, чтобы улучшить качество взаимодействия и сократить разрыв между гражданами и публичной властью, увеличить прозрачность действия государственных органов, повысить вовлеченность граждан в политический процесс и законотворческую деятельность, а также улучшить качество реализации демократических ценностей [9, с. 26]. Внедрение института электронного голосования должно расширить доступ к процессу голосования для миллионов потенциальных избирателей. Более высокая активность избирателей обеспечит большую легитимность избирательного процесса и поможет обратить вспять тенденцию к оттоку избирателей [16, c. 131].
Однако цифровизация активности гражданского общества и демократических процессов несет в себе и потенциальную угрозу. Повсеместное внедрение цифровых инструментов может быть направлено не на становление цифровой демократии, а на укрепление авторитарных политических режимов, формируя так называемый цифровой авторитаризм [2, с. 27; 11, с. 87]. Зафиксированы случаи, когда наблюдатели на выборах замечали расхождения в количестве голосов из первоначальных протоколов с итогами голосования в системе ГАС «Выборы» [3, с. 6]. При этом доказать нарушения с расширением цифровизации становится все труднее, поскольку отследить незаконные действия в сети практически невозможно. Технологические пути решения этой проблемы, построенные на основе механизмов блокчейна, существуют, однако они еще не до конца развиты, а для реализации такой системы в РФ нужно немало времени и затрат.
При этом угроза того, что при переходе к электронному голосованию контроль наблюдателей за подсчетом голосов будет утрачен, едва ли является главным опасением граждан, негативно относящихся к перспективам цифровизации выборов. Гораздо больше их тревожит деанонимизация их электоральных предпочтений, поскольку в случае утечки информации данные о том, как и за кого они голосовали, будут доступны не только властям, но и совершенно посторонним лицам. О. Ю. Волков и А. С. Кондратьев полагают, что такие опасения базируются на имеющемся негативном опыте: на форумах и чатах предлагается несанкционированный платный доступ к базам данных таких электронных систем, как «Социальный мониторинг», «Безопасный город» и т.д. [4, с. 5].
Другим немаловажным фактором является переоцененность цифровых и сетевых технологий в контексте демократизации взаимодействия граждан и публичной власти. Надежды, возложенные на электронные технологии для повышения уровня гражданского участия, не оправдались. Впервые это отмечал М. Кастельс в своем масштабном исследовании, посвященном влиянию информационных технологий на жизнь общества: степень гражданского участия у людей, использующих Интернет, была не ниже и не выше, чем у других людей [7, с. 147]. Это подтверждается и реальной практикой электронного народовластия в странах Европы. Значительное влияние на активизацию взаимодействия граждан и публичной власти и повышение уровня электорального участия цифровые технологии оказали лишь на местных, муниципальных уровнях некоторых стран [15, с. 11].
России свойственны те же проблемы. Низкая вовлеченность граждан в избирательный процесс не решается внедрением цифровых институтов голосования, поскольку это институциональная проблема, и пути ее решения лежат за пределами цифровой демократии. Цифровые технологии создают возможности для повышения гражданского участия, но не прививают людям политическую культуру [8, с. 31]. Даже с введением цифровых избирательных участков, открывающих возможности для дистанционного голосования, явка избирателей принципиальным образом не изменилась [2, с. 25]. Официальная статистика по Электронному правительству также говорит о зачаточном состоянии реализации информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для становления цифровой демократии. К примеру, в 2021 году доля органов государственной власти и местного самоуправления, использовавших различные ИКТ, варьируется от 20,3 до 70,1 % [10].
Кроме того, существуют сложности и с развертыванием инструментов цифровой демократии. Электронные системы являются отличным инструментов для упрощения процесса голосования гражданам из отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Однако Россия не входит в число лидеров по доступности информационно-компьютерных технологий для граждан. Так, по состоянию на 2017 год, РФ занимает 45-е место (из 176) в Индексе развития ИКТ (ICT Development Index, IDI), составляемом Международным союзом электросвязи [1]. По данным Росстата, удельный вес телефонизированных населенных пунктов в общем числе сельских населенных пунктов на 2021 год составляет 77,7% [10]. То есть, как минимум 22,3% сельских населенных пунктов в России не являются телефонизированными. Подводя итог, отметим, что у России есть большой потенциал в развитии ИКТ, поскольку она обладает динамично развивающимся рынком электросвязи, однако на текущий момент этого недостаточно, чтобы говорить о развитом институте 6
цифровой демократии в нашей стране. Не вызывает сомнений, что для его дальнейшего прогресса крайне важна разработка новых правовых норм, однако же без укрепления технической инфраструктуры их применение на практике едва ли будет возможным.
Таким образом, цифровая демократия является довольно противоречивым институтом. С одной стороны, она несет в себе большой потенциал для укрепления демократии в целом, для улучшения реализации и защиты основных прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня гражданского самосознания и политического участия в управлении делами государства. С другой стороны, достаточно легко, поддавшись эйфории, возложить слишком большие надежды на первых этапах формирования цифровой демократии, что может привести не только к замедлению процесса цифровизации народовластия, но и к абсолютно противоположным результатам, таким как прямое нарушение конституционных прав граждан.
На данном этапе цифровая демократия в России, как и в большинстве стран мира, находится в начале своего пути. Законодательное регулирование этого вопроса ограничивается лишь установлением общих рамок и направлений развития цифровой демократии, а электронные средства реализации народовластия нуждаются в существенной доработке. Именно поэтому на данном этапе очень важно подойти к данному вопросу со всей внимательностью и осторожностью, не забывая при этом о защите и развитии традиционных средств народовластия. Идеи о полном переходе к прямой демократии слишком амбициозны и далеки от текущей реальности, чтобы строить долгосрочные планы.