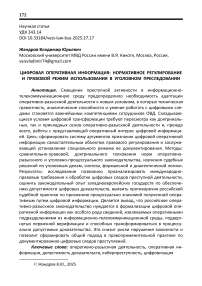Цифровая оперативная информация: нормативное регулирование и правовой режим использования в уголовном преследовании
Автор: Жандров В.Ю.
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-разыскная деятельность
Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.
Бесплатный доступ
Смещение преступной активности в информационно-телекоммуникационную среду предопределило необходимость адаптации оперативно-разыскной деятельности к новым условиям, в которых техническая грамотность, аналитические способности и умение работать с цифровыми следами становятся важнейшими компетенциями сотрудников ОВД. Складывающиеся условия цифровой трансформации требуют пересмотра как доктринальных, так и прикладных основ оперативно-разыскной деятельности и, прежде всего, работы с представляющей оперативный интерес цифровой информацией. Цель: сформировать систему аргументов признания цифровой оперативной информации самостоятельным объектом правового регулирования и заслуживающей установления специального режима ее документирования. Методы: сравнительно-правовой, доктринального толкования норм оперативно-разыскного и уголовно-процессуального законодательства, изучения судебных решений по уголовным делам, синтеза, формальной и диалектической логики. Результаты: исследование позволило проанализировать международно-правовые требования к обработке цифровых следов преступной деятельности, оценить законодательный опыт западноевропейских государств по обеспечению допустимости цифровых доказательств, выявить противоречия российской судебной практики по признанию процессуально значимой полученной оперативным путем цифровой информации. Делается вывод, что российское оперативно-разыскное законодательство нуждается в формализации цифровой оперативной информации как особого рода сведений, извлекаемых оперативными подразделениями из информационно-телекоммуникационной среды, подвергнутых первичной верификации и способных трансформироваться в процессуально допустимые доказательства. Это снизит риски нарушения законности и позволит сформировать общий подход в правоприменительной практике по документированию цифровых следов преступлений.
Оперативно-разыскная деятельность, оперативная информация, допустимость доказательств, киберпреступность, цифровизация
Короткий адрес: https://sciup.org/142245807
IDR: 142245807 | УДК: 343.14 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2025.27.17
Текст научной статьи Цифровая оперативная информация: нормативное регулирование и правовой режим использования в уголовном преследовании
Современное общество становится все более информационным, о чем свидетельствуют процессы всеобщей цифровизации, радикально изменившей не только формы коммуникации, но и характер преступной активности. Интернет перестал быть лишь пространством для поиска и передачи информации – он превратился в сложную операционную инфраструктуру, активно используемую для совершения, координации и сокрытия преступлений. По данным МВД России, в январе-декабре 2024 года количество зарегистрированных преступлений, совершаемых с использованием информационнотелекоммуникационных технологий (далее – ИКТ) увеличилось на 12,9 %1.
Правоохранительная деятельность в условиях цифровизации сталкивается с системным вызовом, обусловленным технологическим изменением природы оперативной и доказательственной информации. Расширение цифрового пространства, появление новых форм криминальных коммуникаций и цифровых следов радикально трансформируют как содержание, так и методы функционирования уголовной юстиции.
Информационно-телекоммуникационная среда (далее – ИТКС) формирует не просто новые формы преступности, но и новую операционную плоскость оперативно-разыскной деятельности (далее – ОРД), требующую интеллектуального, правового и технического переосмысления. Разворачивающаяся здесь криминальная деятельность характеризуется высокой латентностью, технической сложностью и трансграничным характером, что делает традиционные методы ОРД по сбору информации недостаточно эффективными [1, с. 22; 2, с. 57].
В условиях цифровизации оперативная информация все чаще приобретает электронную форму и поступает из нетрадиционных источников – Telegram-ботов, даркнета, криптовалютных сервисов, публичных утечек из всевозможных баз данных. В этой связи повышается значение работы с активными (оставляемыми сознательно) и пассивными (автоматически фиксируемыми системами) цифровыми следами – метаданными, логами, IP-адресами, хеш-суммами, сведениями о транзакциях и сессионными идентификаторами. На практике эти сведения, обладая высокой оперативной значимостью, зачастую оказываются
1 Сведения представлены в рамках расширенного заседания коллегии МВД России 5 марта 2025 года [Электронный ресурс]. URL: (дата обращения: 13.08.2025).
вне правового режима использования. Их нельзя отнести к доказательствам в процессуальном смысле, поскольку они не оформляются надлежащим образом, но также и не могут быть признаны традиционной оперативной информацией ввиду специфики способов их получения и фиксации. Возникает правовая коллизия: оперативно значимая информация существует, подтверждает преступную активность, но не получает доказательственной силы. Существование данной проблемы подтверждается как в теоретических исследованиях [3, с. 80], так и данными МВД России, согласно которым в 2024 году средняя раскрываемость преступлений, совершенных с применением ИКТ, составила лишь 22,5 %, а по отдельным составам не превысила и 2,2 %.
Одной из причин сложившейся ситуации является устаревший правовой механизм, регулирующий оперативно-разыскную деятельность. Нормы, детализирующие порядок получения, закрепления, хранения и легализации электронной информации отсутствуют. Федеральный закон «Об оперативнорозыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (далее - Закон «Об ОРД») не регулирует правовой режим оперативно значимой цифровой информации, не предусматривает формы получения, фиксации и верификации сведений из сети Интернет и других открытых электронных источников. Аналогичным образом УПК РФ не определяет понятие, процедуру фиксации и оценки цифровых следов, обнаруженных до возбуждения уголовного дела, что приводит к правовой неопределенности на стыке оперативных и следственных мероприятий. В условиях правового вакуума оперативные сотрудники вынуждены действовать по своему усмотрению, применяя различное программное/аппаратное обеспечение, предназначенное для обработки, хранения и передачи информации, а также обеспечения функционирования информационных систем (OSINT, парсинг, мониторинг даркнета, блокчейн-трекеры и др.) без четкой правовой процедуры и процессуального статуса полученных данных. При этом международная правовая практика давно движется в направлении адаптации к цифровой среде.
Развитие цифровых технологий и глобализация преступной деятельности обусловили необходимость международной гармонизации подходов к обработке цифровых следов преступной деятельности. В условиях, когда значительная часть электронных данных, имеющих значение для уголовного преследования, генерируется за пределами национальной юрисдикции, возникает задача формирования согласованных стандартов их получения, верификации и процессуального использования. При этом особое значение приобретают модели обращения с цифровыми сведениями, находящимися на стыке оперативно-разыскной и процессуальной деятельности, не имеющими формального статуса доказательств, но служащими их источником.
В международной правовой практике четко различаются три категории информации с разной степенью значимости для уголовного преследования: (1) непроверенная информация (англ. «knowledge in rawform») - используется для оценки рисков и формирования общего контекста ситуации, (2) разведыва- тельная информация (англ. intelligence) – оцененная, соотнесенная с другими данными и проверенная в контексте источника и соответствия действительности, служит инициированию расследования и принятия предварительных мер и (3) процессуально значимая информация (англ. evidence)21 – обретенная в форму доказательств и применяемая в суде при соблюдении строгих правовых и технических требований.
Согласно рекомендациям Управления ООН по наркотикам и преступности (далее – UNODC), сведения, полученные до возбуждения уголовного дела, могут быть допустимы в суде лишь после их надлежащей трансформации. Такая трансформация включает участие сертифицированного специалиста, верификацию источника информации, подтверждение ее целостности и неизменности, включая использование методов хеширования и журналирования всех действий3 2 . Это необходимо для соблюдения принципов допустимости цифровых доказательств и исключения манипуляций или потери достоверности данных при их переходе из одной категории в другую.
Подход UNODC строится на признании цифрового следа как динамически изменяющегося феномена, требующего гибкой, но при этом проверяемой модели обращения. Так, в его Рекомендациях по запросу электронных доказательств за 2014 год подчеркивалась необходимость обеспечения целостности, аутентичности и верифицируемости цифровых данных для их включения в уголовно-процессуальное обращение43. В Практическом руководстве по запросу электронных доказательств за рубежом (2022)54 сделан акцент на разграничении оперативной и доказательственной информации и необходимости создания процедурного фильтра между ними. В частности, цифровая информация, полученная из даркнета или мессенджеров, может служить основанием для возбуждения уголовного дела, однако включается в доказательственную базу лишь после прохождения процедурной трансформации, которая основывается на судебном санкционировании и участии квалифицированного специалиста. Такая модель направлена на обеспечение допустимости и достоверности цифровых доказательств, минимизацию рисков нарушения процессуальных норм и сохранение баланса между оперативностью и законностью.
В свою очередь, Совет Европы, начиная с Будапештской конвенции о киберпреступности (2001), выступает за признание цифровых следов как объектов особого правового режима6 1 . Конвенция и ее Второй дополнительный протокол (2022) закрепляют основные принципы срочной фиксации (англ. preservation), изъятия, трансграничного доступа и защиты цифровой информации. Кроме того, в рамках Cloud Evidence Group (2016) были сформулированы базовые стандарты обращения с цифровыми следами, включая соблюдение процедуры получения доказательств, непрерывную цепочку хранения (англ. chain of custody ) , прозрачность процессов и обязательный судебный контроль7 2 . Указанные документы создают правовую основу для унификации подходов к допустимости цифровых доказательств и обеспечению их надежности в международном сотрудничестве по борьбе с киберпреступностью.
Одним из наиболее институционализированных примеров разграничения разведывательных данных и доказательственной информации служит североамериканская правовая модель. В США применяется механизм «исключения доказательств» (exclusionary rule), согласно которой информация, полученная с нарушением порядка ее сбора, признается недопустимой. Согласно Stored Communications Act (1986)83 и CLOUD Act (2018)94 любой доступ к цифровой информации требует получения ордера, санкционированного судом. Эта позиция подтверждена решениями Верховного суда США по делам Carpenter v. United States (2018)105 и Riley v. California (2014)1167. Прецеденты определили, что сбор геолокационных и иных метаданных без ордера нарушает Четвертую поправку к Конституции США12. Таким образом, только информация, полученная с соблюдением процедурной формы, признается допустимой в суде.
В странах Европейского союза допустимость цифровых доказательств основывается на принципах обеспечения подлинности и непрерывности хранения данных, обязательного получения судебной санкции и привлечения независимого эксперта к процессу сбора цифровых следов, что соответствует правовым стандартам, закрепленным Советом Европы13 2 . Например, в Германии вопросы сбора и допустимости цифровых следов определяются положениями Уголовно-процессуального кодекса (StPO), в частности, §§100a–g14 3 , которые определяют порядок получения телекоммуникационной и электронной информации в рамках уголовного процесса.
В Великобритании допустимость и достоверность цифровых доказательств регулируются техническими стандартами, изложенными в руководстве ACPO15 4 и государственной Стратегии по цифровой криминалистике16 5 .
Кроме того, в западноевропейских странах действуют форензик-протоколы, предусматривающие обязательное соблюдение стандартных процедур: создание точных цифровых копий, использование сертифицированных инструментов анализа, логирование всех действий и ведение подробных технических отчетов (англ. forensic reports)17 6 .
Особое внимание уделяется защите оригинала цифрового объекта и воспроизводимости всех этапов анализа, что соответствует международным требованиям и рекомендациям, изложенным в стандарте ISO/IEC 27037:201218 7 .
Данный документ представляет собой свод руководящих принципов по идентификации, сбору, получению и сохранению цифровых доказательств. Он устанавливает единые требования к обращению с цифровыми объектами в целях обеспечения их аутентичности, целостности, воспроизводимости и допустимости в судебных и административных процедурах. В соответствии с рассматриваемым стандартом особое внимание следует уделять принципу минимального вмешательства в оригинал цифрового объекта, ведению непрерывной и достоверной цепочки хранения, использованию сертифицированных средств анализа, а также разграничению ролей участников процесса: от лица, первым получившего доступ к цифровому носителю, до эксперта, производящего анализ.
Документ дает конкретные рекомендации по подготовке, обучению и проверке квалификации специалистов, вовлеченных в обработку цифровых доказательств. В нем подчеркивается необходимость документирования всех действий, включая фиксацию времени, места, методов и инструментов, примененных на каждом этапе. Стандарт также вводит понятие «обоснованной целостности» (англ. reasonable integrity), предполагающее возможность независимого воспроизведения всех процедур третьей стороной.
В целях обеспечения объективности и проверяемости ISO/IEC 27037:2012 требует составления технических отчетов, которые могут быть представлены в суде в качестве доказательств правильности проведенных действий. Документ ориентирован не только на правоохранительные органы, но и на организации, занимающиеся инцидент-реакцией и корпоративными расследованиями. Указанные положения делают стандарт универсальной основой для построения национальных форензик-протоколов. В комплексе с ним применяется стандарт ISO/IEC 2705019, касающийся электронного представления и анализа цифровой информации в правовом контексте. Оба документа закрепляют обязательность идентификации источника, подтвержденной цепочки хранения, технической неизменности объекта и участия квалифицированных специалистов при его обработке. Эти стандарты признаются во многих странах как ориентир для выработки регламентов, обеспечивающих надлежащую процедуру обращения с цифровыми доказательствами.
Значение международного опыта для российской правовой системы заключается не столько в возможности прямого заимствования, сколько в выработке модели, адаптированной к национальным реалиям. В условиях, когда УПК РФ и Закон об ОРД не содержат понятия цифрового следа и не определяют процедуру его легализации, зарубежные практики предоставляют ценные ориентиры: институционализация статуса цифровой информации, пошаговая трансформация ее в доказательственную, судебный контроль, соблюдение процедурной преемственности, техническая достоверность и защита прав субъектов.
Отправной точкой разработки отечественной модели обращения с цифровой информацией должно стать ее признание в качестве самостоятельного объекта нормативного регулирования и разработки, соответственно, правового режима ее использования. Это должно стать стратегической задачей для российской системы, где цифровая оперативная информация пока используется преимущественно в обход нормативных процедур и без должной гарантии достоверности.
Современные условия цифровизации преступной среды требуют переосмысления существующего понятийного аппарата ОРД. Классические подходы, выработанные в рамках аналогового оборота информации, теряют применимость в отношении сетевых, анонимных и распределенных цифровых форм преступности. На этом фоне все чаще встает вопрос о необходимости выделения нормативного оформления «цифровой оперативной информации» (далее – ЦОИ) как особого рода сведений, извлекаемых оперативными подразделениями из информационно-телекоммуникационной среды до возбуждения уголовного дела. Она должна быть закреплена в Законе об ОРД как самостоятельный вид информации, получаемой в цифровой среде, зафиксированной техническими средствами, подвергнутой первичной верификации и способной в последующем трансформироваться в процессуально допустимое доказательство. В противном случае, без законодательного признания такого переходного статуса оперативная практика обречена на правовую недееспособность, а следственная – на доказательственные риски.
В отсутствии правового режима ЦОИ российская правоприменительная практика сталкивается с противоречием: с одной стороны, цифровая информация необходима для эффективного расследования, с другой – она не вписывается в рамки существующего правового инструментария. Это подрывает как эффективность следствия, так и устойчивость судебных решений, основанных на такой информации.
Проблема надлежащей фиксации цифровых следов особенно актуальная для этапа доследственной проверки. Сведения, полученные в ИТКС, активно используются следственными органами как источник инициативной информации о криминальном событии – на основании ст.ст. 140–145 УПК РФ они могут служить основанием для возбуждения уголовного дела при оформлении их в рапорте, заключении специалиста либо приобщении к сообщению о преступлении. Это особенно характерно для оперативных подразделений полиции, в чьи функциональные задачи, в первую очередь, входит именно выявление преступлений. Тем не менее, отсутствие процессуальной формы и стандартов оценки достоверности цифровой информации создает риск признания ее недопустимой в качестве доказательства.
Российская судебная практика демонстрирует противоречивость в подходах к допустимости цифровых следов. Одни суды признают допустимым исследование локально доступной информации на изъятых устройствах (скриншотов переписок, данных мониторинга сайтов, лог-файлов) без отдельного разрешения, но при наличии протокола осмотра, заключения специалиста и хеш-сумм201. В то же время, отдельные региональные суды занимают более жесткую позицию, исключая доказательства, полученные без санкции суда, если речь идет о сетевых или операторских данных21. Следует отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации223, как и Верховный Суд Российской Феде-
-
20 Об отказе в жалобе адвоката Решетина М. В. на приговор Увельского районного суда Челябинской области на нарушение положения ч. 5 ст. 186.1 УПК РФ и ч. 6, 7 ст. 186 УПК РФ : апелляционное определение Челябинского областного суда от 30 мая 2016 г. № 10-2537/2016 // Доступ из электронной базы судебных актов, решений и нормативных документов SudAct.ru [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 18.08.2025); Об отказе в удовлетворении ходатайства следователя по особо важным делам о разрешении производства осмотра мобильных телефонов, изъятых в ходе производства обыска в жилище : апелляционное постановление Приморского краевого суда от 2 февраля 2015 г. № 22-455/15 [Электронный ресурс]. URL: http://docs.pravo.ru/document/view/68631850/ (дата обращения: 18.08.2025); Новиков А.В. Использование переписки в мессенджерах в качестве доказательств: анализ судебной практики // Адвокатская газета . – 2022. – № 6. [Электронный ресурс]. URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/ispolzovanie-perepiski-v-messendzherakh-v-kachestve-dokazatelstv-analiz-sudebnoy-praktiki/ (дата обращения: 18.08.2025).
-
21 Об отмене постановления в части отказа удовлетворить жалобу на осмотр SMS-сообщений без судебного решения : кассационное определение Омского областного суда от 24 мая 2012 г. № 22-2225/12 // Доступ из электронной базы судебных актов, решений и нормативных документов SudAct.ru [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения 18.08.2025); О признании недопустимыми протоколов осмотра телефонов, составленных следователем без судебного разрешения : приговор Курганского городского суда Курганской области от 25 июня 2014 г. по делу № 1-230/2014 [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде РФ : сайт. URL: _id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 18.08.2025); О признании недопустимыми доказательств, получение детализации телефонных соединений через «личный кабинет» без судебного решения : приговор Каргапольского районного суда Курганской области от 31 октября 2017 г. по делу № 1-51/2017 // Доступ из электронной базы судебных актов, решений и нормативных документов SudAct.ru [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 18.08.2025).
рации23 1 допускают возможность осмотра и исследования переписки, хранящейся локально на изъятом устройстве, без отдельного судебного разрешения, при условии соблюдения процессуальной формы и гарантий сохранности. Такое расхождение подтверждает правовую уязвимость цифровых сведений, получаемых на досудебных стадиях, и отсутствие единообразных стандартов их допустимости.
Отсутствие единообразия в судебной практике по этому вопросу лишь подтверждает правовую уязвимость цифровых сведений, полученных в досудебный период.
Особую проблему составляет риск ретроактивной легализации цифровых следов, когда информация о цифровых следах, полученная вне процессуальных процедур (например, в ходе оперативных мероприятий), впоследствии подменяется следственными действиями – повторной выемкой, фиксацией, привлечением специалиста. Это нарушает принцип допустимости доказательств и противоречит запрету использовать те, которые получены незаконным путем, который закреплен в международной практике и подтвержден правовыми позициями Европейского суда по правам человека24.
Среди практических механизмов, применяемых для легализации цифровой информации, можно выделить несколько вариативных сценариев. Первый – повторная фиксация информации через процессуальные действия: осмотр сайтов, переписки, цифровых носителей. Второй – оформление заключения специалиста по ранее полученной информации. Третий – приобщение цифровых следов к рапорту оперативного сотрудника как приложение к сообщению о преступлении. Четвертый – фиксация цифровой информации в рамках провер- ки сообщений по ст. 144 УПК РФ. Эти подходы позволяют формально легализовать цифровую информацию как оперативную, но не решают проблемы отсутствия ее нормативного статуса и процедурной преемственности.
Традиционно в научной и правоприменительной литературе оперативная информация определяется как совокупность сведений, представляющих интерес для предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, а также розыска лиц, скрывающихся от следствия или отбывания наказания. Так, по определению Д.В. Гребельского, - это первичные и выводные данные о лицах, преступных фактах, состоянии сил и условий ОРД [4, с. 62]. Н.А. Губанова подчеркивает, что оперативная информация представляет собой данные, специфичные по цели, методу получения и режиму применения, подлежащие проверке и доступные только уполномоченным субъектам ОРД [5, с. 71]. Позицию о семиотических и логико-прагматических аспектах информации также развивают Б.Я. Советов, С.С. Овчинский [6] и др. Таким образом, по своему значению «оперативная информация» в российской терминологии сопоставима с «intelligence» - категорией разведывательной информации в международной классификации. В свою очередь, «цифровая оперативная информация» может быть определена как сведения (сообщения, данные), полученные в рамках оперативно-разыскной деятельности из цифровой среды (включая сеть Интернет, даркнет, мессенджеры, блокчейн-структуры), зафиксированные в электронной форме, обладающие оперативной значимостью и потенциальной пригодностью для использования в уголовном процессе после прохождения процедуры легализации.
Формализация цифровой оперативной информации позволит отграничить ее от иной информации уровня оперативной осведомленности, представляющей собой предварительные, часто непроверенные сведения. Скриншоты, логи, блокчейн-отчеты и другие сведения могут обладать значительной фактической ценностью, однако вне надлежащей процедуры фиксации оказываются лишены юридической силы. Отказ от юридического разграничения этих категорий информации приводит к ситуации, при которой цифровые следы могут использоваться на этапе разработки, но не включаются в дело как допустимые доказательства [1, с. 72]. В подобной логике рассуждений цифровую оперативную информацию следует рассматривать как промежуточную категорию, находящуюся между имеющей оперативное значение информацией и электронными доказательствами. В отличие от первой, она технически надлежащим образом зафиксирована и обладает потенциальной доказательственностью, т.е. способностью трансформироваться в надлежащее доказательство. В то же время ЦОИ отличается от вещественных доказательств, так как не имеет материального воплощения, существует исключительно в виде цифрового сигнала или массива данных и требует специальных технологий анализа. Ее статус должен быть связан с определенной процедурой сбора и сопровождаться обязательными требованиями к верификации.
Включение цифровой оперативной информации в структуру нормативного регулирования позволит упорядочить действия оперативных подразделений, создать правовую форму для систематического использования цифровых данных и устранить правовую неопределенность, препятствующую легитимному применению таких сведений в уголовном процессе. В противном случае, процессуальная недопустимость цифровых следов часто вызвана не их ненадежностью, а отсутствием закрепленных процедур обращения с ними [1, с. 72].
Подобного рода «институализация» ЦОИ позволит снизить риски нарушения законности, которые в настоящее время остаются высокими. В первую очередь, это угроза расширительной интерпретации прав оперативных органов на сбор цифровых данных без достаточных оснований и судебного контроля. Возможность получения информации из мессенджеров, даркнета и социальных сетей без ведома пользователя требует баланса между эффективностью преследования и сохранением конституционных гарантий тайны личной жизни, переписки и информации (ст. 23–24 Конституции Российской Федерации). Особую опасность представляет собой практика обращения с цифровой информацией вне рамок уголовного процесса – без ее надлежащей фиксации, хеширования и верификации. Такая информация, оставаясь вне правового поля, формирует так называемый «теневой оборот» цифровых сведений, не обладающих юридическим статусом. Это ведет к подмене установленной уголовнопроцессуальной процедуры неформальными оперативными действиями, нарушая принципы допустимости и проверяемости доказательств. В результате подрывается доверие к правосудию и создаются условия для произвольного вмешательства в частную жизнь граждан, не обеспеченного судебным контролем и правовыми гарантиями.
Таким образом, надлежащее обращение с цифровой информацией в современных условиях становится ключевым элементом оперативно-разыскной и процессуальной деятельности. Установление правового режима фиксации и последующего использования ЦОИ устранит риск произвольного использования цифровых следов, обеспечит защиту прав сторон, повысит предсказуемость судебных решений и укрепит легитимность доказательной базы по делам, связанным с цифровой преступностью. Признание ее нормативного статуса позволит легализовать эффективные методы анализа цифровой среды, обеспечить трансформацию фактической информации в правовую форму и сохранить баланс между интересами государства и гражданина. Нормативное оформление ЦОИ как промежуточной категории формирования электронных доказательств представляется необходимым шагом на пути к созданию целостной модели работы с цифровыми следами в российской системе ОРД и уголовного судопроизводства.