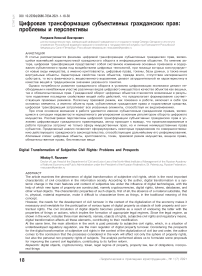Цифровая трансформация субъективных гражданских прав: проблемы и перспективы
Автор: Разуваев Н.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (7), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен цифровой трансформации субъективных гражданских прав, являющийся важнейшей характеристикой гражданского оборота в информационном обществе. По мнению автора, цифровая трансформация представляет собой системное изменение основных признаков и содержания субъективного права под воздействием цифровых технологий, при помощи которых конструируются новые виды имущества, а именно криптовалюты, цифровые права, токены, базы данных, а также иные виртуальные объекты. Характерные свойства таких объектов, прежде всего, отсутствие материального субстрата, то есть физического, вещественного выражения, делают затруднительной их характеристику в качестве вещей в традиционном значении указанного понятия.Однако потребности развития гражданского оборота в условиях цифровизации экономики делают необходимым и неизбежным участие различных видов цифрового имущества в качестве объектов как вещных, так и обязательственных прав. Гражданский оборот цифровых объектов становится возможным в результате наделения последних свойствами вещей либо действий, что предполагает формирование соответствующих правовых режимов. Поскольку правовой режим, как показано в работе, включает в себя три основных элемента, а именно объекты прав, субъективные гражданские права и нормативные средства, цифровая трансформация затрагивает все указанные элементы, способствуя их видоизменению.При этом основное внимание в работе уделяется именно субъективным гражданским правам, являющимся в ситуации неразвитости нормативного регулирования основным регулятором оборота цифрового имущества. Рассматривая перспективы цифровой трансформации субъективных гражданских прав в условиях цифровизации гражданского правопорядка, автор приходит к выводу, что проанализированные в работе процессы затронут не только сферу имущественных прав, но и личные неимущественные права субъектов. Проделанный анализ позволяет сформулировать некоторые предложения по совершенствованию действующего гражданского законодательства, способствующие дальнейшему его реформированию.
Цифровые объекты, криптовалюта, токен, правовой режим имущества, вещное право, обязательственное право, бестелесные вещи
Короткий адрес: https://sciup.org/14121173
IDR: 14121173 | DOI: 10.22394/2686-7834-2021-1-18-38
Текст научной статьи Цифровая трансформация субъективных гражданских прав: проблемы и перспективы
1. Введение СТАТЬИ
Среди примет современной эпохи, привлекающих к себе повышенное внимание, наиболее примечательным и активно обсуждаемым является становление цифрового общества, повлекшее за собой глубокие изменения в самых разнообразных областях человеческой жизни, в том числе регулируемых правом. Цифровое общество в самом общем смысле можно определить как стадию эволюции постиндустриальной цивилизации, характеризующуюся ускоренной динамикой высоких технологий и проникновением их результатов не только в науку, производство, образование, управленческую деятельность, но и в повседневный массовый обиход.
Распространенность информационных технологий на текущем этапе развития цифрового общества в числе прочего породила оживленные дискуссии, ведущиеся в специальной литературе по вопросу о соотношении самих понятий «информационное» и «цифровое» общество. Так, по мнению большинства исследователей, цифровое общество является синонимом либо особым качественным состоянием информационного общества, характеризующимся диджитализацией социальных процессов и высоким уровнем развития цифровых технологий. Вместе с тем некоторые авторы, в том числе М. Кастельс, различают указанные понятия, рассматривая цифровое общество как особый, «пост-информационный» тип сообщества, членами которого являются или потенциально могут являться как человеческие существа, так и цифровые организмы, обладающие искусственным интеллектом1. Для юриста, впрочем, эта дискуссия имеет значение лишь постольку, поскольку способствует лучшему пониманию социального контекста, определяющего динамику правопорядка, о чем судить пока рано, несмотря на высказываемые подчас предложения в законодательном порядке наделить правосубъектностью кибернетические устройства2.
Согласно всеобщему признанию, важным фактором распространения знаний и технологий стала сеть Интернет, развитие которой породило совершенно новую систему коммуникаций и коренным образом трансформировало ранее существовавшие способы общения. Появление цифровых средств связи не только предельно расширило возможности передавать информацию неограниченному кругу участников общения, создав условия их максимальной взаимозависимости3, но и, как представляется, изменило природу самой информации. Информация, долгое время рассматривавшаяся в качестве особого вида реальности, отличного от материи и энергии4, эволюционирует на наших глазах, приобретая свойства вещей, а в ряде случаев — даже биологических объектов, о чем свидетельствует сам термин «цифровой организм» ( digital organism ), используемый зарубежными авторами5.
Рассмотренными тенденциями объясняются инновации, получившие развитие в контексте цифрового общества и требующие своего осмысления в указанном контексте. Речь идет о внедрении цифровых технологий в экономическую, политическую и культурную сферы. Одной из таких технологий, приобретшей в последнее время универсальный масштаб, является блокчейн, первоначально использовавшийся для финансовых операций при безналичных расчетах в системе «Биткоин»6. Довольно быстро, однако, блокчейн, благодаря ряду своих параметров, прежде всего децентрализованности и компактности, позволяющей оперировать большими объемами информации, сводя к минимуму вероятность их случайного либо намеренного повреждения или утраты, превратился в базовую модель, применяемую в различных секторах экономики. Впрочем, как показывает практика, безопасность данной технологии также является относительной и обладающей уязвимостями, о чем свидетельствует недавняя афера с криптовалютами, являющаяся крупнейшей за всю историю электронных расчетов7. Итоги этой масштабной махинации предостерегают про-
СТАТЬИ
тив излишнего оптимизма, связанного с цифровыми технологиями, и одновременно фиксируют появление новых вызовов информационной эпохи.
Несмотря на обнаружившиеся недостатки, можно тем не менее утверждать, что важное преимущество рассматриваемой модели состоит в ее способности включать в себя виртуальные феномены (в частности, криптовалюту), как если бы они были реальными, тем самым обеспечивая их доступность для воздействия со стороны субъектов хозяйственной деятельности. Одновременно децентрализованность и способность к саморазвитию технологии блокчейн делают ее практически идеальным инструментом, используемым в условиях потенциальной нестабильности, естественным образом присущей финансовым, а также все в большей мере и иным рынкам8. Очевидно, однако, что в современных условиях непредсказуемость и стихийность перестали быть свойствами одних лишь финансовых рынков, но проявляют себя всюду, где присутствует человеческий фактор, — от управления корпорациями до голосования на избирательных участках, от образования до медицины, что обусловило широкую востребованность блокчейна и иных цифровых моделей в самых различных сферах деятельности.
Нетрудно, однако, заметить известную гипертрофированность ожиданий, связываемых с цифровыми технологиями. Между тем, как верно было отмечено, любые трансформации общества (и цифровая трансформация в том числе) должны восприниматься в контексте принципа неопределенности, лежащего в основе социальных процессов9. Суть данного принципа состоит в том, что любые воздействия на социальную систему не только повышают степень ее упорядоченности (снижение энтропии), но и неопределенность системы в целом, порождая непрогнозируемые и далеко не всегда позитивные последствия.
Эти последствия требуют новых, более сложных воздействий, которые в перспективе порождают новую неопределенность, влияющую на функционирование системы в изменившихся условиях10. Так, широкомасштабные меры по ограничению социальных контактов в целях противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2, предпринимаемые во всем мире, имеют своим косвенным, но весьма важным последствием распространение цифровых средств коммуникации, в свою очередь, ведущее к качественной трансформации социальной реальности.
Сформулированные соображения в значительной мере относятся также и к праву, выступающему, как известно, универсальным регулятором общественных отношений, а следовательно, те изменения, о которых шла речь, в первую очередь проявляют себя именно здесь. Не будет преувеличением полагать, что глобальные тенденции развития правопорядка в цифровую эпоху свидетельствуют о наступлении нового этапа эволюции правопорядка, характеризующегося изменениями на всех уровнях. Прежде всего, речь идет о появлении новых виртуальных объектов правовых отношений, объективно способствующих цифровой трансформации природы субъективных прав, составляющих содержание соответствующих отношений.
В плане нормативного регулирования цифровая трансформация субъективных прав приводит к структурным изменениям системы права и возникновению институтов как частного, так и публичного права, совокупность которых уже сейчас некоторые ученые предлагают рассматривать в качестве новой комплексной отрасли действующего российского законодательства11. Таким образом, процессы цифровизации дают уникальное подтверждение идеи, которая ранее могла обосновываться лишь в диахронной ретроспективе. Речь идет о том, что любые глобальные эволюционные изменения правопорядка вначале стимулируют возникновение новых субъективных прав (либо трансформацию существующих прав, наполняющую их новым содержанием), которые в дальнейшем получают типизацию и закрепление на нормативном уровне.
СТАТЬИ
Этим объясняются как актуальность проблемы цифровой трансформации общества для циви-листической науки, так и необходимость рассмотрения основных тенденций цифровизации гражданского права и гражданского оборота, о которых пойдет речь в настоящей статье. С учетом вышеизложенного цель настоящего исследования состоит в том, чтобы проследить, как с появлением новых объектов социальной действительности (а именно виртуальных, цифровых объектов) изменяются правовые режимы их участия в имущественном обороте. Причем эти изменения, вначале проявляясь в трансформации природы и сущности субъективных гражданских прав, представляющей для нас наибольший интерес, в дальнейшем закрепляются и в системе гражданского права, то есть на нормативном уровне.
Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи:
1) рассмотрены новые виды объектов гражданских прав, а именно цифровые права и иные цифровые активы, их физическая и юридическая природа;
2) исследована специфика правового режима гражданского оборота цифровых активов, в том числе отличия последнего от правового режима «традиционных» имущественных благ;
3) проанализирован характер и основные особенности трансформации субъективных гражданских прав, объектами которых выступают цифровые активы;
4) предпринята попытка рассмотреть основные тенденции развития системы гражданского права в условиях становления информационного (цифрового) общества.
2. Объекты гражданских прав в условиях цифровизации имущественного оборота
Представляется, что решение указанных задач имеет значительный научный интерес, поскольку дает возможность подтвердить сформулированную нами гипотезу, в соответствии с которой процесс эволюции правового регулирования как в синхронном, так и в диахронном измерениях последовательно включает в себя стадии возникновения новых социальных благ, их опосредствования в виде правопритязаний и субъективных прав участников отношений, влекущего за собой появление соответствующих правовых институтов, что, в свою очередь, приводит к структурной перестройке всей системы объективного права.
Вызовы цифровой эпохи в числе прочего требуют законодательных решений, определяя круг задач, стоящих перед правом на современном этапе развития. При этом важнейшей задачей остается совершенствование механизмов реализации и защиты субъективных прав в условиях неопределенности социальной реальности. Непреходящую актуальность этой задачи отмечает В. Д. Зорькин, по мнению которого, «большие данные и искусственный интеллект как открывают для юридического сообщества окно возможностей, так и ставят нас перед угрозой потери самого духа права и его гуманистической сущности, неотделимой от этого феномена, учитывая, что право — это прежде всего разновидность именно социальных норм, т. е. это прежде всего права человека как члена социума»12.
Поскольку цифровизация особенно глубоко затронула сферу экономики, можно с уверенностью сделать вывод, что рассматриваемая проблематика обладает наибольшей научной и практической значимостью именно для гражданского права. Виртуализация социальных явлений способствует появлению новых объектов прав, что требует максимально эффективного обеспечения их участия в гражданском обороте. В подтверждение сказанному можно указать на ст. 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации13, введенную Федеральным законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ14, предусмотревшую такой объект, как цифровые права, представляющие собой названные в таком качестве законом обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам15.
СТАТЬИ
Вместе с тем очевидно, что совокупность цифровых объектов, а также складывающихся по их поводу отношений далеко не исчерпывается (и, на наш взгляд, даже не проясняется) указанной дефиницией, лишь в самом общем виде намечающей проблемное поле правового регулирования. При этом нуждается в конкретизации, во-первых, характер самих цифровых прав, прежде всего вопрос о том, являются ли они вещными или обязательственными правами. Во-вторых, специального изучения заслуживают юридическая и фактическая природа тех явлений, которые в действующем законодательстве именуются «цифровыми активами», «цифровым имуществом» и т. п., в том числе физические параметры, имущественная ценность, а также иные характеристики, без рассмотрения которых невозможно определить место цифровых активов в системе объектов гражданских прав.
Законодательные новеллы в данной области содержит Федеральный закон от 31.07.2020 № 252-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»16, вступивший в действие с 1 января 2021 г. Согласно ст. 2 указанного Федерального закона, к цифровым правам отнесены денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.
Таким образом, в гражданском законодательстве Российской Федерации утверждается подход, в соответствии с которым цифровые права имеют обязательственную природу. Иными словами, с точки зрения законодательства цифровые объекты представляют собой особого рода действия, совершаемые пользователями в виртуальном пространстве (а именно внесение записей в информационную систему), цифровые же права, в свою очередь, являются правами требования на совершение таких действий. Подтверждением указанного вывода служит ст. 8 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»17, выделяющая три группы утилитарных цифровых прав, а именно право требовать передачи вещи, право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности и право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.
Цифровые права стали предметом рассмотрения и в судебной практике, что при всей малочисленности решений свидетельствует о существовании не только отношений в данной области, но и коллизий между участниками гражданского оборота, требующих разрешения. Весьма примечательным в этом смысле является Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2020 № 01-АП-5933/18 по делу № А43-34718/2017. Данное постановление, на наш взгляд, свидетельствует об отсутствии устоявшегося понимания характера как сделок с цифровыми объектами, а именно биткоином, на имущественный характер которых ссылалась сторона дела, так и прав на эти объекты. Запутанность и неясность представлений обусловили сложность доказывания в суде факта принадлежности криптовалюты одному из участников сделки. Дополнительным источником затруднений послужило и отсутствие официального статуса криптовалют, что позволило суду отнести биткоин и иные криптовалюты к «особого рода денежным суррогатам»18.
Определение криптовалют как денежных суррогатов воспроизводится и в практике судов первой инстанции, например, в решении Приморского районного суда Санкт-Петербурга № 2-10560/2017 М-7339/2017 от 13.10.2017 по делу № 2-10560/201719. Данное решение, принятое, впрочем, еще до вступления в силу упомянутого Федерального закона № 34-ФЗ, свидетельствует о резко негативном отношении судебных органов к использованию криптовалют, характеризуемых как факторы роста теневой экономики, чему, вполне возможно, способствовало буквальное грамматическое толкование самого термина, включающего в себя приставку «крипто-» (от древнегреч. κρυπτός, «тайный», «секретный», «скрытный»). Аналогичной позиции начиная с 2014 г. придерживается Центральный Банк Российской Федерации, что прямо следует из информации ЦБ от 04.09.2017 «Об использовании частных “виртуальных валют” (криптовалют)»20.
СТАТЬИ
Напротив, Европейский ЦБ признает криптовалюты (в том числе биткоин) электронными деньгами, эмитируемыми в частном порядке и используемыми в качестве расчетного средства членами виртуального сообщества21. В зарубежных законодательствах также появляются нормы, регулирующие обращение криптовалют, свидетельством чему служат Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза № 2009/110/EC от 16.09.2009 «Об учреждении и деятельности организаций, эмитирующих электронные деньги, о пруденциальном надзоре за их деятельностью, а также об изменении Директив 2005/60/EC и 2006/48/EC и об отмене Директивы 2000/46/EC»22, ст. 4А Единообразного торгового кодекса США или ст. 200.2 титула 23 официального Свода кодексов, правил и положений штата Нью-Йорк (23 CRR-NY 200.2)23.
Рассмотренные факты свидетельствуют о системных трудностях, с которыми сталкиваются попытки интерпретации понятия цифровых объектов, равно как и установления их правового режима, под которым мы понимаем совокупность характерных для соответствующей отрасли средств правового регулирования, определяющих условия принадлежности и порядок оборота цифровых объектов как особой категории имущества. Основными компонентами правового режима, таким образом, выступают: 1) объекты прав, специфика которых обусловливает их оборотоспособность (ст. 129 ГК РФ), а также круг лиц, которым указанные объекты могут принадлежать на праве собственности либо ином вещном праве; 2) субъективные права, устанавливающие пределы возможности совершения различного рода сделок в отношении объектов; 3) правовые нормы, регулирующие оборот имущества и обеспечивающие охрану и защиту субъективных прав на него24.
С учетом того, что нормативное регулирование имущественных отношений, складывающихся по поводу цифровых объектов, в Российской Федерации находятся в зачаточном состоянии, представляется очевидным, что в настоящий момент перспективы правового регулирования в большей степени определяются, исходя из доктринального рассмотрения специфики цифровых объектов и субъективных прав на них, чем из положений закона. Познавательная ценность такого исследования, помимо прочего, вызвана нетипичностью для современного правопорядка самой модели, в рамках которой субъективные права в контексте жизненных ситуаций, порожденных общесоциальной динамикой, в регулятивном плане предшествуют своему нормативному закреплению. На первый взгляд, такая модель явно противоречит доктринальным положениям, прежде всего общепринятой концепции механизма гражданско-правового регулирования25.
Суть механистического подхода к гражданско-правовому регулированию состоит в том, что необходимым условием возникновения правоотношений (а следовательно, субъективных прав и обязанностей, составляющих их содержание) считается наличие нормы права, регулирующее воз-
СТАТЬИ
действие которой преобразует фактические отношения в отношения правовые26. Такое понимание имеет известные достоинства, однако именно в сфере гражданского права традиционная схема правового регулирования демонстрирует свою абстрактность и неполноту, игнорируя ситуации, когда субъективные права и обязанности участников правоотношения возникают в отсутствие нормы, являясь единственным регулятором поведения в данном конкретном случае.
Указанные ситуации становятся особенно распространенными в условиях стремительной динамики гражданского оборота, появления новых видов имущественных и личных неимущественных отношений, характерного для ситуации цифровой трансформации общества, позволяя видеть в субъективных правах и обязанностях основной источник правообразования в цифровом обществе. Напомним, что правотворчество посредством обобщения и типизации конкретных жизненных обстоятельств, а также субъективных прав, с ними связанных, было весьма распространено в диа-хронной ретроспективе. Свидетельствами тому являются сочинения римских юристов, посвященные анализу не столько общих правил, сколько фактических ситуаций (казусов), из которых выводились такие правила.
Особый статус доктрины как источника римского частного права способствовал унификации субъективных прав и обязанностей участников типологически сходных отношений, а также выработке единообразных принципов судебного разрешения споров между субъектами27. Это, в свою очередь, позволяло доктрине успешно выполнять регулятивную функцию даже в отсутствие общеобязательных правил поведения (норм). И несмотря на то, что в настоящее время доктрина практически утратила значение источника права, исторический опыт позволяет видеть в ней если не средство правового регулирования принципиально новых, не имеющих аналогов в существующем правопорядке отношений, складывающихся в том числе и по поводу цифровых объектов, то в любом случае создателя теоретических моделей, имеющих все шансы в скором будущем получить законодательное закрепление.
Вот почему заслуживают самого пристального внимания доктринальные исследования в сфере цифровых объектов, представляющие особый интерес с учетом специфики названной сферы, лежащей на границе технического и социального миров28. Приходится, впрочем, констатировать, что в литературе единства позиций по данному вопросу не наблюдается, что связано с устоявшимися представлениями о градации объектов различных видов субъективных прав29, во многом не отвечающей условиям цифровой эпохи. Так, большинство авторов (и, как можно было убедиться ранее, законодатель) считают цифровые права и иные виртуальные активы, подобно работам, услугам и денежным средствам, объектами обязательственных прав, руководствуясь таким их свойством, как отсутствие вещественного выражения30, тогда как к объектам права собственности и других вещных прав принято относить телесные и к тому же индивидуально определенные пред-меты31. Вместе с тем, по мнению Л. В. Санниковой и Ю. С. Харитоновой, будучи результатом интеллектуальной деятельности человека, информация является объектом интеллектуальных прав32, тогда как А. В. Лисаченко, со своей стороны, полагает, что цифровые объекты являются особой разновидностью имущества, не принадлежащей в чистом виде к числу вещей или действий33.
Несложно заметить, что многие доктринальные затруднения в квалификации природы цифровых прав и иных виртуальных объектов порождены схоластическими представлениями о свойствах вещей, в частности, об их сугубой «материальности», «индивидуальной определенности» и т. п. Многообразие объектов виртуального мира способствует переосмыслению этих представлений, причем не только с философских, но и с юридических позиций. Информация, не обладая материальными свойствами, является таким же предметом внешнего мира, как и вещи, что позволяет ей участвовать в гражданском обороте, выступая объектом имущественных, в том числе вещных прав.
СТАТЬИ
При этом структура информации включает в себя разнородные элементы, образующие сообщение, которое представляет собой единый объект. Такими элементами являются: во-первых, данные , имеющие характер кодированных сведений о действительных или мнимых событиях (фактах) в логическом пространстве реальности34; во-вторых, сигнал , представляющий собой материальный носитель данных, передаваемый по каналу связи; в-третьих, представление , т. е. чисто ментальное воспроизведение информации в сознании отправителя и получателя информа-ции35.
Важным свойством информации является парциальность, обеспечивающая возможность измерения в количественных единицах содержащейся в сообщении информации. Мера информации определяется формулой Хартли: I = K log2 N , где N является мощностью алфавита или количеством символов, используемых в нем, K — длина сообщения, а I — количество информации в битах36. Это позволяет каждой записи в базе данных выступать при наличии соответствующих технологий предметом юридически значимых действий, которые могут совершаться и в отношении обычных вещей, в том числе владения, передачи, потребления, фиксации принадлежности, защиты и т. п.37
Таким образом, современные технологии способствуют индивидуализации передаваемых сообщений с последующим установлением на них субъективных, в том числе вещных прав участников гражданского оборота. Более того, специфика подобного рода объектов, вплоть до минимальных платежных единиц (сатоси, равных 10–8 биткоина), используемых в пиринговой платежной системе, дает возможность проследить ее движение — от первой транзакции до последней, при этом сами участники таких транзакций остаются максимально анонимными, то есть, по сути, де-персонифицированными38. Проще говоря, в виртуальной реальности нередко складывается ситуация, при которой цифровое имущество (электронные деньги, доменные имена, игровое имущество, иные записи в базах данных) приобретает свое неповторимое индивидуальное «лицо».
Указанный процесс в целом соответствует отмеченной некоторыми авторами тенденции утраты вещами материального мира их предметных свойств под влиянием компьютерных технологий39. Одновременно владельцы цифровых активов в этом своем качестве чаще всего сохраняют обезличенность, анонимность, то есть происходит реверсия тех отношений между вещами и субъектами, которые имеют место в материальном мире. Наконец, и в плане ментальных представлений, соответствующих цифровым объектам, предметность последних не вызывает сомнений. В самом деле, если между участниками юридически значимой ситуации существует обоюдный консенсус относительно того, что нечто выступает предметом сделок, признаваемый сообществом в целом, то какова бы ни была природа такого предмета, его реальность в юридическом плане не будет нуждаться в дополнительном обосновании.
Собственно, подобная ситуация в последние десятилетия наблюдалась в отношении таких новых объектов, как бездокументарные ценные бумаги (сущность которых еще десять лет назад характеризовалась полной непроясненностью) и безналичные денежные средства, а в наши дни
СТАТЬИ
аналогичный статус sui generis имущества в значении легальной дефиниции ст. 128 ГК РФ приобретает виртуальная игровая собственность. Последняя, безусловно, будучи имуществом особого рода, становясь объектом складывающихся по поводу нее имущественных отношений, нуждается в правовом режиме, отвечающем требованию формальной определенности, в целом присущей праву40. Это означает, что рано или поздно «иное имущество» превращается либо в собственность, либо в предмет обязательственных требований, что, в свою очередь, способствует видоизменению содержания соответствующих субъективных прав, приобретению ими новых свойств, которые будут рассмотрены далее.
3. Система субъективных гражданских прав и ее цифровая трансформация
Первый и главный вывод, напрашивающийся из сказанного ранее, состоит в том, что повышение уровня социальной энтропии в условиях цифровизации общества, появление новых видов имущественных (а в перспективе и личных неимущественных) отношений и новых объектов увеличивают регулятивную значимость субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание правовых отношений. Представляется, что именно они в перспективе могут стать основой для формирования соответствующих правовых институтов на новом этапе развития правопорядка. Одновременно и сами эти права трансформируются в результате появления новых объектов, что приводит к изменению соотношения вещных и обязательственных прав, занимающих, как известно, центральное место в системе субъективных гражданских прав.
Результатом подобной трансформации, на наш взгляд, выступают и цифровые права, квалификация юридической природы которых предполагает два возможных подхода. Сторонники одного из них, руководствуясь положением ст. 128 ГК РФ, относящей цифровые права к категории «иного имущества», исходят из вещно-правовой природы данных объектов41. Такой точке зрения следует постановление Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 15.05.2018 по делу № А40-124668/2017, квалифицирующее цифровые активы как иное имущество в смысле приведенной выше легальной дефиниции42. Согласно другому мнению, цифровые права имеют обязательственно-правовую природу и, строго говоря, имуществом признаны быть не могут, а представляют собой требование к обязанному лицу или лицам внести в блокчейн запись о совершенной транзакции43. Полагаем, что данная проблема должна решаться не ad hoc , применительно к отдельному случаю, но исходя из общих признаков, различающих вещные и обязательственные права.
Как известно, дихотомия вещных и обязательственных прав отчасти была известна еще римскому праву, в котором использовались два вида исков: вещные ( actiones in rem ) для защиты принадлежности имущества и личные ( actiones in personam ) для защиты обязательственных тре-бований44. При этом как римское частное право, так и цивилистическая наука Древнего Рима не располагали развитым понятийным аппаратом, который бы обеспечивал доктринальное осмысление и практическое применение соответствующих категорий. В свете сказанного становится понятным то парадоксальное смешение абсолютных и относительных прав, столь наглядно проявившееся в категории jura in re aliena , куда включались наряду с предиальными сервитутами, являвшимися ограниченными вещными правами, права, имевшие чисто обязательственную природу45.
Например, к правам на чужие вещи (а именно к личным сервитутам) причислялись разные виды арендных отношений, лишь чисто формально отличавшиеся от договора locatio-conductio rei, в том числе usus, habitatio, operae servorum vel animalium и т. п. Весьма показательна в данном смысле конструкция эмфитевзиса, представлявшая собой практически полный аналог пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 216, 265–267 ГК РФ), притом что в литературе ее нередко определяют как «бессрочную аренду» земли. Об отсутствии, в том числе на доктринальном уровне, четкого понимания различия абсолютных и относительных субъективных прав свидетельствует в числе прочего неразличение способов передачи права собственности и прав требования. Как известно, в источниках применительно к передаче любых субъективных прав применялся термин cessio (точнее in iure cessio, то есть передача права в присутствии магистрата посредством фиктивного судебного процесса).
СТАТЬИ
Наряду с манципацией и традицией цессия в римском частном праве служила универсальным способом правопреемства, в то время как действующее законодательство (ст. 388 ГК РФ) определяет в качестве цессии лишь уступку права требования, то есть передачу субъективного обязательственного права. Отмеченная особенность означает, что римскими юристами не осознавалось такое свойство вещного права, как способность следования за объектом, в силу чего переход права собственности на имущество, равно как и передача самого этого последнего были невозможны без совершения активных действий как отчуждателем, так и приобретателем права.
В силу целого ряда социально-экономических, историко-правовых и интеллектуальных причин современный правопорядок характеризуется более четкой дифференциацией вещных и обязательственных прав как в содержательном, так и в юридико-техническом плане. Как следствие, происходит сокращение числа ограниченных вещных прав, а также конкретизация основных признаков, отличающих вещные права от обязательственных46. Указанная тенденция, наметившаяся в ходе трансформации правопорядка при переходе от одной стадии исторической эволюции к другой, нашла свое выражение в принципе закрытости перечня вещных прав ( numeris clausis ), который был закреплен в гражданских законодательствах ряда зарубежных стран47. В частности, появление новых видов вещных прав (в том числе на такие объекты, как доменные имена) при сохранении общего принципа numeris clausis констатируется учеными применительно к современному гражданскому праву Нидерландов48. К признанию ограниченного перечня вещных прав склоняются доктрина и судебная практика Швейцарии49.
Следует отметить, что некоторые авторы, скептически относясь к установлению закрытого перечня субъективных гражданских прав, полагали, что подобные ограничения возможны в условиях относительно статичного правопорядка с небольшим количеством типических правовых ситуаций и стабильным набором подлежащих урегулированию отношений, но не в современном обществе, где стремительно и постоянно изменяющиеся социальные реалии порождают огромное количество новых отношений и, следовательно, нетипичных субъективных прав50. Отсюда нередко делается вывод, что закрытый перечень субъективных гражданских прав представляет собой в большей степени законодательную фикцию, нежели реальное их свойство.
При этом не учитывается, что виды и признаки субъективных гражданских прав являются не условностью, установленной законодателем, но проявлениями объективно присущих им свойств, отражающих характерные особенности правопорядка. Подобно гражданско-правовым нормам, субъективные гражданские права конструируют правопорядок, фиксируя в юридически значимых формах как динамику, так и статику имущественного оборота социальных благ. В целях обеспечения формальной определенности, с необходимостью, присущей правопорядку, конструирование всех его элементов должно производиться максимально экономными средствами. Это позволяет уместить все многообразие объектов социального мира, увеличивающееся по мере его исторического развития, в относительно узком стандартизированном перечне субъективных гражданских прав. Одновременно происходит и типизация новых объектов прав, сопряженная с абстрагированием на юридическом уровне от конкретных особенностей, а также их оформление (в зависимости от условий правового режима) в качестве объектов вещных или обязательственных прав.
СТАТЬИ
Сказанным объясняется и способность субъективных гражданских прав к трансформации, которая позволяет охватывать все более широкий круг явлений, возникающих в общественной жизни, в том числе и таких «невозможных» в классическом понимании, как цифровые права и иные цифровые активы. При этом не следует, разумеется, отрицать и появление новых видов субъективных прав, однако, как представляется, эти новые права возникают в результате трансформации в ответ на новые потребности оборота содержания и признаков существующих субъективных прав. Так, например, большая группа сравнительно новых для отечественного гражданского права се-кундарных прав, получивших всестороннее рассмотрение лишь в самые последние годы51, стала результатом трансформации ряда обязательственных прав и их сближения с вещными правами. Это свидетельствует об активном взаимодействии указанных категорий, влекущем за собой многообещающие и далеко идущие последствия.
С развитием хозяйства в повседневный обиход входят новые явления, оборот которых требует комплексных правовых режимов, включающих в себя как вещные-правовые, так и обязательственно-правовые средства, что способствует сближению соответствующих видов субъективных прав, «плавному перетеканию» их друг в друга и в конечном итоге их трансформации52. Ускорившееся в цифровую эпоху взаимопроникновение вещных и обязательственных прав затрагивает обе эти сферы и, прежде всего, ограниченные вещные права, относительный характер которых уже давно констатировался юристами53, предлагавшими считать абсолютным в строгом смысле лишь право собственности, а все же остальные вещные права — смешанными, абсолютно-относительными54.
Следовательно, ничто в природе криптовалют, цифровых прав, иных цифровых объектов не препятствует им выступать объектами как вещно-правовых, так и обязательственно-правовых отношений. В зависимости от своих предметных свойств, а также от опосредствующих их участие в гражданском обороте правовых режимов цифровое имущество выступает как «вещами», обособленными от других объектов индивидуализирующими признаками, так и действиями, предполагающими обязательственные требования к их совершению. Как следствие, такое имущество получает свое юридическое закрепление либо в вещных, либо в обязательственных правах.
Так, например, токены, криптовалюта, доменные имена и аккаунты, виртуальная игровая собственность, обладая свойствами вещей, способны принадлежать участникам оборота на праве собственности или на ином вещном праве. С другой стороны, контент веб-ресурсов, большие данные (Big Data) и иная информация, а также электронные ценные бумаги, как правило, выступают объектами относительных, в том числе обязательственных прав, и к их обороту по преимуществу применяются соответствующие регулятивные средства. Сформулированный вывод, будучи, безусловно, верным по существу, требует некоторых важных оговорок. Дело в том, что природа рассматриваемых цифровых явлений в их как вещно-правовой, так и обязательственной «ипостасях» на практике нередко благоприятствует стиранию жестких (и во многом условных, даже в тех случаях, когда речь заходит об обычных вещах или действиях) границ между абсолютными и относительными правами, активному взаимодействию и сближению указанных видов субъективных прав. Думается, что именно в этом состоит наиболее значимая и интересная тенденция трансформации субъективных гражданских прав в цифровую эпоху.
Отмеченная тенденция проявляет себя в зарубежной практике регулирования обращения еще одной разновидности цифровых объектов, а именно токенов, или цифровых знаков55. В отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США от 25.06.2017 № 80207 токены в качестве баз данных ( data access objects ), используемой для учета цифровых денежных средств, определяются в соответствии с разделом 21 (a) Secure Exchange Act 1934 г. как имущественные активы, подлежащие налогообложению56, что получает обоснование в прецедентных решениях Верховного Суда
США57. Одновременно правоприменителями отмечается, что токены представляют собой разновидность ценных бумаг, закрепляющих обязательственные требования, а также цифровые платежные средства58. Следовательно, трансформируясь в результате диджитализации социальных отношений, обязательственные права не только сближаются с вещными правами по своим природе, сущности и содержанию, но и могут выступать объектами вещных прав, и наоборот, что особенно важно учитывать, говоря о гражданском обороте цифровых прав и иных цифровых объектов.
СТАТЬИ
На эту особенность обратил внимание М. И. Брагинский, рассматривая соотношение вещных и обязательственных прав в рамках предприятия как имущественного комплекса, включающего в себя, помимо прочего, права требования, долги, права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его работы и услуги, и иные исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором59. Предприятия в целом и отдельные их составляющие, в том числе обязательственные и иные права, могут являться объектами сделок, направленных на установление, изменение или прекращение вещных прав (п. 2 ст. 132 ГК РФ). В научных исследованиях последних лет констатируется распространенность ситуации, при которой предприятие как имущественный комплекс может включать в себя бездокументарные ценные бумаги и безналичные денежные средства, отчуждаемые при полной или частичной передаче предприятия60. По аналогии можно вести речь также о принципиальной возможности приобретения и отчуждения вещных прав на цифровое имущество (токены, криптовалюты, иные цифровые права, в том числе права требования), вытекающей из положений действующего гражданского законодательства.
Переход к постиндустриальной экономике, стимулирующий цифровизацию гражданского оборота, делает на практике все более обыденной ситуацией существование имущественных комплексов либо включающих в себя цифровые права в качестве составной части, либо даже полностью состоящих из цифровых прав. Логика правового регулирования предполагает признание таких комплексов в качестве предприятий не только фактически, но и законодательно. Применительно к рассматриваемому случаю это будет предполагать либо внесение изменений в п. 1 ст. 132 ГК (признающей в ее нынешнем виде предприятие недвижимым имуществом, каковым цифровые объекты не являются), либо пересмотр легального определения самого понятия вещи. Отметим, что отдельные шаги в указанном направлении уже предпринимаются в цивилистической доктрине. Всеобъемлющее рассмотрение «цифровых вещей» относительно недавно было предпринято В. В. Архиповым, введшим в исследовательский оборот понятие виртуальной собственности61.
Отсюда следует парадоксальный, на первый взгляд, вывод, вполне соответствующий рассмотренным тенденциям динамики сетевого общества, включающим в себя диджитализацию социальной реальности и появление так называемых «воображаемых ландшафтов», существующих исключительно в виртуальном пространстве62. А именно, если признать реальность цифровых вещей, являющихся объектами виртуальной собственности, вполне реальна и цифровая недвижимость, индивидуализирующие признаки которой определяются внесением соответствующей записи в электронный реестр. Такой шаг, оправданный практическими потребностями, на наш взгляд, будет способствовать преобразованию всей системы объектов гражданских прав и в конечном счете самих этих прав.
4. Тенденции цифровой трансформации субъективных гражданских прав
Таким образом, появление цифровых объектов, медленно и с трудом получающих закрепление на законодательном уровне, стимулирует цифровую трансформацию субъективных гражданских прав, которые в условиях отсутствия развернутой нормативной регламентации выполняют функцию основного регулятора складывающихся отношений. Сказанное, разумеется, не означает безого-
СТАТЬИ
ворочного утверждения первичности в регулятивном плане субъективных прав и обязанностей. Как нормы, так и субъективные гражданские права выступают необходимыми средствами организации правопорядка, упорядочивающими социальную реальность путем отбора юридически значимых ее компонентов и последних объединения в рамках правовой системы. Указанные средства способствуют минимизации неопределенности, объективно присущей неравновесным социальным процессам, снижая степень энтропии, характеризующей гражданский оборот, и тем самым выполняют конструктивистскую функцию63.
Важную роль в формировании правопорядка играют юридические конструкции, о которых ранее уже шла речь. В самом общем смысле они представляют собой обладающие обязательным характером высказывания о фактических обстоятельствах возможного, должного или запрещенного поведения субъектов регулируемых отношений. Таким образом, юридические конструкции создают предметное поле, в пределах которого осуществляется правовое поведение членов общества, оказывая косвенное регулирующее воздействие на само поведение. Следовательно, юридические конструкции, включающие в себя как нормы, так и субъективные права и обязанности участников, определяют базовые характеристики правовой реальности, в том числе гражданского оборота как одного из ее аспектов.
Их формально-логическая взаимосвязь с иными элементами правовой системы (прежде всего с правилами поведения различных уровней) обусловливает системную трансформацию правовой реальности, происходящую в результате образования новых конструкций, структурным ядром которых являются дефинитивные высказывания, или видоизменения конструкций уже существующих. Заметим, что все компоненты правовой реальности, входящие в состав рассматриваемых конструкций, обладают знаково-символическими свойствами, а значит, относительно независимы в своих юридических проявлениях от природы и сущности объектов природного или социального мира, выступающих референтами этих знаков.
Так, возвращаясь к приведенному выше примеру «виртуальной», или цифровой, недвижимости, поясним, что он вовсе не означает фиктивности последней или утраты ею своих физических свойств. Речь идет о появлении нового правового режима, базирующегося на соответствующей конструкции и включающего в себя новые субъективные права и связанные с ними юридические обязанности и, как результат, способ нормативного регулирования, выступающий новой моделью поведения для участников гражданского оборота. Если гипотетически допустить юридическое закрепление предприятия, включающего в себя только цифровые права, криптовалюту и иные цифровые объекты, то правовой режим такого имущества будет тождественным тому, который используется в отношении обычной недвижимости.
В частности, сведения о нем будут подлежать внесению в Единый государственный реестр недвижимого имущества, что предусмотрено ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»64, право собственности на данный объект возникнет после государственной регистрации (ст. 219 и 223 ГК РФ), а сделки станут совершаться в соответствии с общими правилами, предусмотренными для сделок с недвижимым имуществом (ст. 131 и 164 ГК) и т. п. При этом важно вновь подчеркнуть, что появление новых субъективных прав и создание правовых режимов цифрового имущества проистекают не из физической либо социальной природы вещей, но вызваны к жизни внутренней логикой развития правопорядка.
Сущностные свойства цифровых объектов конструируются юридическими средствами (нормами права, субъективными правами и обязанностями), которые устанавливают порядок и условия участия в обороте рассматриваемого вида имущества. Заметим, что такие ситуации были характерны для гражданско-правового регулирования и раньше. Появление любых новых видов имущества и, соответственно, новых отношений, складывающихся по их поводу, приводило к кардинальной перестройке правовых режимов и появлению новых правовых инструментов регулирования таких отношений, а также средств защиты прав и законных интересов их участников.
Так, по замечанию Л. А. Новоселовой, уже отчуждение ценной бумаги, приравнивая передачу документа к передаче удостоверяемого им права, создает новый правовой режим, качественно отличающийся от режима обращения материальных объектов (вещей)65. Еще более далеко идущие юридические и экономические эффекты вызывает отчуждение бездокументарных ценных бумаг, цифровых прав, информации, а также иных нематериальных объектов, приравнивающее передачу права, в том числе права требования по обязательству, к традиции вещи и передаче права собственности на нее. Представляется весьма поучительным опыт французского законодательства, в частности, Закона № 2016-1321 от 07.10.2016 о цифровой республике66, предусматривающего возможность для потребителей услуг электронной коммуникации требовать от интернет-оператора полного возврата принадлежащих им персональных данных по аналогии с виндикацией имущества из чужого незаконного владения67.
СТАТЬИ
Одновременно и сами субъективные права претерпевают трансформацию, состоящую в расширении круга возможностей их обладателей, детализации содержащихся правомочий и в появлении новых видов требований к обязанным лицам. Такую трансформацию субъективных прав, происходящую в контексте системных взаимосвязей всех элементов правового режима, вполне уместно будет определять как цифровую трансформацию68. Важнейшей предпосылкой последней выступает формирование цифровых правоотношений69, которые, будучи качественно новым элементом современного правопорядка, естественно, не могут целиком сводиться в содержательном плане к «обычным» субъективным правам, вещным или обязательственным70. Тем не менее, приравниваясь по своему правовому режиму к объектам вещных или обязательственных прав, цифровые активы вовлекаются в указанном своем качестве в гражданский оборот, способствуя трансформации соответствующих субъективных прав таким образом, чтобы обеспечить максимально полную и всестороннюю реализацию имущественных интересов участников.
В качестве иллюстрации сказанного приведем электронные ценные бумаги, аккумулируемые на брокерских счетах трейдеров фондовой биржи. Не имея традиционной документарной формы, хотя и обладая всеми необходимыми реквизитами, предусмотренными ст. 143.1 Гражданского кодекса, такие ценные бумаги утрачивают привязку к своему материальному носителю, становясь просто записями в электронных базах данных, что тем не менее не мешает им удостоверять наличие субъективных прав, каковыми обладает держатель любой ценной бумаги (право на участие в управлении корпорацией, на получение доли прибыли и доли в ликвидационном остатке, а также некоторые другие).
Как отмечается в литературе, «природа… ценной бумаги служит примером высокой степени абстракции, требующей отделения внешней формы, оболочки, каковой служит юридическая конструкция финансового инструмента, от его субстрата, то есть совокупности прав и обязанностей, оформленных и закрепленных в финансовом инструменте»71. Таким образом, в цифровую эпоху происходит развеществление многих активов, в частности, финансовых активов72, утрачивающих свою предметную форму, но при этом сохраняющих форму юридическую в виде соответствующих субъективных прав и обязанностей.
Очевидно, что данный процесс предполагает и трансформацию этих последних, призванную вовлечь в орбиту правовой реальности новые социальные блага, создав необходимые предпосылки для возникновения правовых отношений по поводу указанных объектов. Вместе с тем преобразование субъективных прав в результате появления новых объектов (в нашем случае цифровых активов) оказывает серьезное воздействие на всю структуру правопорядка, получая закрепление и на нормативном уровне. С принятием нормативно-правовых актов, регулирующих цифровые отношения, трансформация затрагивает систему объективного права, приводя к ее структурной перестройке, проявляющейся в возникновении новых правовых институтов, которые качественным образом трансформируют не только систему субъективных гражданских прав, но и процессы правового регулирования в целом.
СТАТЬИ
5. Выводы
Становление цифрового общества глубоко затронуло сферу правового регулирования в целом и регулирования гражданско-правового в частности. Важнейшим результатом рассматриваемых процессов стало появление цифровых объектов, представляющих собой базы данных, используемые в качестве виртуальных аналогов различных имущественных благ, находящихся в коммерческом обороте. Не будучи вещами в традиционном значении, цифровые объекты, вследствие редуцированности предметных свойств, обладают знаково-семиотической природой, что позволяет использовать их в качестве универсальных символических заместителей любых видов имущества. В настоящее время наиболее распространенным следует считать использование цифровых объектов в виде инструментов расчетов по транзакциям, совершаемым на товарных, фондовых, финансовых и иных биржах.
Цифровое имущество как феномен социальной реальности конструируется электронными средствами и существует в виртуальном пространстве, что тем не менее не препятствует субъектам взаимодействовать по их поводу в контексте разнообразных жизненных ситуаций, причем многие из таких отношений имеют юридически значимый характер и, как следствие, нуждаются в правовом урегулировании. Речь идет о создании специального правового режима, определяющего место цифровых объектов в системе гражданских (а также иных) прав, порядок и условия их имущественного оборота, основания принадлежности, условия действительности сделок с такими объектами, а также порядок защиты прав на них. Учитывая, что нормативное регулирование оборота цифровых объектов, по крайней мере в Российской Федерации, находится в зачаточном состоянии и требует дальнейшего развития, ведущую роль в формировании их правового режима в настоящее время играют субъективные права. Будучи основным средством конструирования цифровых объектов в пространстве правовой реальности, субъективные гражданские права подвергаются преобразованию, комплексно затрагивающему их природу и содержание.
Такое преобразование, происходящее в процессе интеграции субъективных прав в виртуальную реальность, мы называем цифровой трансформацией. Одним из наиболее наглядных проявлений цифровой трансформации следует считать сближение вещных и обязательственных элементов субъективного права, обусловленное спецификой цифровых объектов. Как было продемонстрировано в настоящей работе, цифровое имущество, прежде всего цифровые права, представляют собой типичный пример нематериальных имущественных благ, которые могут принадлежать участникам гражданского оборота на праве собственности или ином субъективном гражданском праве. Многообразие цифровых, виртуальных объектов, к числу которых относятся криптовалюта и иные электронные финансовые активы, записи в базах данных ( Big data ), доменные имена и аккаунты, игровая собственность, иное виртуальное имущество, позволяет им в зависимости от специфики правового режима выступать объектами как вещных прав, так и прав обязательственных. Более того, в процессе цифровой трансформации указанных субъективных гражданских прав наблюдается их сближение, активное взаимодействие, а в ряде случаев и взаимопроникновение, обусловленное сущностными свойствами, присущими всему классу цифровых объектов в целом.
Цифровая трансформация содержания субъективных прав делает их гибким и эффективным инструментом регулирования гражданского оборота виртуальных объектов, одновременно способствуя виртуализации любых видов имущественных благ. В частности, появление значительного количества имущественных комплексов (предприятий), в состав которых входят цифровые права, электронные деньги и ценные бумаги, а также иные базы данных, делают возможным появление в не столь отдаленной перспективе цифровой недвижимости, правовой режим которой аналогичен режиму недвижимого имущества, применяясь при этом к полностью или преимущественно цифровым объектам. Кроме того, наделение цифровых предприятий как имущественных комплексов качеством субъектов права преобразует сферу корпоративных прав и может, как это уже не раз случалось в прошлом, послужить предпосылкой для возникновения новых видов юридических лиц и для цифровой трансформации уже закрепленных в гражданском законодательстве организационно-правовых форм.
В настоящей статье мы сознательно оставили за рамками рассмотрения сферу личных неимущественных прав, перспективы цифровой трансформации которых активно обсуждаются в литературе. Виртуализация интеллектуальной, в частности, творческой деятельности и появление новых технологий свидетельствуют о потенциальной применимости к данной сфере концептуальных положений, сформулированных цивилистической доктриной применительно к цифровым правам. В частности, вполне уместно вести речь о появлении в недалеком будущем цифровых авторских прав, что потребует переосмысления положений ст. 1255 ГК РФ, а также цифровых прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. В условиях цифровизации предприятия как имущественного комплекса реформирование в указанном направлении положений ч. IV Гражданского кодекса Российской Федерации представляется вполне логичным и, более того, необходимым. Полагаем, что круг обозначенных здесь вопросов способен стать предметом плодотворных дискуссий, открывающих новые рубежи развития законодательства и науки гражданского права.
СТАТЬИ
Список литературы Цифровая трансформация субъективных гражданских прав: проблемы и перспективы
- Абрамова Е. Н. Дискуссии о правовой природе криптовалюты // Право и современная экономика. Сб. материалов I Международной научно-практической конференции юридического факультета СПбГЭУ, 5 апреля 2018 г. / под науч. ред. Н. А. Крайновой. СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2018. С. 51-60.
- Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. Т. 2. М. : Юрид. лит., 1982. 360 с.
- Андреев В. К. Динамика правового регулирования искусственного интеллекта // Журнал российского права. 2020. № 3. С. 58-68.
- Арсланов К. М. История, современное состояние и перспективы развития криптовалюты: российский и иностранный правовой опыт // Гражданское право. 2020. № 1. С. 24-27.
- Архипов В. В. Виртуальная собственность: системные правовые проблемы в контексте развития индустрии компьютерных игр // Закон. 2014. № 9. С. 69-90.
- Ахметьянова З. А. Вещные права в гражданском праве России // Цивилист. 2006. № 1. С. 28-37.
- Ахметьянова З. А. Правовая природа арендных отношений // Юрист. 2006. № 2. С. 16-22.
- Барков А. В. Гражданско-правовые средства в механизме правового регулирования // Право и государство: теория и практика. 2008. № 5 (41). С. 56-59.
- Бахтин М. М. Проблема текста / М. М. Бахтин. Собрание сочинений. Т. 5. Работы 1940-1960-х годов. М. : Русские словари, 1997. С. 306-326.
- Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. М. : Добросвет, 2000. 387 с.
- Брагинский М. И. К вопросу о соотношении вещных и обязательственных правоотношений // Гражданский кодекс России: Проблемы. Теория. Практика / отв. ред. А. Л. Маковский. М. : Изд-во Междунар. центра финансово-экономич. развития, 1998. С. 113-130.
- Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. В 6 кн. Кн. 1: Общие положения. М. : Статут, 2011. 850 с.
- Василевская Л. Ю. Токен как новый объект гражданских прав: проблемы юридической квалификации цифрового права // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5 (102). С. 111-119.
- Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. Изд. 2-е. М. : Советское радио, 1968. 325 с.
- Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Л. Витгеншгейн. Философские работы. М. : Гносис, 1994. Т. 1. С. 1-73.
- Головкин Р. Б., Амосова О. С. «Цифровые права» и «цифровое право» в механизмах цифровизации экономики и государственного управления // Вестник Владимирского юридического института. 2019. № 2 (51). С. 163-166.
- Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. Е. А. Суханов. М. : Волтерс Клуверс, 2006. 958 с.
- Груздев В. В. Понятие гражданско-правовой защиты и ее место в механизме гражданско-правового регулирования // Право и государство: теория и практика. 2009. № 5 (53). С. 37-40.
- Дмитрик Н. А. Цифровая трансформация: правовое измерение // Правоведение. 2019. Т. 63. № 1. С. 2836.
- Егорова М. А., Ефимова М. Г. Понятие криптовалют в контексте совершенствования российского законодательства // Lex russica. 2019. № 7. С. 130-140.
- Егорова М. А., Кожевина О. В. Место криптовалюты в системе объектов гражданских прав // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 1. С. 81-91.
- Ем В. С., Суханов Е. А. О видах субъективных гражданских прав и о пределах их осуществления // Вестник гражданского права. 2019. Т. 19. № 4. С. 7-21.
- Ефимова Л. Г. Криптовалюты как объект гражданского права // Хозяйство и право. 2019. № 4. С. 17-25.
- Ефимова Л. Г. О соотношении вещных и обязательственных прав // Государство и право. 1998. № 10. С. 37-44.
- Зорькин В. Д. Право будущего в эпоху цифр: индивидуальная свобода или сильное государство? [Электронный ресурс] // Российская газета. 2020. № 83 (8137). URL: https://rg.ru/2020/04/15/zorkin-pravo-budushchego-eto-te-zhe-vechnye-cennosti-svobody-i-spravedlivosti.html (дата обращения: 25.02.2021).
- Карцхия А. А. Цифровая трансформация права // Мониторинг правоприменения. 2019. № 1 (30). С. 25-29.
- Корниенко Н. Ю., Королев Г. А. Развитие подходов к законодательному регулированию оборота криптовалюты как нового вида финансовых инструментов в странах ЕАЭС // Налоги и финансы. 2018. № 4. С. 18-25.
- Кухта М. С. Дизайн в информационном обществе: исчезающая функция вещи // Труды академии технической эстетики и дизайна. 2014. № 2. С. 36-38.
- Лаптев В. А. Цифровые активы как объекты гражданских прав // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 2 (42). С. 199-204.
- Лисаченко А. В. Право виртуальных миров: новые объекты гражданских прав // Российский юридический журнал. 2014. № 2. С. 104-110.
- Лоренц Д. В. Цифровые права в сфере недвижимости: юридическая природа и способы защиты // Российская юстиция. 2020. № 2. С. 57-60.
- Маклюэн М. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего. М. : Академический проект; Фонд «Мир», 2005. 496 с.
- МандельбротБ., Хадсон Р. Л. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах. М. : ИД «Вильямс», 2006. 400 с.
- Новоселова Л. А. О правовой природе биткоина // Хозяйство и право. 2017. № 9. С. 3-15.
- Новоселова Л. А., Полежаев А. В. Цифровые знаки как объекты гражданских прав // Предпринимательское право. 2019. № 4. С. 3-12.
- Онлайн-конференция «Развитие Legal Tech» (Санкт-Петербург, 20 апреля 2020 г.) // Теоретическая и прикладная юриспруденция. 2020. № 2 (4). С. 100-105.
- Райхер В. К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления хозяйственных прав) // Вестник гражданского права. 2007. № 2. С. 144-204.
- Родионова О. М. Механизм гражданско-правового регулирования: состав, структура, действие // Законодательство. 2012. № 8. С. 21-31.
- Савельев А. И. Гражданско-правовые аспекты регулирования оборота данных в условиях попыток формирования цифровой экономики // Вестник гражданского права. 2020. № 1. С. 60-92.
- Савиньи Ф. К. Система современного римского права. В 8 т. Т. III. М. : Статут, 2013. 717 с.
- Санникова Л. В., Харитонова Ю. С. Правовая сущность новых цифровых активов // Закон. 2018. № 9. С. 86-95.
- Синицын С. А. Numeris clausis и субъективные права: понятие, значение, взаимосвязь // Вестник гражданского права. 2014. № 3. С. 100-147.
- Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. Изд. 5-е, перераб. М. : Статут, 2010. 893 с.
- Суханов Е. А. Право собственности в современной России: несколько принципиальных тезисов // Россия и современный мир. 2001. № 3 (32). С. 102-108.
- Талапина Э. В. Цифровая трансформация во Франции: правовые новеллы // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 4. С. 164-184.
- Титиевский А. Н. Понятие и сущность правового режима вещей с позиций системного подхода // Вестник Тюменского государственного университета. 2012. № 3. С. 128-133.
- Толкачев А. Ю., Жужжалов М. Б. Криптовалюта как имущество — анализ текущего правового статуса // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 9 (55). С. 91-135.
- Трент Г. Цифровые права на доступ к корпоративным данным // Сети и системы связи. 2006. № 13. С. 61-65.
- Усманов И. П. Бездокументарная ценная бумага — фикция ли это? // Общество и право. 2009. № 2 (24). С. 73-76.
- Фролов И. В. Криптовалюта как цифровой и финансовый актив в российской юрисдикции: к вопросу о вещной или обязательственной природе // Право и экономика. 2019. № 6. С. 5-17.
- Халабуденко О. А. Нормы права в фокусе теории конструктивизма // Теоретическая и прикладная юриспруденция. 2020. № 2 (4). С. 31-43.
- Ханнаши С. К вопросу о сущности гражданско-правового режима // Государственный советник. 2014. № 4 (8). С. 5-7.
- Хатунцев О. А. Проблема деления прав на вещные и обязательственные // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 9. С. 93-97.
- Цифровые права как новый объект гражданского права // Закон. 2019. № 5. С. 31-54.
- Честнов И. Л. Правовая коммуникация в контексте постклассической эпистемологии // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2014. № 5 (136). С. 31-41.
- Чикулаев Р. В. Вопросы электронных финансовых инструментов // Пермский юридический альманах. 2019. № 2. С. 528-543.
- Шеннон К. Математическая теория связи / К. Шеннон. Работы по теории информации и кибернетике. М. : Изд-во иностр. литературы, 1963. С. 243-332.
- Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1996. XI + 229 p.
- Benke N., Meissel F. S. Übungsbuch römisches Sachenrecht. Wien : Manz'sche Verlag, 2008. 286 s. Cohen S. I. The Russian Economy: New Normal, Past Imbalances, Future Globalization // Journal Institutiona Studies. 2018. Vol. 10. No. 1. Pp. 24-40.
- Corazza G. E. Organic Creativity for Well-Being in the Post-Informational Society // Europe's Journal of Psychology. 2017. Vol. 13. No. 4. Pp. 599-605.
- El-Erlan M. A. Navigating the New Normal in Industrial Countries. Washington : Per Jacobsson Foundation, 2010. 40 p.
- Fuchs E. Das Wesen der Dinglichkeit. Ein Beitrag zur allgemeiner Rechtslehre und zur Кпйк des Entwurfs eines Вürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Berlin : Heymanns, 1889. 157 s.
- Hartley R. V. L. Transmission of Information // Bell System Technical Journal. 1928. Vol. 7. No. 3. Pp. 535-563.
- Hasija D., Liou R.-S., Ellstrand A. Navigating the New Normal: Political Affinity and Multinational' Post-Acquisition Performance [Электронный ресурс] // Journal of Management Studies. 2019. 57 (3). URL: https://www. researchgate.net/publication/337792251_Navigating_the_New_Normal_Political_Affinity_and_Multi-nationals'_Post-Acquisition_Performance (дата обращения: 20.02.2021).
- Kaser M. Das Urteil als Rechtsquelle im Römischen Recht // Festschrift für Fritz Schwing / hrsg. von R. Strasser. ^ Wien : Metzger, 1978. Pp. 116-130. £
- Mager H. Besonderheiten des dinglichen Anspruchs // Archiv für die civilistische Praxis. 1993. Bd. 193. Heft 1. ^ S. 68-85.
- Nakamoto S. Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash System [Электронный ресурс]. URL: https://bitcoin.org/ bitcoin.pdf (дата обращения: 20.02.2021).
- Pargellis A. N. The Spontaneous Generation of Digital "Life" // Physica D: Nonlinear Phenomena. 1996. Vol. 91. No. 1-2. Pp. 86-96.
- Smith R. C. Deducting Intangible Asset Value for Property Tax Purposes: How "Necessary Intangibles" Are Treated in Two Recent Cases // Insight. 2014. No. 4. Pp. 62-70.
- Snijders W. De openheid van het vermogensrecht. Van syndicaatszekerheden, domeinnamen en nieuwe contractsvormen // Onderneming en 10 jaar nieuw Burgerlijk Recht. Leiden : Kluwer, 2002. Pp. 27-58.
- Struycken T. H. D. De numerus clausus in het goederenrecht: een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid. Deventer : Kluwer, 2007. 902 p.
- Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy. Oxford : O'Reilly Media, 2015. 152 p.
- Van der Steur J. C. Grenzen van rechtsobjecten. Een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten. Leiden : Kluwer, 2003. 384 p.
- Weber R. H. Dritte Spuren zwischen absoluten und relativen Rechten? // Aktuelle Aspekte des Schuld- und Sachenrechts. Festschrift für Heinz Rey zum 60. Gebutstag. Zürich : Schultess, 2003. S. 583-596.
- Wilke C. O., Adami C. The Biology of Digital Organisms // Trends in Ecology and Evolution. 2002. Vol. 17. Pp. 528-532.
- Wilke C. O., et al. Evolution of Digital Organisms at High Mutation Rates Leads to Survival of the Flattest // Nature. 2001. Vol. 412. Pp. 331-333.