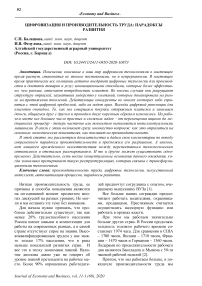Цифровизация и производительность труда: парадоксы развития
Автор: Балашова С.П., Федулова И.В.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 11-1 (69), 2020 года.
Бесплатный доступ
Изменения, вносимые в наш мир цифровыми технологиями в настоящее время растут, становятся не только постоянными, но и непрерывными. В настоящее время практически все компании активно внедряют цифровые технологии для производства и доставки товаров и услуг инновационными способами, которые более эффективно, чем раньше, отвечают потребностям клиентов. Во многих случаях они разрушают структуру отраслей, захватывая лидерство у компаний, которые доминировали на рынке на протяжении поколений. Действующие конкуренты во многих секторах либо справятся с этой цифровой проблемой, либо их ждет крах. Выгоды цифровой революции для клиентов очевидны. То, как мы совершаем покупки, отправляем платежи и занимаем деньги, общаемся друг с другом и проводим досуг коренным образом изменилось. На рабочем месте все большее число простых и сложных задач - от перемещения ящиков до медицинских процедур - теперь частично или полностью выполняется интеллектуальными машинами. В связи с этим возникает сразу множество вопросов: как это отразиться на основных экономических показателях, как повлияет на производительность. В этой статье мы рассмотрим доказательства и дадим свои комментарии по поводу современного парадокса производительности и предложим его разрешение. А именно, нет никакого врожденного несоответствия между перспективным технологическим оптимизмом и отсталым разочарованием. И то и другое может существовать одновременно. Действительно, есть веские концептуальные основания данного ожидания, когда экономика претерпевает такую реструктуризацию, которая связана с трансформационными технологиями.
Производительность труда, цифровые технологии, искусственный интеллект, автоматизация процессов, парадоксы развития
Короткий адрес: https://sciup.org/170182167
IDR: 170182167 | DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10873
Текст научной статьи Цифровизация и производительность труда: парадоксы развития
Низкая производительность труда, ее причины и способы повышения являются на сегодняшний момент предметом многих дискуссий на разных уровнях. Не могли и мы оставить эту тему без внимания.
Для начала нужно признать, что проблема действительно существует, так как менее 20% трудоспособного населения России имеют навыки и компетенции для работы на современных рынках, а в самой стране отсутствует спрос на знания. Высококвалифицированным трудом у нас занято только 17% населения, что в разы меньше показателей развитых стран. И все это в эпоху экономики знаний. Наличие диплома давно уже не говорит об уровне знаний претендента на рабочее место. Более 90% опрошенных работодате- лей предпочтут сотрудника с опытом, вчерашнему выпускнику ВУЗа [1].
Все больше наших сограждан предпочитают работать водителями, охранниками, продавцами. Престижным считается осуществлять надзорную функцию или работать в органах власти.
При этом мы работаем значительно больше других стран. В России продолжительность годового рабочего времени составляет 1974 часа. Для сравнения в США - 1780 часов, Японии - 1710 часов, Франции - 1470 часов и Германии - 1360 часов. Лидерами по продолжительности рабочего дня являются Бангладеш и Мьянма с 50-ти часовой рабочей неделей [2].
Притом, что мы работаем больше, в показателе производительности труда мы проигрываем развитым странам, что объясняется низким уровнем технической оснащенности и отсутствием передовых технологий.
Существует мнение, что люди изменят отношение к работе, когда почувствуют стимулы к более эффективному использованию своего рабочего времени. Однако, еще в XIX веке К. Маркс указал, что рабочий продает не свой труд, а способность к труду — рабочую силу [2]. Сегодня, заключая трудовой договор, рабочий «продает» работодателю свое время. Обеспечить рабочего средствами производства - прямая задача работодателя. И распределение ресурсов, и разделение труда - есть функции процесса управления.
С другой стороны любой предприниматель должен понимать, что предпочтительнее постоянно улучшать технологическую базу, чем расширять производство. При этом рост фондовооруженности труда ведет к вытеснению человеческого (живого) труда из процесса производства, а рабочему переходят функции контролера рабочего процесса. И для достижения того же результата требуется значительно меньше времени. Что конечно требует соответствующего уровня профессиональной подготовки рабочего. Что мы имеем на сегодняшний день?
Мы безусловно живем в эпоху парадоксов. Системы, использующие искусственный интеллект, соответствуют или даже превосходят производительность человеческого труда во все большем количестве областей, используя быстрые достижения в технологиях и приводя к резкому росту цен на акции. Тем не менее, рост производительности труда за последнее десятилетие снизился наполовину. Мы предлагем выделить четыре возможных причины этого парадокса производительности: ложные надежды, неверное измерение, перераспределение и задержки реализации.
Хотя для каждого из них можно привести аргументы, мы утверждаем, что именно задержки реализации, с большей вероятностью, являются самым большим вкладом в парадокс. Наиболее впечатляющие возможности искусственного интеллекта, особенно основанные на машинном обу- чении, еще не получили широкого распространения.
Дискуссия вокруг последних тенденций роста совокупной производительности труда более четко определяет кажущееся противоречие. С одной стороны, существуют поразительные примеры потенциально преобразующих новых технологий, которые могут значительно повысить производительность труда и экономическое благосостояние.
Есть некоторые ранние конкретные признаки перспективности этих технологий, наиболее ярким примером которых являются недавние скачки в производительности искусственного интеллекта (ИИ). Однако в то же время измеряемый рост производительности труда за последнее десятилетие значительно замедлился. Это замедление является значительным, сокращая рост производительности вдвое или более от ее уровня в десятилетие, предшествовавшее замедлению. Это явление имеет достаточно широкое распространение, поскольку имело место практически во всех крупных экономик мира. Таким образом мы видим преобразующие новые технологии повсюду, но только не в статистике производительности.
Машинное обучение представляет собой фундаментальное изменение по сравнению с первой волной компьютеризации. Исторически сложилось так, что большинство компьютерных программ создавалось путем тщательного кодирования человеческих знаний, поэтапного сопоставления входных данных с выходными, как это предписано программистами. В отличие от этого, системы машинного обучения используют категории общих алгоритмов (например, нейронные сети), чтобы самостоятельно вычислить соответствующее отображение, как правило, подавая очень большие наборы данных примеров. Используя эти методы машинного обучения, используя рост общего объема данных и ресурсов для обработки данных, машины добились впечатляющих успехов в восприятии и познании - двух основных навыках для большинства видов человеческой работы. Несмотря на то, что они еще не достигли уровня профессиональной производительности человека, они безусловно создают новые возможности для увеличения стоимости бизнеса и снижения затрат. Все большее число компаний откликается на эти возможности.
Несмотря на то, что рассмотренные выше технологии обладают большим потенциалом, пока еще нет никаких признаков того, что они повлияли на статистику совокупной производительности. Темпы роста производительности труда в широком диапазоне развитых экономик упали в середине 2000-х годов и с тех пор остаются низкими. Например, совокупный рост производительности труда в США в среднем составлял всего 1,3% в год с 2005 по 2016 год, что составляет менее половины от 2,8% годового темпа роста, сохранявшегося с 1995 по 2004 год.
Ложные надежды - самая простая возможность, состоит в том, что оптимизм по поводу потенциальных технологий неуместен и необоснован. Возможно, эти технологии не будут столь трансформирующими, как многие ожидают, и хотя они могут иметь скромные и заслуживающие внимания последствия для конкретных секторов, их совокупное воздействие может быть небольшим. В этом случае парадокс будет разрешен в будущем.
История и некоторые современные примеры дают некоторую долю уверенности в этой возможности. Конечно, можно указать на многие предшествующие захватывающие технологии, которые не оправдали изначально оптимистичных ожиданий. С другой стороны, по-прежнему есть веские основания для оптимизма. Нетрудно построить обратные сценарии, в которых даже небольшое число существующих в настоящее время технологий могло бы в совокупности существенно повысить рост производительности труда и благосостояние общества. Действительно, знающие инвесторы и исследователи ставят свои деньги и время именно на такие результаты. Таким образом, хотя мы признаем потенциальную возможность чрезмерного оптимизма и опыт с ранними предсказаниями для ИИ делает особенно уместным напоминание нам необходимо быть несколько осмотрительными в этом. Мы считаем, что было бы крайне преждевременно отвергать оптимизм на этом этапе.
Другим потенциальным объяснением этого парадокса является неправильное измерение объема производства и производительности. В данном случае ошибочным является именно пессимистическое прочтение эмпирического прошлого, а не оптимизм относительно будущего. Действительно, это объяснение подразумевает, что выгоды от производительности новой волны технологий уже используются, но их еще предстоит точно измерить. При таком объяснении замедление темпов роста за последнее десятилетие иллюзорно. Многие новые технологии, такие как смартфоны, онлайновые социальные сети и загружаемые медиа, требуют незначительных денежных затрат, однако потребители тратят на эти технологии большое количество времени. Таким образом, эти технологии могут принести существенную пользу, даже если на них приходится небольшая доля ВВП из-за их низкой относительной цены.
Третья возможность состоит в том, что выгоды от новых технологий уже достижимы, но благодаря сочетанию концентрированного распределения этих выгод и диссипативных усилий по их достижению или сохранению (если предположить, что технологии хотя бы частично конкурируют) их влияние на средний рост производительности в целом является скромным и практически нулевым для среднего работника.
Аргумент в пользу того, что внедрение и реструктуризация запаздывают, заключается в том, что недавнее замедление роста производительности предвещает более медленный рост в будущем. Мы начнем с того, что установим один из самых основных элементов этой истории: медленный рост производительности сегодня не исключает более быстрого роста производительности в будущем. На самом деле очевидным является тот факт, что она вообще едва ли является предсказательной. Общий рост факторной производительности - это компонент общего роста выпуска продукции, который не может быть объяснен учетом изменений в наблюдаемых за- тратах труда и капитала. Производительность труда является аналогичной мерой, но вместо учета накопления капитала просто делит общий объем производства на трудочасы, используемые для производства этой продукции. Технологически обоснованный довод в пользу увеличения производительности просто экстраполируя последние темпы роста вперед, не является правильным способом оценить динамику в следующем десятилетии.
Вместо того, чтобы полагаться только на прошлую статистику производительности, мы можем рассмотреть технологическую и инновационную среду, которую мы ожидаем увидеть в ближайшем будущем. В частности, нам необходимо изучить и понять конкретные технологии, которые реально существуют, и дать оценку их потенциалу. Не нужно слишком глубоко копаться в пуле существующих технологий или предполагать невероятно большие выгоды от любой из них, чтобы доказать, что они существуют, но все еще зарождаются технологии потенциально могут объединяться для создания заметного ускорения роста совокупной производительности.
Мы считаем, что производительность труда сама по себе не растет только от смены технологии. Одна система разделения труда имеет одну предельную производительность, а другая - другую. Более того, если по отношению к какому-то технологическому конвейеру, например, или какой-то технологической линии ставится задача повысить ее производительность труда, то по всей видимости ничего не получится, так как у нее уже есть заложенная на стадиях проектирования - проектная производительность, которая не может измениться ни в большую ни в меньшую сторону.
Мы можем конечно говорить, о необходимости достичь проектные показатели производительности, но если по какой-то причине это не получится, то нужно задать вопрос, в первую очередь, про качество системы управления, но не более того. При смене технологий меняется прежде всего система разделения труда и при смене системы разделения труда меняется ее производительность. Другая система будет более производительна.
Если рассматривать производительность труда как показатель, отражающий результативность, эффективность труда работника или группы работников в единицу времени, то получается, что передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, автономные транспортные средства и Интернет вещей, опосредованно влияют на человеческий труд, а именно, значительно его упрощая и высвобождая рабочую силу из производственного процесса. Другими словами, в условиях цифровой трансформации, следует говорить о производительности труда с точки зрения производительности (эффективности) используемых технологий, а не человека.
Потенциал автоматизации ближайшего будущего будет максимальным для занятий, на которых в настоящий момент платят самые низкие зарплаты. Более образованные и высокооплачиваемые работники по большей части продолжат сталкиваться с пониженной угрозой автоматизации исходя из текущего содержания их рабочих задач, хотя и это положение может измениться, когда искусственный интеллект начнет оказывать давление на некоторые высокооплачиваемые рабочие места.
Специалисты отмечают, что риск автоматизации варьируется по разным странам и регионам. Например, сельские районы небольших размеров значительно больше подвержены замене рабочих задач из-за автоматизации, а небольшие городские агломерации более уязвимы, чем крупные.
Согласно результатам исследования, работники-мужчины заметно более уязвимы перед потенциальной автоматизацией в будущем, чем женщины, учитывая широкое участие первых на производстве и транспорте и в строительно-монтажных работах, где, как прогнозируется, воздействие автоматизации превысит средний уровень. Напротив, женщины составляют более 70% рабочей силы в таких относительно малоуязвимых сферах деятельности как здравоохранение, оказание персональных услуг и образование.
Уязвимость перед автоматизацией варьируется и по возрастным группам, наибольшие опасения вызывает молодежь. Молодые работники в возрасте от 16 до 24
лет сталкиваются с высоким в среднем риском автоматизации в 49%, что отражает их чрезвычайно высокую представленность на потенциально автоматизируемых рабочих местах, связанных с приготовлением и подачей пищи. Столь же резкие колебания можно предсказать и в последствиях автоматизации, с которыми столкнутся различные расовые и этнические группы.
Чтобы справиться с этими изменениями и использовать их максимально эффективно, необходимо прежде всего, работать с частным сектором для поддержания высокой производительности труда и уровня жизни, что позволит не снижать или даже повышать занятость. Работа в привычном понимании для человека, рожденного в 20 веке, изменилась. Прогресс человеческого общества неизбежен – и невозможен без изменений.
В свое время цифровые технологии сделали востребованными рутинные трудовые навыки. На текущем этапе в эволюции работы в большинстве случаев их уже недостаточно для процветания и успеха. Сегодня любые отрасли открыты революционным процессам трансформационного развития.
Наблюдается серьезный сдвиг в наборе трудовых навыков, которые необходимы людям, чтобы остаться при деле. Автоматизация сводит к нулю знания и опыт высококвалифицированных специалистов.
Одним из важнейших элементов успеха в жизни и бизнесе является способность адаптироваться по мере того, как в быстро меняющемся цифровом мире проявляются технологические изменения и новые тенденции.
Глобальная взаимосвязанность, интел- лектуальные машины и новые средства массовой информации принадлежат к чис- лу самых важных факторов, изменяющих наши представления о работе, о том, что представляет собой работа, и о навыках, которые нам понадобятся, чтобы быть производительными участниками мира в ближайшем будущем.
Появление интеллектуальных машин и приложений, суперструктурированных организаций и мира глобальной взаимосвязанности порождает такие изменения, какие не наблюдались никогда ранее. Люди боятся потерять работу. Более качественные и дешевые роботы смогут выполнять большинство наших рутинных задач, требующих мало – или вообще никакого – творчества. Некоторые отрасли пострадают более других.
Невозможно противостоять инновациям. В настоящее время стать незаменимым важнее, чем когда-либо прежде. В большинстве случаев любого человека можно заменить на рабочем месте – но и сам человек, в свою очередь, может кое-что предпринять, чтобы исправить такое положение вещей.
Мы постоянно наблюдаем, а в последнее время наиболее часто, как некоторые виды работ практически исчезают, но появляются новые. Постоянный рост конку- ренции на всех рынках стимулирует к поиску новых технологий, обеспечивающих возможность экономического прорыва. Такие возможности для революционных изменений способны безусловно предоставить передовые технологии, в том числе искусственный интеллект, автономные транспортные средства и Интернет вещей. Однако говорить о влиянии их на производительность труда, на наш взгляд, можно только с негативным оттенком.
Технологические изменения, происходящие в настоящее время, на наш взгляд, требуют пересмотра самого понятия производительность труда, с целью наиболее точного определения роли человека и тех- нологии в отдельности.
Список литературы Цифровизация и производительность труда: парадоксы развития
- Развитие регулирования: новые вызовы в условиях радикальных технологических изменений: докл. к ХХ Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9-12 апр. 2019 г. / М.Я. Блинкин, А.С. Дупан, А.Ю. Иванов и др.; рук. авт. кол. Ю.В. Симачев; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. - 88 с.
- Трофимов В.В. Искусственный интеллект в цифровой экономике // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2019. - №4 (118). - С. 105-109.