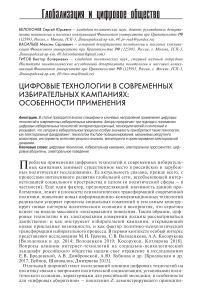Цифровые технологии в современных избирательных кампаниях: особенности применения
Автор: Белоконев Сергей Юрьевич, Васильев Максим Сергеевич, Титов Виктор Валериевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 4, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ специфики и ключевых направлений применения цифровых технологий в современных избирательных кампаниях. Авторы предлагают три подхода к пониманию цифровых избирательных технологий: интернетоцентричный, технократический и синтезный и указывают, что сегодня в избирательном процессе особую значимость приобретают такие технологии, как электоральный фандрайзинг, технологии YouTube-позиционирования, механизмы рекрутинга волонтеров, инструменты интеллектуального анализа, мониторинга и проектирования электоральной динамики.
Цифровые технологии, избирательная кампания, электоральное пространство, цифровые аборигены, электоральное поведение
Короткий адрес: https://sciup.org/170170991
IDR: 170170991 | DOI: 10.31171/vlast.v27i4.6585
Текст научной статьи Цифровые технологии в современных избирательных кампаниях: особенности применения
П роблема применения цифровых технологий в современных избирательных кампаниях занимает существенное место в российских и зарубежных политических исследованиях. Ее актуальность связана, прежде всего, с процессами интенсивного развития глобальной сети, всеобъемлющей интернетизацией социального пространства в целом (и политической сферы – в частности). Еще один фактор, предопределяющий значимость данной проблематики, лежит в плоскости психологических трансформаций современной политики: появление новых информационно-коммуникационных технологий радикально ускоряет процессы социальных изменений и тем самым конструирует новые паттерны политического сознания и восприятия, что серьезно влияет на модели массового электорального поведения. Таким образом, цифровые технологии в их электоральном измерении должны рассматриваться двойственно: и как инструмент избирательной кампании, открывающий новые прикладные возможности, и как фактор политико-психологической трансформации избирательного процесса. В первом контексте особый интерес представляют исследования М.Н. Грачева, С.В. Володенкова, А.А. Косорукова [Володенков и др. 2014; Володенков 2019; Косоруков, Котлярова 2018]. Вопросы влияния интернет-технологий на социально-психологический ландшафт российского общества нашли свое отражение в исследованиях Е.В. Бродовской, А.В. Домбровской, А.Ю. Бубнова и др. [Бродовская и др. 2017; Бубнов, Шаповалов, Дмитриева 2013].
Отдельный широкий пласт исследований влияния цифровых технологий на политику связан с вопросами политической социализации, установками политического сознания, характерными для российской молодежи, в особенности для «цифровых аборигенов» – поколения Z, демонстрирующего принципи- ально новые форматы «считывания», интерпретации и оценки политической реальности. В данном ракурсе следует обратиться к трудам Т.Н. Самсоновой, Ю.А. Зубок, В.И. Чупрова и др. [Самсонова 2018; Зубок, Чупров 2018].
Процессы политической цифровизации не могут рассматриваться обособленно, вне контекста комплексного развития российского общества. Поэтому необходимо акцентировать внимание на том моменте, что эволюция цифровой составляющей политических процессов является продолжением масштабной цифровизации социальных и экономических отношений, имеющей место в сегодняшней России. Как отмечают эксперты, «сегодня у России появляется уникальный шанс реализовать свой потенциал в ходе цифровой революции… Экономический рост: к 2025 году цифровизация обеспечит от 19 до 34% роста ВВП. Цифровая экономика ломает привычные модели отраслевых рынков. Она повышает конкурентоспособность их участников. Тем самым цифровизация определяет перспективы роста компаний, отраслей и национальных экономик в целом». По оценкам McKinsey , потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России увеличит ВВП страны к 2025 г. на 4,1– 8,9 трлн руб. (в ценах 2015 г.), что составит от 19% до 34% общего ожидаемого роста ВВП1.
Можно предположить, что развитие цифровых технологий будет способствовать радикальному изменению отношений в треугольнике «человек – государство – общество», формированию новой системы индивидуального и общественного поведения, в центре которой будет интерактивный характер социальных взаимодействий, развитие инструментария «электронной демократии» и прямого участия граждан. Очевидно, что сегодня концепции электронной демократии применительно к российским политическим практикам могут рассматриваться как некий управленческий эксперимент, от результатов которого будет зависеть в т.ч. и возможность дальнейшего использования данных механизмов в избирательном процессе. Однако в долгосрочной перспективе речь может идти о цифровой политической революции, которая (в условиях развития прямых форм участия) неизбежно поставит вопрос о необходимости кардинальной реорганизации политической системы в целом посредством перераспределения полномочий от представительных структур в пользу непосредственного участия граждан.
Важным теоретическим вопросом, предваряющим анализ российских практик использования цифровых технологий в политике, является выработка приемлемого определения данного понятия. Можно заметить, что сегодня в отечественном социогуманитарном дискурсе сложились 3 взаимно комплементарных подхода к интерпретации данного понятия.
Первый подход – технократический – связывает цифровые технологии с принципиально новыми техническими изобретениями и решениями, которые имели место в последнее десятилетие. Второй подход может быть условно описан как интернетоцентричный. Согласно ему, термин «цифровые технологии» синонимичен или близок понятию «интернет-технологии». Третий подход является синтезным и опирается на принцип «Интернет+», согласно которому к цифровым технологиям в политике относятся не только сфера интернет-коммуникаций, но и современные коммуникативные возможности мобильной связи, новые программные решения в области социально-политического мониторинга и обработки политической информации.
При этом, по нашему мнению, именно синтезный подход обладает наи- большим научным потенциалом, нивелируя ограничения как «технократического» взгляда, так и интернет-ориентированного подхода. Например, по мнению А.О. Несмашного, «работа с информацией в принципе, даже используя высокоскоростные алгоритмы передачи данных, совершенно не обязательно должна быть связана с сетью Интернет. Так, например, широкое распространение сегодня получают мессенджеры, способные обмениваться информацией без доступа в Интернет, используя для этого технологию Multipeer Connectivity Framework, которая позволяет создавать Multipeer-сервисы, взаимодействующие друг с другом на устройствах, расположенных поблизости, используя для этого беспроводные протоколы передачи данных Wi-Fi, p2p-соединения или Bluetooth» [Несмашный 2017]. При этом безусловным коммуникативным ядром цифровых технологий является современный Интернет, его технологические инструменты и опции.
Говоря о различных направлениях развития цифровых технологий в электоральном процессе, следует отметить важное разночтение, связанное с тем, что очень часто при обсуждении цифровых технологий речь идет о неких «прорывных» векторах развития («технологиях будущего»). Так, например, программа «Цифровая экономика», реализуемая в Российской Федерации, предполагает особое внимание к таким направлениям, как искусственный интеллект, блок-чейн, нейротехнологии, Интернет вещей, виртуальная реальность, квантовые технологии, дополненная реальность, создание «цифровых двойников». В то же время практики политических кампаний последнего десятилетия (своеобразной «точкой отсчета» в системном применении цифровых технологий в избирательном процессе можно считать кампанию Б. Обамы в 2008 г.) говорят о текущей востребованности несколько иного спектра интернет-технологий, таких как фандрайзинг, краудфандинг, онлайн-трансляции на YouTube («стримы»), в меньшей степени – механизмы обратной связи с избирателями и «навигационные» приложения на мобильных устройствах.
Рассматривая вопрос применения цифровых технологий в электоральных практиках, следует обратиться к феномену диагональной коммуникации как доминирующего формата использования интернет-технологий на платформе Web 2.0. Под диагональной коммуникацией понимается симбиотическая схема, базирующаяся на принципах развитой обратной связи и формально равноправном («горизонтальном») взаимодействии участников коммуникации, но предполагающая учет и такого фактора, как наличие «лидеров общественного мнения», задающих соответствующую повестку дня. То есть, налицо расхождение формальной ситуации «сетевого равенства» и реальной возможности отдельных политических «игроков» интернет-простран-ства воздействовать на динамику массовых настроений участников такого информационного обмена.
Как правило, в роли лидеров общественного мнения в рамках электорального процесса выступают либо сами кандидаты, либо ведущие политики, представляющие ту или иную политическую силу (и не обязательно являющиеся кандидатами на выборах), либо иные яркие персоны, публично заявляющие о своей политической позиции. Поэтому психологическое «равноправие» интер-нет-коммуникации между условным кандидатом и потенциальным потребителем политической информации (например, «подписанным» на этого кандидата в социальных сетях) является скорее желаемым, «идеальным» состоянием, нежели реальным фактом политических практик.
Одним из первых технологических приемов электорального позиционирования в интернет-пространстве, привлекших особое внимание исследователей, стал электоральный фандрайзинг – целенаправленная деятельность кандидатов по сбору средств для своей предвыборной кампании. Одним из хрестоматийных примеров успешного фандрайзинга стали президентские кампании Б. Обамы в 2008 и 2012 г. Так, в 2012 г. больше половины средств было получено за счет малых сумм от граждан США: большинство переводов не превышало 250 долл. Треть избирателей (от общего числа жертвователей) перечисляли до 2500 долл. Следует отметить, что механизм фандрайзинга имеет как практическое, так и мотивационно-символическое значение, поскольку создает психологический эффект сопричастности «простого человека» к тому или иному кандидату, свидетельствует о высоком уровне вовлеченности определенного сегмента общества в политический процесс.
Несомненно, символическое «присутствие» потенциального избирателя в системе «софинансирования» кампании крайне существенно и с точки зрения электоральной мобилизации посредством повышения значимости предстоящих выборов в массовом сознании. (Очевидно, что среднестатистический политизированный «юзер» не будет жертвовать кандидату, даже если последний ему импонирует, но сами выборы воспринимаются как «ничего не решающие» или заведомо нечестные.)
Еще одна крайне распространенная технология электорального позиционирования, активно эксплуатирующая психологический «эффект сопричастности» и получившая широкое распространение в т.ч. в России, – это онлайн-трансляции на YouTube , призванные способствовать максимальному «приближению» кандидата к интернет-аудитории. В то же время следует принимать во внимание тот факт, что в современных условиях существует целый ряд факторов, снижающих эффективность онлайн-трансляций как инструмента политической мобилизации. Так, например, следует учитывать, что в условиях избытка политического контента в Интернете онлайн-позиционирование конкретного кандидата или политической силы может выглядеть недостаточно ярко, уступать по привлекательности иным, более динамичным сюжетам. Необходимо обратить внимание и на тот момент, что «событийная» онлайн-трансляция (протекающая не в «кабинетных» условиях, где есть возможность сфокусировать внимание на конкретном политическом лидере и выбранной теме) может иметь такой побочный результат, как перефокусирование внимания аудитории с политика и его идей на событийный контекст, антураж, сопровождающий политическое действие. Такая проблема в меньшей мере характерна для электоральных кампаний, но является типичной для иных «ситуационных» форматов (акций протеста, митингов, встреч со сторонниками), когда фигура спикера уходит на второй план.
Еще одно направление «цифровой поддержки» современных избирательных кампаний связано с привлечением волонтеров, способных выполнять различные (а не только агитационные) функции и решать широкий спектр задач. В этом плане весьма показательной выглядит президентская кампания В. Зеленского: цифровая стратегия «Зе команды» была направлена не столько на повышение узнаваемости кандидата (поскольку В. Зеленский изначально являлся ни в коей мере не продуктом социальных медиа, а широко известным телевизионным персонажем) или критику оппонентов, сколько на таргетированную поддержку лояльности и поиск добровольцев.
Как указал руководитель digital-кампании В. Зеленского М. Федоров, за неполные 4 месяца (январь–апрель 2019 г.) команде кандидата удалось найти более 600 тыс. волонтеров, в т.ч. юристов, логистов, специалистов в области информационной поддержки. Второе серьезное достижение, о котором также упомянул М. Федоров, состояло в том, что кампания В. Зеленского в Интернете приобрела в полном смысле этого слова «вирусный» – саморазвивающийся – характер. Доказательство тому – более 2 тыс. неофициальных сообществ, ориентированных на поддержку В. Зеленского1.
По нашему мнению, поиск и привлечение волонтеров посредством интернет-коммуникаций становится одной из важнейших задач современной электоральной кампании. Актуальность указанной задачи возрастает в том случае, когда речь идет главным образом о масштабной кампании (например, общенациональной, в которой требуется большое число агитаторов, наблюдателей, юристов, специалистов в сфере информационных технологий и т.д.) и в ситуации, когда кандидат не может опереться на уже существующую, ранее выстроенную партийную инфраструктуру. Подобная ситуация, в частности, имела место и на Украине, поскольку у В. Зеленского не было «своей» партии, и во Франции в ходе президентских выборов 2017 г., когда Э. Макрон первоначально опирался (в отличие от своих главных соперников – лидера «Национального фронта» М. Ле Пен и представителя «республиканцев» Ф. Фийона) не на партийную структуру, а на массовое волонтерское движение.
Особое место занимают технологии интеллектуального анализа, мониторинга и проектирования электоральной динамики (так называемые технологии Big Data ). Популярность данных технологий во многом связана с выборами президента США 2016 г. и деятельностью Cambridge Analytica , способствовавшей победе Д. Трампа. Благодаря подходу, исповедуемому Cambridge Analytica , рекламная кампания Д. Трампа на YouTube была корректно таргетирована: «жителей районов с высокой поддержкой миллиардера призывали пойти на выборы и узнать адрес избирательного участка, а там, где он проигрывал Клинтон, пользователи видели баннер с рассказом об известных сторонниках Трампа»2. При этом важно отметить, что и сегодня представители Cambridge Analytica фактически отрицают, что использовали какие-либо скрытые данные о 50 млн пользователей Facebook (то есть, фактически «взламывали» аккаунты) для более эффективного таргетирования целевой аудитории с учетом психологических и поведенческих особенностей отдельных ее сегментов.
Важную роль данные технологии играли и в кампании Э. Макрона (2017 г.). В частности, в исследовании Minchenko Consulting «Технологические уроки выборов президента Франции для России» представлен трехступенчатый алгоритм использования Big Data штабом Э. Макрона. Данный алгоритм включает в себя следующие основные моменты.
-
1. Ставка на географическое сегментирование страны. Францию разбили на 60 000 ареалов примерно по 1 000 чел. в каждом. Это масштаб городского квартала.
-
2. На эти зоны накладываются история голосования (явка и идеологические предпочтения), социально-экономическая и демографическая статистика, данные соцопросов, данные о наличии волонтеров в этой зоне и поблизости.
-
3. Исходя из этого, распределяются приоритеты в агитации, график работы и положение пикетов, график и частота встреч с кандидатом и его представите-лями3.
Значение технологий Big Data в современных электоральных кампаниях еще не оценено в полной мере и будет возрастать. Представляется, что уже сегодня можно говорить о как минимум трех взаимосвязанных векторах развития и применения таких технологий. Первый вектор обусловлен необходимостью непрерывного интерактивного «присутствия» в информационном поле избирательного процесса и связан с совершенствованием технологий онлайн-монито-ринга электорального пространства. Второй вектор связан с культурно-психологическим анализом политического рынка: выделением основных сегментов потенциальных избирателей в контексте «истории» их отношения к конкретному политическому актору (партии, кандидату). Третий вектор развития технологий «больших данных» – их дальнейшее прикладное использование в производстве таргетированного рекламного контента, адресованного конкретным целевым аудиториям с учетом социально-демографических и поведенческих особенностей данных групп (в т.ч. поколенческой), социокультурных фреймов восприятия политической реальности – клипового, «сериального» и стереоти-пизированного сознания.
Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые технологии занимают все более важное место в современных электоральных процессах, превратившись из вспомогательного средства поддержки «магистральных» стратегий политического продвижения в важнейшую составляющую избирательных кампаний. При этом особую значимость приобретают такие технологии, как электоральный фандрайзинг, технологии YouTube , инструменты рекрутинга волонтеров, методы интеллектуального анализа, мониторинга и проектирования электоральной динамики.
Список литературы Цифровые технологии в современных избирательных кампаниях: особенности применения
- Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Карзубов Д.Н., Синяков А.В. 2017. Развитие методологии и методики интеллектуального поиска цифровых маркеров политических процессов в социальных медиа. - Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 5(141). С. 79-104
- Бубнов А.Ю., Шаповалов В.Л., Дмитриева О.В. 2013. Интенсивность вовлеченности россиян в интернет-коммуникацию. - Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 3. С. 19-27
- Володенков С.В. 2019. Big data как инструмент воздействия на современный политический процесс: особенности, потенциал и акторы. - Журнал политических исследований. № 1. С. 7-13
- Володенков С.В., Кузнецов И.И., Евгеньева Т.В., Зверев А.Л., Грачев М.Н., Штукина Т.А., Щегловитов А.Е., Писарчук Д.И., Федоров А.П., Бобровская Е.В., Седых Н.С. 2014. Информационно-технологическое проектирование политических ценностей в российском сегменте интернет-пространства: материалы круглого стола. - Вестник Московского университета. Сер. 12: Политические науки. № 5. С. 113-135
- Зубок Ю.А., Чупров В.И. 2018. Культура в жизни молодежи: потребность, интерес, ценность. - Вестник Института социологии. № 27. C. 170-191
- Косоруков А.А., Котлярова Т.Ю. 2018. Информационно-коммуникационные технологии как фактор трансформации публичной сферы современного общества. - Тренды и управление. № 4. С. 88-96
- Несмашный А.О. 2017. Интернет-технологии в политике: проблема интерпретации понятия. - Среднерусский вестник общественных наук. № 1. С. 157-164
- Самсонова Т. Н. 2018. О становлении политической субъектности российской молодежи в процессе политической социализации. - Общество: социология, психология, педагогика. № 7. С. 18-24