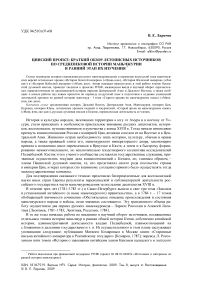Цинский проект: краткий обзор летописных источников по средневековой истории Маньчжурии и ранний этап их изучения
Автор: Ларичев Виталий Епифанович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена истории становления русского маньчжуроведения и переводов на русский язык маньчжурских версий летописных хроник «История Золотой империи» («Цзинь ши»), «История Железной империи» («Ляо ши») и «История Небесной империи» («Юань ши»). Автор освещает важную роль в этой работе членов Пекинской духовной миссии, приводит сведения о проектах РГНФ, касающихся ввода в научный оборот перечисленных первоисточников по средневековой истории народов Центральной Азии и Дальнего Востока, а также сообщает о начале работы над новым проектом по переводу на русский язык и подготовки к изданию уникальной летописной хроники по ранней истории маньчжур - I тома «Старого архива на маньчжурском языке» («Мань-вэнь лао-дан»).
Средневековая история, дальний восток, центральная азия, маньчжурия, империя цин, нурхаци, империя юань, летописные хроники киданей и чжурчжэней, "старый архив на маньчжурском языке" ("мань-вэнь лао-дан"), русская духовная миссия в пекине, переводческая деятельность ее членов
Короткий адрес: https://sciup.org/14737119
IDR: 14737119 | УДК: 94(510).07+08
Текст научной статьи Цинский проект: краткий обзор летописных источников по средневековой истории Маньчжурии и ранний этап их изучения
История и культуры народов, заселявших территории к югу от Амура и к востоку от Уссури, стали привлекать в особенности пристальное внимание русских дипломатов, историков, востоковедов, путешественников и купечества с конца XVIII в. Тогда начали интенсивно крепнуть взаимоотношения России с империей Цин, великим соседом ее на Востоке и в Центральной Азии. Жизненно острая необходимость знать историю, культуру, обычаи и нравы народа, а также правящей элиты его, маньчжурского императорского двора, закономерно привела к появлению школ переводчиков в Иркутске и Кяхте, а затем и к быстрому формированию немногочисленного, но исключительно плодотворного коллектива исследователей Поднебесной. Костяк этого ученого сообщества составляли государственные служащие, призванные осуществлять текущие дела взаимоотношений с Китаем, но, главным образом, – члены Пекинской духовной миссии, те, кто представлял своего рода посольство страны в империи Цин, и через которых (по взаимному согласию) принято было осуществлять тогда межгосударственные контакты.
Для подтверждения сказанного тезисно представлю беспрецедентные для востоковедной науки иных стран Европы результаты переводческой и публикаторской деятельности российского государства в части маньчжуроведения за последние десятилетия XVIII в.
В течение трех лет (1781–1783 гг.) в Санкт-Петербурге вышли в свет три тома «Законов и установлений китайского (а ныне маньчжурского) правительства», а в 1784 г. – 17 томов обобщающей значимости сочинения «Обстоятельное описание происхождения и состояния маньчжурского народа и войска, осми знаменах состоящего». Эту грандиозного объема работу осуществили два первых русских маньчжуроведа – Ларион Россохин и Алексей Леонтиев [Леонтиев, 1781–1783; Леонтиев, Россохин, 1784].
В те же годы началась работа по введению в научный оборот источников, посвященных отдельным этапам истории маньчжур в рамках общей истории Китая, собственно китайской истории, административной деятельности владык Поднебесной, взаимоотношений их с ближними и дальними государствами и т. п. Из осуществленного в этом плане заслуживает упоминания следующее: публикация Матвеем Комаровым в Москве книги «Старинные письма китайского императора к Российскому государю» [Комаров, 1787]; перевод Л. Россо-хиным пяти томов «Истории о завоевании китайским ханом Канхием калкаского и элетского народа, кочующего в Великой Татарии», состоящая в пяти частях» 1; перевод А. Агафоновым сочинения «Маньчжурского и китайского хана Шунь чжия… книги» 2; перевод И. Быковым и А. Владыкиным «Указов его ханского величества» 3; перевод И. Быковым «Истории о мунгалах – как завладели Китаем и утратили» 4; перевод В. Федоровым – «Кан-хи. Сокращение (т. е. сокращенное изложение. – В. Л.) китайской истории» 5.
Перечень переводческих деяний конца XVIII в., нацеленных на познание событий недавней и средневековой истории восточных, дальневосточных и центрально-азиатских территорий, не может не изумить. Но тут же стоит высказать сожаление и досаду, что далеко не все из множества содеянного русскими маньчжуроведами, монголоведами и китаеведами было доведено до логического конца, а именно – до публикаций, т. е. до реального введения результатов труда в научный оборот. «Сожалеть и досадовать» потому, что остающееся невостребованным пылится в архивах вот уже в течение двух веков, не позволяя в должной мере оценить истинную роль русского востоковедения в изучение ранней истории народов дальневосточного региона. Возможно, когда-нибудь (хотя бы в очередные два века нового тысячелетия) такая задача «доведения до логического конца» работы первых маньчжуроведов России станет программой специального историографического и публикаторского проекта востоковедов грядущих эпох.
Впечатляющими оставались успехи изучения истории Дальнего Востока, в первую очередь – Маньчжурии, Кореи, Монголии и южных районов Восточной Сибири (с прилегающими к ним Приамурьем и Приморьем), в первые десятилетия XIX в. То было время особо активной деятельности членов Пекинской духовной миссии. Среди них, в первую очередь, заслуживает высочайшего почтения Н. Я. Бичурин, монах Иакинф, масштабы работы которого по отысканию и переводам летописных известий по истории дунъи, так называемых восточных иноземцев, до сих пор вызывают изумление. Его трехтомный труд «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» многократно издавался и остается доныне настольной книгой для историков, этнографов и культуроведов как нашей страны, так и зарубежных специалистов [Бичурин, 1950]. Роль деятельности Н. Я. Бичурина исключительно велика и в не менее значимом – в создании среди членов Пекинской духовной миссии, которыми он руководил, духа самоотверженного изучения «страны пребывания» (Китая), истории и культуры народов Срединной империи. Его влияние отчетливо прослеживается как в подвижнических, полных самоотречения трудах современников, так и в работах всех последующих поколений маньчжуроведов и китаеведов, в том числе нынешних.
Из современников Н. Я Бичурина первым заслуживает упоминания Григорий Михайлович Розов, сначала переводчик при департаменте, где он начал «обучаться китайскому языку у монаха Иакинфа», затем псаломщик Одиннадцатой духовной миссии в Пекине, а потом студент столичного «Казенного училища русского языка для переводчиков с восточных языков», которых «готовили для учреждений, ведающих отношениями с Россией» маньчжурских властей (см.: [Мясников, 1998]). Г. М. Розову повезло в его нелегкой жизни еще раз – он общался также с другим патриархом отечественного китаеведения – Палладием Кафаро-вым, преемником Н. Я. Бичурина на посту руководителя Пекинской миссии и достойным продолжателем его научных дел (см.: [Ларичев, 1966а; 1996б; 1973; 1974]). Возможно, оба они ориентировали Г. М. Розова на изучение источников на китайском и маньчжурском языках, в которых содержались сведения по истории чжурчжэней, средневековых обитателей Маньчжурии, Приамурья и Приморья, создателей первого на северо-востоке Китая «варвар- ского государства» – «Золотой империи», без преувеличения равного по силе соперника Поднебесной.
Г. М. Розов превосходно овладел маньчжурским, монгольским и китайским языками и приступил к изучению многотомных исторических хроник Китая. Его главной задачей стал перевод на русский язык маньчжурского варианта летописи «История Золотой империи», изданного в конце первой половины XVII в., когда произошло окончательное становление национальной письменности маньчжур после завершения их консолидации вождем Нурхаци в единое государство. Труд, вложенный Г. М. Розовым в перевод династийных хроник «Золотой империи» чжурчжэней, был впечатляюще велик. Эту работу мог успешно завершить всего лишь за несколько лет только тот, кто в совершенстве владел языком оригинала, кто свободно ориентировался в китайских исторических хрониках, кто хорошо знал канву исторических событий в эпоху средневековья, как в самой Срединной империи, так и в соседних с ней регионах, кто по характеру своему отличался высокой степенью усердия, терпения и увлеченности, а также ответственностью и целеустремленностью.
Г. М. Розов обладал всеми должными знаниями и соответствующими качествами, необходимыми для настоящего ученого. Он перевел не только маньчжурский вариант «Истории Золотой империи», но и значительное число хроник сунского времени, что по бóльшей части осталось за рамками страниц его труда (исключение составили лишь постраничные дополнения и комментарии описаний особо важных событий). Перевод сопровождался детальными сравнениями и сопоставлениями маньчжурского текста со сведениями, которые выискивались в иных источниках, что позволяло ему полнее и точнее оценивать суть описанных происшествий.
Так создавался один из шедевров золотого фонда востоковедения России, подлинная жемчужина, известная до недавнего времени, увы, лишь узкому кругу специалистов, да немногим знатокам сокровищ отечественных архивов. А все дело в том, что опубликовать перевод Г. М. Розова «Айсинь гуруни судури» удалось лишь через полтора века по завершении его и благодаря финансовой поддержке РГНФ [Розов, 1998].
В летописи, переведенной Г. М. Розовым, содержатся материалы по истории киданей, первого из дальневосточных народов, который создал национальную империю, официально (вынужденно!) признанную владыками Поднебесной и разгромленную позже вовсе не их воинством, как можно было подумать, а чжурчжэнями, прямыми восприемниками имперских амбиций «северных варваров» и «восточных иноземцев». История киданей в концентрированном виде изложена на страницах иной династийной хроники – «История Железной империи», представленной двумя версиями – «Ляо ши», первоисточником на китайском языке, и переводным переложением на маньчжурском языке. Исходный вариант оказался настолько трудным для понимания, что до сих пор ожидает появления такой высоты знатока древнекитайского языка, который решился бы приступить к переводу составляющих хронику текстов. Иной оказалась судьба манчжурской версии летописи «Ляо ши», т. е. «Дайляо гуруни судури». Проект перевода хроники на немецкий язык начал осуществлять в 70-е гг. XIX в. видный российский маньчжуровед Г. К. фон Габеленц. Работа длилась более 10 лет, но ее удалось завершить лишь вчерне (довести перевод до желанного совершенства помешала смерть). Академии наук России пришлось принять решение об издании приведенных в относительный порядок текстов перевода, учитывая значительную их ценность для исторических и лингвистических изысканий [Gabelentz, 1887].
К началу 1870-х гг. относится исполнение второго, после Г. М. Розова, масштабного и столь же трудоемкого проекта. Его задумал академик В. П. Васильев и блестяще исполнил студент Санкт-Петербургского университета китайско-маньчжурского разряда факультета восточных языков Михаил Николаевич Суровцов. Ему было поручено осуществить дело, которое оставалось незавершенным Г. К. Габеленцем, – перевести маньчжурскую версию «Ляо ши» – «Дайляо гуруни судури», но к тому же дополнительно изучить и китайский вариант «Ляо ши» в объеме всех четырех каноничных для китайских династийных хроник разделов – бэньцзи, няньбяо, шилу, лечжуань (они включали 116 цзюаней текста), а для уточнения множества чрезвычайно трудных для перевода мест официальной хроники проштудировать еще один объемный источник по истории киданей – «Цидань гочжи». М. Н. Суровцов под руко- водством В. П. Васильева, первоклассного знатока истории и культуры Китая, преодолел головоломные сложности перевода «Ляо ши», перед которыми до сих пор пасуют (не рискуют приступить к работе) китаеведы – историки и лингвисты, знатоки вэньяня, точнее и проникновеннее истолковал особо сложные для прочтений разделы хроники, чем это удалось сделать западно-европейским исследователям истории киданей даже в XX в. Но не менее существенное заключалось в ином: М. Н. Суровцов преднамеренно отошел от принятой манеры сочинения кафедрального диплома, поставив во главу угла своего труда «О владычестве ки-даней в Средней Азии» анализ проблем историко-культурных и социально-экономических, что превратило его сочинение в новаторский по методике и методологии труд, в полной мере сравнимый с лучшими образцами исторических сочинений европейского востоковедения той поры. Дипломант поставил перед собой весьма неординарные задачи. Ему хотелось «прояснить» знаменательный век Чингиса настолько, насколько это можно сделать через обзор деятельности киданей, смененных чжурчжэнями, защищавшимися против ополчений названного завоевателя, …и тот век, в котором мы встречаем грозные полчища монголов, кои двинулись в Европу и поработили ее. Ведь век Чингисханидов был подготовлен в глубине Азии собственными историческими событиями, исходная точка которых лежала у Великой стены, в двух народностях, сменивших одна другую – киданях и чжурчжэнях» [Суровцов, 2007].
М. Н. Суровцову удалось не просто изложить историю киданей. Он поставил и по-своему, весьма оригинально, решил одну из основополагающих проблем истории Центральной и Восточной Азии, а также Дальнего Востока – взаимоотношения кочевых и оседлых обществ. Острота извечных конфликтов между двумя полярными мирами, империями Поднебесной и противостоящими им царствами («кочевыми империями» – « син го ») народов степей и пустынь Срединной Азии, как правило, приводила к гибели (порабощению «сынами Неба») последних. Диплом М. Н. Суровцова стал гимном отнюдь не примитивной, а вполне развитой «кочевой цивилизации», «первобытным, чистым и безискуственным» нравам киданей, культурному равенству их с представителями земледельческих цивилизаций, с их «благоустроенной гражданской жизнью», лишенной «революционных потрясений» и «кровавого деспотизма» правителей, народу, «нераздраженному своеволиями вождей». Он отметил взаимозависимость мощи экономики государства и весомости его в делах взаимоотношений с окружающими народами, мимо чего проходили его коллеги и предшественники, увлеченные описаниями событий политической истории: «С развитием материальных сил развиваются и другие силы – умственные, этические, нравственные, что и дает возможность народу играть более активную роль в среде соседних государств» [Суров-цов, 2007].
М. Н. Суровцов воспринимал историю мудрым учителем человечества. Таковым сочинение его не стало. Оно осталось недоработанным до издательского проекта, чему помешали роковые жизненные обстоятельства – тяжелое материальное положение, которое вынудило автора отказаться от «прибавочного года» обучения в университете «для усовершенствования восточных и западных языков» и ходатайствовать о зачислении на службу в Азиатский департамент Министерства иностранных дел в чине коллежского секретаря. Зимой 1873 г. М. Н. Суровцов тяжело заболел и умер в следующем году при лечении за рубежом, в Италии. Рукопись же диплома попала в архив Санкт-Петербургского отделения Института востоковедения АН РАН 6 и все последующие годы, вплоть до публикации в 2007 г. [История Железной империи, 2007] широко использовалась как своего рода первоисточник при работе над обобщающими трудами по истории и культуре восточно-азиатского региона. В частности, в XIX в. с рукописью «О владычестве киданей в Средней Азии» знакомились, заимствуя необходимые сведения, В. П. Васильев, В. В. Горский, А. М. Позднеев и Л. М. Рудов.
Во второй половине XIX в. изучением истории Дальнего Востока занималась целая плеяда видных представителей русской востоковедной науки. Особо тщательному исследованию Маньчжурии посвятили свою деятельность академик В. П. Васильев [1857; 1858;
1863; 1883] и В. В. Горский [1852а; 1852б]. Их труды позволили впервые представить главную канву исторических событий на востоке Северной Азии вслед за тем периодом, который нашел наиболее полное отражение в переводах, осуществленных Н. Я. Бичуриным [1950]. Значительный интерес к специфическому направлению исследований вызывает деятельность Палладия Кафарова, который по предложению Географического общества совершил в 1870–1872 гг. путешествие по Маньчжурии, Приамурью и Приморью и попытался сопоставить сведения письменных источников с конкретными памятниками старины региона. Он определил наиболее плодотворный метод изучения древней и средневековой истории народов Дальнего Востока – сочетание изучения летописей с полевыми археологическими исследованиями [Кафаров (Палладий), 1871а; 1871б и 1871в; Панов, 1898; Ларичев, 1966а и 1966б; 1973; 1974]. В последующее время плодотворные исследования по истории Маньчжурии, Приморья и Приамурья на основании разного рода письменных источников, эпиграфических, а также археологических памятников проводили В. Панов [1892], Ф. Ф. Буссе (см.: [Ларичев, 1968]), А. В. Рудаков [1903], П. С. Попов [1904], И. Доброловский, [1908], Д. Позднеев [1909], А. Е. Любимов [1909], А. В. Гребенщиков [1909; 1912; 1916; 1926]. К первым десятилетиям XX в. относится также начало работы над первоисточниками Н. В. Кюнера, наследника старой школы исследователей Востока. Результат его деятельности отражен в многочисленных изданиях, среди которых наибольший интерес представляют переводы разделов летописных хроник, содержащих сведения об «иноземцах» [Кюнер, 1949; 1961].
Подводя итог конспективно изложенному, можно констатировать, что российские специалисты по древней и средневековой эпохам Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая обладают ныне высокого качества первоисточниками. Из них в особенности ценны недоступные ранее из-за языкового барьера маньчжурские версии летописных хроник кочевых империй северных окраин Поднебесной, опубликованные в последнее десятилетие при поддержке РГНФ – «История Золотой империи» [1998], «История Железной империи» [2007], а «История Небесной империи» планируется к изданию в ближайшие годы (пока ведется работа по уточнению и проверке перевода П. И. Каменского, летописи «Дайюань гуруни суду-ри» выполненного в начале XIX в.).
До последнего времени оставалась незаполненной и хронологически обширная лакуна в освещении событий ранней истории маньчжуров, прямых преемников чжурчжэней, разгромленных монголами, а затем низведенных минским Китаем до жалких вассалов, униженно «приносящих дань к пристолу владык Поднебесной». Сказанное вовсе не означает, что в хрониках отсутствуют сведения о времени начала возвышения маньчжуров, когда родоплеменные объединения таковых стали консолидироваться, а вожди их провозгласили сначала государство «Поздняя Цзинь» (прямой намек на преемство «ранней государственности» предков, «Золотой империи», смертельного врага Китая), а в последующем – «Цин» , с дерзко прямой претензией на господство «варварской династии» не только над землями Дальнего Востока и Центральной Азии, но и над всей территорией Восточной Азии. Речь идет о совсем ином – об отсутствии среди изданного в XVIII в. архивных документов, на основании которых описывались события вековой давности (это обстоятельство предопределяло недоверие к официальным публикациям позднего времени, быть может, сфальсифицированным, как думали специалисты, правящим домом (см.: [Волкова, 1981; Пан, 2006]). Между тем материалы такие сохранились, но они оставались до начала XX в. недоступными для востоковедов Европы и Японии вследствие абсолютной невозможности получения иностранцами разрешения работать в Мукденском и Пекинском дворцовых архивах. Когда же в 1905 г. То-радзиро Найто загадочным образом дозволили, наконец, ознакомиться с династийногосударственной (глубоко секретной) значимости документами фондов Мукденского хранилища, то ему удалось обнаружить, скопировать на фото, а в скором времени и опубликовать их в Японии под названием «Мань-вэнь лао-дан» – «Старинные записи на маньчжурском языке». Потребовалось, однако, более полувека, пока маньчжуроведы получили в свое распоряжение превосходно изданные и переведенные коллективом японских исследователей тексты «Записей». Исключительная ценность их заключалась в том, что в них как раз и оказались зафиксированными те самые недостающие сведения о событиях ранней истории маньчжуров – времени Нурхаци (Тай-цзу; 1616–1626 гг.) и Абахая (Тай-цзун; 1623–1636 гг.).
Как выяснилось, именно эти сведения и стали, видимо, главными первоисточниками для составителей известных хроник (ши лу) XVIII в.: «Книги записей событий, связанных с основанием династии Великая Цин», «Правдивых записей о делах императора Тай-цзу», «Священных поучений Тай-цзу» и «Правдивых записей о маньчжурах» [Волкова, 1981; Пан, 2006].
«Мань-вэнь лао-дан» по широте и в подробностях освещения соответствующих событий остается до сих пор вне конкуренции при сравнении с перечисленными выше изданиями (в них всего лишь выборочно и конспективно бегло излагаются факты). Поэтому перед коллективом новосибирских востоковедов, причастных к публикациям переводов хроник «История Золотой империи», «История Железной империи» и к продолжающейся подготовке издания «Истории Небесной империи» (проекты РГНФ № 97-01-16004, 01-01-00450а, 05-01-01411а), руководством Института археологии и этнографии СО РАН и гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета была поставлена задача введения в научный оборот перевода I тома «Мань-вэнь лао-дан», т. е. «Старинных записей на маньчжурском языке», самых ранних из оригинальных документов по истории первых десятилетий начала становления династии Цин, годов политической и военной деятельности основателя ее – Нурхаци. Этот высокоинформативный источник редко используется как отечественными, так и европейско-американскими историками-китаеведами из-за труднопреодолимых сложностей работы с документами на маньчжурском языке. Частичные же переводы этих документов на китайский и европейские языки характеризуются зачастую досадными пропусками, неточностями и просчетами. Новый проект сибирских востоковедов «Источники и материалы по ранней истории маньчжур», финансово поддержанный РГНФ, призван предоставить в распоряжение отечественных историков-востоковедов качественно выполненные переводы текстов, которые внесут, наконец, ясность в те события ключевого периода истории средневековых маньчжуров, что имеют прямое отношение к становлению династии Цин. Это будет заключительный этап многолетней работы коллектива сибирских востоковедов (сотрудников сектора истории и археологии стран зарубежного Востока ИАЭТ СО РАН, а также гуманитарного факультета НГУ) по введению в научный оборот источников на маньчжурском языке.
Проект по переводу I тома «Мань-вэнь лао-дан» на русский язык предполагает также анализ событий доцинской истории Маньчжурии, включая эпоху первобытности. В итоге исполнения задуманного специалистам и любителям дальневосточной истории и культуры будет представлен свод источников по истории Маньчжурии от дописьменной древности до начальных десятилетий становления империи Цин.
Vitalii Ye. Larichev
THE QING PROJECT: A BRIEF SURVEY OF THE ANNALISTIC SOURCES ON THE MEDIEVAL HISTORY OF MANCHURIA AND THE EARLY STAGE OF STUDY THEM