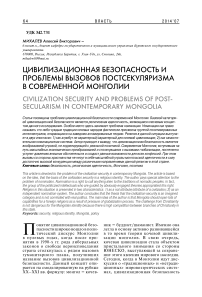Цивилизационная безопасность и проблемы вызовов постсекуляризма в современной Монголии
Автор: Михалев Алексей Викторович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 7, 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме цивилизационной безопасности современной Монголии. Базовой категорией цивилизационной безопасности является религиозная идентичность, являющаяся ключевым концептом данного исследования. Особое место здесь занимает проблема номинации. Номинация как право называть что-либо чуждым традиции кочевых народов фактически присвоена группой политизированных интеллектуалов, опирающихся на заведомо ангажированные теории. Религия в данной ситуации выступает в двух ипостасях: 1) как атрибут не характерный/характерный для кочевой цивилизации; 2) как самостоятельная номинационная система. Автор приходит к выводу, что цивилизационная безопасность является воображаемой угрозой, не коррелирующейся с реальной политикой. Современная Монголия, вступившая на путь масштабных экономических преобразований и столкнувшаяся с вызовами глобализации, постепенно уступит давлению внешних обстоятельств и создаст равные возможности для всех конфессий. При этом вызовы со стороны христианства не несут в себе масштабной угрозы монгольской идентичности в силу достаточно высокой конкуренции между различными направлениями данной религии в этой стране.
Безопасность, религиозная идентичность, монголия, политика
Короткий адрес: https://sciup.org/170167549
IDR: 170167549
Текст научной статьи Цивилизационная безопасность и проблемы вызовов постсекуляризма в современной Монголии
Понятие цивилизационной безопасности широко вошло в политический дискурс Монголии в нулевых годах, когда после принятия в 1990-х гг. ряда либеральных законов о свободе вероисповедания страна столкнулась с рядом вызовов гуманитарного плана, получивших название вызовов цивилизационной безопасности. Данный концепт опирается на смоделированную на рубеже ХХ–XXI вв. формулу: монгол = кочев- ник = буддист/шаманист. Именно она легла в основу активно развивавшейся в то время теории кочевой цивили -зации монголов. В свою очередь, кочевая цивилизация стала объектом пристального внимания со стороны ЮНЕСКО, выступающей за сохранение этого явления мирового наследия. Сегодня, когда в Монголии идут дискуссии о «традиционных» и «нетрадиционных» мировоззренческих системах, цивилизационная безопасность становится частью политической повседневности.
Высокие темпы десекуляризации монгольского общества в 1990-х гг. создали новую реальность в духовной жизни монгольского общества, существенно отличающуюся от периода строительства социализма, равно как и от дореволюционного времени. Множество конфессий и храмов, принадлежащих различным религиозным течениям, изменили облик столицы Монголии. Однако десекуляризация монгольского общества не столько вернула его к первоначальным религиям, сколько создала постмодернистскую картину современности, которая представляет собой множественные гетеротопии. В свою очередь, тенденция к формированию национального государства в духе постсоветского национализма актуализировала вопрос о национальной идентичности. В результате стали преобладать две тенденции: тенденция к гомогенизации религиозного пространства с опорой на традиционные религии как маркеры идентичности и секулярист-ская тенденция в духе классического национализма.
Вокруг этих двух тенденций и общей миссии по сохранению и трансляции наследия кочевой цивилизации начало формироваться понимание цивилизационных угроз и вызовов. Однако данный сегмент безопасности является нетрадиционным для монгольского истеблишмента и пока находится вне правового поля. Изучению современной монгольской кочевой цивилизации посвящены работы Н.В. Абаева, Б.В. Базарова, А.С. Железнякова, А. Кэмпи, Ж. Леграна, Б. Энхтувшина. Данными исследователями разработано понятие «цивилизационная геополитика» и соответствующий аналитический инструментарий. Исследованиям религии монголов посвящены работы Л.Л. Абаевой, У. Баркмана, Ц.П. Ванчиковой, Р.Т. Сабирова, К. Хамфри.
Понятие кочевой цивилизации пришло из трудов А.Дж. Тойнби, получивших распространение на постсоветском пространстве в 1990-х гг. На определенном этапе так называемый цивилизационный подход рассматривался как парадигма, пришедшая на смену историческому материализму. В Монголии цивилизационная теория стала оказывать влияние на формирование новой национальной идентичности. Международный институт по изучению кочевых цивилизаций стабильно поддерживает идею уникальности кочевой цивилизации, проводя научные мероприятия и поддерживая работу по популяризации данной теории.
Цивилизация в Монголии сегодня стала рассматриваться как некая самоценность, требующая защиты на государственном уровне. Монгольские социальные философы описывают современность как некий глобальный вызов устоям «кочевой цивилизации». Апеллируя к тезису об открытости границ и гуманитарной экспансии, они зачастую рассматривают экспорт идей как некий агрессивный тренд. С другой стороны, запущенный зимой 1989/1990 гг. новый модернизационный тренд, приведший к либерализации общественной жизни, ведет к коренному изменению образа жизни монголов. Проникающие из Европы, Южной Кореи и США различные направления христианства тесно связаны с либеральной идеологией и ориентированы на изменение образа жизни монголов. Исходя из этого, мы формулируем задачу данного исследования – проанализировать основания дискурса о цивилизационной безопасности Монголии в контексте изменения в обществе отношения к поликонфессиональности.
Религия как фактор гуманитарной экспансии
Рассмотрим десекуляризацию в контексте изучаемого нами явления – использования религии в целях политического влияния. Указанный тренд пришел в Монголию в 1990-х гг. В начале нулевых годов в ходе «новой большой игры» религия стала использоваться в целях достижения определенных политических задач. В первую очередь речь идет о намерениях использовать лояльные тому или иному государству религиозные объединения в борьбе за влияние в духовной сфере страны – за «доступное духовное пространство». Монголия является постсекулярным обществом, недавно расставшимся с социалистическим прошлым, в котором еще не устоя- лись религиозные традиции и ни одна из конфессий не стала серьезной политической или экономической силой. Вместе с тем евангелизм постепенно набирает здесь все большую популярность [Тернер 2012: 30]. В 1990 г. в Улан-Баторе было открыто Библейское общество. Мормоны, баптисты, пятидесятники, адвентисты фактически получили карт-бланш для миссионерской деятельности среди монголов. Сегодня практически каждая из этих общин, а также католики имеют храмы или религиозные центры в столице страны, а также в ее провинциях [Сабиров 2006].
По данным монгольской статистики, наряду с действующими буддийскими монастырями и храмами открывается много новых, растет и число христианских церквей и религиозных сект. В 2010 г. общее число храмов и монастырей составляло 234. 54,3% общего числа храмов и монастырей в Монголии были буддийскими, 41% – христианскими, 2,6% принадлежали к исламской конфессии, 2,1% составляли церкви и священные объекты других религий. В религиозных организациях в 2010 г. было занято в общем 3,2 тыс. чел., из них 2,1 тыс. были монахами и миссионерами. Наибольшая концентрация религиозных священнослужителей сосредоточена в столице Монголии. В 2010 г. число учащихся в религиозных школах и учебных заведениях при монастырях составляло 1,6 тыс. чел., в 2009 г. их было на 22,9% меньше. При этом число изучающих религию вне учебных заведений, по данным Национальной службы статистики Монголии, достигло 4,5 тыс. чел. и выросло на 9,2% по сравнению с 2009 г. [Сабиров 2006]. В 1990 г. в Монголии было всего 4 христианина, в 2006 г. – уже 40 тыс., а сейчас, по приблизительным подсчетам, около 150 тыс., что составляет 3% общего населения страны.
Алармистские настроения
Алармистские настроения в монгольском обществе фиксируются как на уровне повседневной риторики, так и на уровне высказываний представителей иностранных конфессий. Католический епископ Венсеслао Падилья отмечал: «Чиновники более низкого уровня изначально сказали, что им не нужны католики, так как они уже буддисты, шаманисты и мусульмане, но когда они видели, какие вещи мы делаем, то были удивлены. Конституция Монголии обеспечивает свободу религии, а правительство в принципе уважает это право на практике. В то же время в международном докладе госдепартамента США за 2002 г. было указано: закон [закон об отношениях государства и церкви] ограничивает прозелитизм, и некоторые группы, желающие зарегистрироваться, наталкиваются на бюрократические препятствия». Монгольские власти все чаще озвучивают необходимость сокращения числа культовых объектов представителей не традиционных для Монголии религий до 10% числа буддистских храмов в стране. Политики объясняют это надвигающейся угрозой цивилизационной безопасности страны, в основе которой лежат буддистская и шаманист-ская составляющие, что закреплено на законодательном уровне.
В Концепции национальной безопасности (КНБ) Монголии указано: «Безопасность монгольской культуры и образа жизни означает такое положение, когда обеспечиваются условия для сохранения национального языка, истории, культуры, обычаев и традиций, которые составляют основу существования и развития монгольской нации и ее государственности и условия для вечного существования монгольского народа». Необходимо: «1) Уважать свободу совести и религиозных верований, воздерживаться от вмешательства в дела церкви со стороны государства; делать возможным для церкви свободно отправлять ее службы; держать под надзором государства число мест богослужения, их месторасположение и фактическое число священнослужителей. 2) Уделять межконфессионным отношениям особое внимание государства и предупреждать кризисы и конфликты; сохранять деятельность любой церкви в законных рамках, предупреждая любой ущерб национальной культуре, а также обычаям и традициям» 1 .
На современном этапе заметную роль в общественной жизни страны играет гражданское движение христиан. В связи с этим власти Монголии принимают меры по административному ограничению деятельности пресвитерианско-евангелистских церквей. В свою очередь, Руслан Андрейченко, пастор церкви «Свет миру» в г. Эрдэнэте, Монголия, заявил, что они «готовы к подъему внутримон-гольского движения за свободу вероисповедания» [Христиане Монголии…]. Характеризуя стремительную христианизацию Монголии, глава буддистов Далай-лама XIV заявил: «Лучше всего придерживаться собственной религиозной традиции. В Монголии миссионеры платят людям по 15 долларов за обращение в христианство. Поэтому некоторые становятся христианами каждый год, снова и снова, только чтобы получить 15 долларов за обращение в христианство! Я советую этим миссионерам не вмешиваться и позволить людям в Монголии оставаться традиционными буддистами. То же и в случае с западными людьми, когда я говорю им придерживаться своих религий» [Далай-лама XIV 2014].
Современность с ее постсекулярными тенденциями принесла в монгольское общество, да и не только в него, новые методы миссионерской работы, новые формы институционализации религии. Все это привело к возникновению дифференциации поля религии на основе самых различных критериев, хотя на первом плане находятся так называемые традиционные и нетрадиционные конфессии. С другой стороны, дифференциация проходит по принципу эксплуатации «чистоты» убеждений, а также использования привнесенных из маркетинга моделей вовлечения в орбиту своих интересов неофитов. Представитель АХЦ «Союз христиан» в Монголии, пастор церкви «Делхин Гэрэм» («Свет миру») Руслан Андрейченко рассказал об особенностях монгольского Рождества: «Для многих жителей Монголии факт наступления Рождества ни о чем не говорит, поэтому мы стараемся как можно больше рассказать о празднике неверующим людям. Это прекрасный повод помочь им встать на истинный путь. Например, в прошлом году мы устроили целый месяц Рождества. Подготовили гуманитарную помощь, раздавали подарки, сопрово- ждая такие встречи проповедью и общением… В этом году к поздравлениям и подаркам мы добавим рождественские телепередачи, которые будут транслироваться по всей Монголии на национальном языке» [Христиане Монголии…]. Ответ на данные тенденции со стороны политиков оказался сугубо «политическим» и, более того, секьюритистским. Взаимодействие между миссионерами и политиками переместилось из сегмента общественной жизни в область политики. В пространстве последней данные интеракции оказываются вписанными в жесткие рамки цивилизационного контекста и связаны с проблемами сохранения культурно-исторического наследия.
Прогнозы развития ситуации
Таким образом, очевидно, что появление концепта «цивилизационная безопасность» является следствием распространения секьюритистского дискурса и широко интерпретируемой цивилизационной теории. В результате религия становится важной основой идентичности в условиях постсоциализма. Сегодня подобный дискурсивный порядок латентно детерминирует политическую практику, однако в дальнейшем его значение будет уменьшаться. Во-первых, сегодня в монгольском обществе наметились устойчивые неосекуляристские тенденции. В рамках этого подхода двигателем религиозного подъема становится дифференциация [Sommerville 1998: 249].
Во-вторых, изменение экономической ситуации в стране влечет за собой изменение места религии в жизни общества, особенно под влиянием КНР, и в перспективе это окажет серьезное влияние на религиозную ситуацию в стране. В частности, тенденция к седентаризации (переходу к оседлости) под влиянием бурно развивающегося горнодобывающего сектора ведет к трансформации традиционных связей. По данным Всемирного банка за 2009 г., численность городского населения в Монголии составляла 57%. При этом только в столице, в г. Улан-Баторе, сосредоточено 42% населения [The Migration…].
В-третьих, все увеличивающееся влияние Китая в данном регионе, выражающееся в распространении китайского образования, языка, стиля жизни, в краткосрочной перспективе также скажется на уровне религиозности населения Монголии.
Наряду с этим существует еще и проблема дискурса, связанного с суверенитетом страны, который тесно переплетается с проблемами идентичности. Формально государство вынуждено декларировать свободу вероисповедания, которая по факту противоречит идее национального государства, основанного на модели буддистской кочевой цивилизации. С другой стороны, модернизация монгольского общества существенно меняет лояльность и идентичность, создавая новый, зачастую уже постмодернистский тип идентичности. Роль государства в данной ситуации может сводиться к функции поддержки и сохранения историко-культурного наследия. Однако в Монголии данная политика не имеет конфессиональной направленности, и в итоге буддизм или шаманизм оказываются в равном положении с нетрадиционными религиями.
Мы считаем, что современная Монголия, вступившая на путь масштабных экономических преобразований и столкнувшаяся с вызовами глобализации, постепенно уступит давлению внешних обстоятельств и откроет равные возможности для всех конфессий. При этом вызовы со стороны христианства не несут в себе масштабную угрозу монгольской идентичности уже в силу достаточно высокой конкуренции между различными направлениями данной религии в этой стране.
Таким образом, в представленной работе мы проанализировали перспективы развития концепта «цивилизационная безопасность» в политическом дискурсе Монголии. Предполагается, что данный концепт представляет собой интеллектуальный продукт, основанный на уже устаревшей цивилизационной теории. Она являлась переходной для монгольских обществоведов в условиях отказа от исторического материализма, но оказала большое влияние на поли- тический дискурс и идентификационные практики. Сегодня на ее основе в Монголии пытаются выстроить некую модель общенациональной идеи с опорой на так называемые традиционные религии. В сущности, речь идет об особой форме политического воображения, оперирующего своим категориальным аппаратом, пространственной локализацией и идентификационной сегрегацией на уровне представлений «друг – враг».
Особое место в представленном исследовательском сюжете занимает проблема номинации. Номинация как право называть то или иное явление чуждым традиции кочевых народов фактически присвоена группой политизированных интеллектуалов, опирающихся на заведомо ангажированные теории. Именно они выделяют набор черт, характерных для монгольской цивилизации, делая это весьма предвзято. Религия в данной ситуации выступает в двух ипостасях: 1) как атрибут (нехарактерный / характерный для кочевой цивилизации; 2) как самостоятельная номинационная система.
В результате распространения христианства в Монголии в 1990-х гг. (хотя процент верующих сравнительно невелик) возникли некоторые политические проблемы, в частности идеологическая конкуренция между христианскими приходами и представителями так называемых традиционных религий. В националистическом дискурсе Монголии сформировалось негативное отношение к нетрадиционным религиям, особенно к китайским конфессиям (например, к Фалуньгун). Все перечисленное понижает статус Монголии как демократического государства, в т.ч. в целом ряде правозащитных рейтингов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Религиозная ситуация во Внутренней Азии: проблемы постсоветских трансформаций», проект № 13-33-01260.