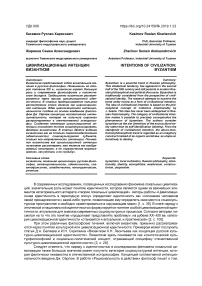Цивилизационные интенции: византизм
Автор: Касимов Руслан Харисович, Жаринов Семен Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Византизм представляет собой влиятельное течение в русской философии. Появившись во второй половине XIX в., византизм играет большую роль в современном философском и политическом дискурсе. Традиционно византизм рассматривается через призму цивилизационной идентичности. В статье предпринимается попытка рассмотрения этого явления как цивилизационной интенции. Идея цивилизационной интенциональности создана на основе введенной философом Дж. Сёрлом концепции коллективной интенциональности, которая не получила широкого распространения в отечественной историософии. Созданная категория цивилизационной интенции позволяет точнее концептуализировать феномен византизма. В статье дается видение византизма как не столько самоотождествления (идентичности) социокультурного субъекта, сколько его направленности (интенции). Понимание византизма как цивилизационной интенции позволяет рассмотреть это явление как воображаемый конструкт, а не «органическое мировоззрение», как утопию, а не «судьбу».
Византизм, локальная цивилизация, русская философия, интенциональность, идентичность, славянофильство, западничество, конструктивизм, утопизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149133825
IDR: 149133825 | УДК: 008 | DOI: 10.24158/fik.2019.1.23
Текст научной статьи Цивилизационные интенции: византизм
В современных исследованиях, посвященных исследованию феномена локальных цивилизаций, значительную роль играет понятие идентичности, которое является одним из важнейших элементов категориального аппарата «теории локальных цивилизаций». Авторы работы «Цивилизационная идентичность в переходную эпоху» определяют идентичность как «осознание человеком своей принадлежности к какой-либо группе, позволяющее ему определить свое место в социокультурном пространстве и свободно ориентироваться в окружающем мире» [1, с. 39]. В книге наряду с этнической и национальной идентичностью формулируется понятие особой цивилизационной идентичности, актуальное для анализа современных социокультурных процессов. Согласно авторам, несмотря на то что это понятие «продолжает представлять проблему», на рубеже ХХ–ХХI вв. категория цивилизационной идентичности «становится и актуальной, и практической» [2, с. 105].
При этом различные философские течения, включая византизм, привычно рассматриваются через понятия культурной или цивилизационной идентичности. Примером может послужить статья Д.А. Беляева и И.Н. Скрипкина «Византизм К.Н. Леонтьева как концепция русской культурно-цивилизационной идентичности». Византизм здесь понимается как «синтетический куль-турфилософский и социально-политический концепт, отражающий специфику отечественной культурно-цивилизационной идентичности» [3, с. 28].
Следует отметить, что наряду с идентичностью в исследовании феномена локальной цивилизации также большое значение может получить категория социокультурной интенции, которая фактически неизвестна в отечественной историософии. Концепция коллективной интенциональности введена Дж. Сёрлом. В работе «Рациональность в действии» философ пишет о том, что направленностью сознания, т. е. интенциональностью, обладают не только индивиды, но и коллективные субъекты [4, с. 75]. По аналогии с цивилизационной идентичностью можно постулировать наличие и цивилизационной интенциональности.
Между тем следует отметить, что категория интенциональности важна для анализа таких значительных течений отечественной философии, как, например, славянофильство, византизм, западничество. К примеру, последнее нельзя рассматривать исключительно через призму идентичности. Сторонник западничества не отождествляет себя с Западом, но интендирован на Запад. Категория идентичности подразумевает отождествление социокультурного субъекта с определенными объективными сущностями. В приведенном примере подобной объективной сущностью выступает Запад. Отсюда тенденция к примордиализму. Также категория идентичности коррелирует с презумпциями органицизма и эссенциализма. Категория же интенциональности подразумевает «воображенную» природу интенционального объекта. Рассмотрение социокультурных феноменов становится возможно в русле конструктивизма.
Рассмотрим через призму цивилизационной интенциональности одно из значительнейших направлений отечественной мысли – византизм. Это понятие, введенное одним из наиболее известных «классических цивилизационистов» К.Н. Леонтьевым, сегодня общепринято. Очевидно, что византизм также не подразумевает отождествления субъекта с византийской культурой и цивилизацией, а означает интенцию, направленность на них. Византийская цивилизация представляется образцом и идеалом. Иными словами, византийская цивилизация здесь престижна и высокостатусна. Русская цивилизация воспринимается как наследница и правопреемница этой «цивилизации престижа» в известной формуле Филофея: «Москва – третий Рим».
Двойственность образа византийской цивилизации отмечал еще П.Я. Чаадаев. Если в «Философических письмах» Византия предстает «предметом глубокого презрения западных народов» [5, с. 331], то в более поздней статье «Ответ на статью Хомякова» П.Я. Чаадаев выражает византийскую интенцию: «Из цветущей Византии осенило нас святое православие; а там еще в то время не отжила свой век мудрость эллинская, не отцвели художества, не догорел еще светильник древней науки». Византия совместила в себе мудрость античной Греции, достоинства древнеримского права и государства, «роскошную жизнь Востока» [6, с. 543]. Отношение к Византии становится своеобразным маркером. Для Чаадаева-западника Византия «презренная», для Чаадаева-славянофила – «цветущая». Для западников Византия такая же «недоЕвропа», как и Россия. Для славянофилов Византия – образ «идеального Запада».
Ф.И. Тютчев понимает Россию как прямую наследницу Византии. «Россия гораздо более православная, чем славянская», – писал поэт. В полном соответствии с презумпциями органицизма, Ф.И. Тютчев объявляет православие «духом», а государство – «телом» истинной христианской державы. «Святая Русь» возможна как правильное соподчинение «духа» и «тела» [7, с. 25]. «Дух» должен господствовать над «телом», византизм над славянством. Но эта идея не проводится поэтом последовательно.
Византизм как оформленное мировоззрение складывается с появлением знаменитой работы К.Н. Леонтьева «Византизм и славянство» (1872). В работе философа идея византизма описывается уже как «ясная» и «понятная». Византизм четко очерчен в различных горизонтах: религиозном, государственном, философском, этическом и эстетическом. В каждом из этих горизонтов господствует определенная идея. В горизонте религии формой византизма является православие, в горизонте государства – самодержавие, в этике – стремление к трансцендентному и нравственному самоусовершенствованию. В области философии византизм есть «сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершенства и вседовольства». Византизм противопоставляется славянству как ясное непонятному, «план обширного и поместительного здания» – «сфинксу» [8, с. 34–35].
Для К.Н. Леонтьева византийская цивилизация играет важнейшую роль в истории человечества. Не только славянская, но и романо-германская цивилизация является преемницей Византии. Но на Западе эта преемственность забыта, и Россия теперь – единственная наследница и продолжательница византийской культуры. Отсюда тезис о том, что, несмотря на преобразования Петра Великого, «основы нашего как государственного, так и домашнего быта остаются тесно связаны с византизмом. Можно бы, если бы место и время позволяли, доказать, что и все художественное творчество наше глубоко проникнуто византизмом в лучших проявлениях своих» [9, с. 38–39].
В отличие от Н.Я. Данилевского, автор «Византизма и славянства» не идеализирует славян. «Муниципальное», родовое, наследственно-аристократическое и даже семейное начала слабее у славян, чем у других народов. Сильные же стороны народа возникают благодаря влиянию византийской цивилизации: «Сильны, могучи у нас только три вещи: византийское Православие, родовое и безграничное самодержавие наше и, может быть, наш сельский поземельный мир» [10, с. 56].
Несмотря на то что «византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм» [11, с. 59], византизм К.Н. Леонтьева все же не является идентичностью. Византия в его построениях – это некий недостижимый, трансцендентный идеал, окончательное отождествление с которым принципиально невозможно. Нужно понимать, что под «Византией» здесь понимается не столько историческая Византийская империя, сколько историческая утопия, идеал. Философ не столько описывает характерные черты византийской цивилизации и культуры, сколько их конструирует . Византизм К.Н. Леонтьева – это не только «наследство», как он пишет в своей работе, но и интенция.
Византизм имеет свое продолжение и сегодня. Через век после выхода «Византизма и славянства» британский историк Д. Оболенский пишет труд с говорящим названием «Византийское содружество наций» (1971), где ставит своей задачей эксплицировать влияние византийской культуры и цивилизации на народы Восточной Европы. Историк пишет, что средневековые жители Восточной Европы «не всегда и не глубоко осознавали природу» византийской общности. «Ее размеры, неоднородность, невыявленность скрепляющих ее связей, замедленность ее развития требовали… слишком больших усилий от человеческого воображения».
Легче всего, пишет Д. Оболенский, осознавался религиозный аспект. Общность с Византией воспринималась как «единый православный мир», лидером которого была Константинопольская церковь. Общность политических, юридических и культурных моментов осознавалась гораздо меньше.
Византийцы со своей стороны, полагая, что политический строй есть часть божественного порядка, «не чувствовали необходимости глубоко размышлять о подлинном механизме международного сообщества». Для византийцев была характерна «семантическая небрежность». Свое государство они обозначали «василейа» («империя»), «ойкумена» («населенный мир»), «поли-тевма» («общество, правительство»). Последнюю историк с определенной иронией назвал британским термином commonwealth («содружество») [12, с. 14].
Византийская империя была для восточных славян прежде всего источником культурных заимствований. Примером является адаптация восточными славянами византийской литературы. Д. Оболенский проводит аналогию между «переводом» литературы и «пересадкой» растений. В границах этой метафоры труды византийских авторов «пустили ростки, которые вслед затем продолжали жить и расти на новой почве». Эта «пересадка» изменяла адаптируемый объект, так как культура-«получатель» находилась в состоянии быстрого изменения [13, с. 353]. Эта метафора отсылает к ботаническим метафорам Н.Я. Данилевского, который «пересадкой» называл один из видов культурного наследования.
В отличие от К.Н. Леонтьева Д. Оболенский скептично настроен по отношению к «византийскому наследию» в России эпохи Нового времени: «…попытки обнаружить прямую преемственность политических идей и институтов между Византией и постсредневековой Русью плохо согласуются с историей Московии на протяжении полутора веков после падения Константинополя» [14, с. 390]. Таким образом, согласно Д. Оболенскому, «византийское наследие» не является тотально определяющим характер русской культуры и цивилизации. Можно вести речь только об элементах византизма, его «рудиментах» в современной культуре. Византийская интенция в интерпретации британского историка имеет строгие хронологические границы. Такое понимание роли византийской цивилизации в формировании отечественных культуры и цивилизации, конечно же, не совпадает с «панвизантизмом» К.Н. Леонтьева. Д. Оболенский убедительно демонстрирует относительность и ограниченность византийского влияния, отсутствие провиденциализма в отношениях славянской и византийской цивилизаций.
Актуальность византизма в условиях XXI в. демонстрирует конференция «Византия XXI – византийская цивилизация в пространстве ΧΧΙ столетия». Здесь византизм рассматривался во всех аспектах современного междисциплинарного подхода. А.В. Посадский рассмотрел фундаментальную нормативность византийской цивилизации, позволявшей достичь гармоничного взаимодействия личности и межперсональной солидарности. С.Г. Волобуев предложил видение двух образов Европы. Первая – христианская и классическая. Вторая – дегуманизированная и постмодернистская. Культурным истоком первой Европы является Византия. С.А. Таразевич рассматривал византийские истоки русской культуры как «целостной и миростроительной». С.В. Егоров продемонстрировал актуальность правового наследия Византийской империи, так как византийская цивилизация есть цивилизация права. На конференции прозвучали и многие другие доклады, демонстрирующие, что византизм остается актуальным и в современности [15].
Сравнение различных концептов «византизма» приводит к выводу, что эта историософская позиция ретроспективно сконструирована философами и историками как альтернатива славизму и славянофильству. Поэтому здесь обнаруживается ряд парадоксов. Во-первых, историческое воображение упускает следующий момент. «Византийские идеи», по выражению К.Н. Леонтьева, являются не только наследием, но и заимствованиями. Культурным заимствованием является в том числе важнейший компонент византизма – православие. Однако эти заимствования никогда не рассматривались как нечто чуждое или негативное, как это случилось, например, с западноевропейской «научной рациональностью». Фактически являясь интегральной частью западной культуры, «византийское наследие» понимается как нечто исконное. Византизм воспринимается русской философией некритично, благодаря чему эта интенция принимает утопические формы.
Этому географическому парадоксу соответствует парадокс хронологический. Византизм выстраивает свой идеал как будущее, в то время как историческая Византия – это прошлое. Отсюда Византия превращается в нечто вневременное, трансцендентное – «Вечный град». Хронологически Византия также превращается в утопию. Эти парадоксы отождествления демонстрируют факт того, что интенциональный объект «Византия» «изобретен», а сам византизм является интенцией.
Решение указанных парадоксов можно найти в классической работе К. Манхейма «Идеология и утопия». Утопизм византийского идеала в системе немецко-британского ученого соответствует «третьему типу» утопий – «консервативной утопии». Первой формой был «оргаистический хилиазм», второй – «либерально-гуманитарная утопия», реакцией на которую и является утопия консервативная. Подобное же определение византизма можно обнаружить в работе французских славистов Л. Геллера и М. Нике «Утопия в России». Здесь историософская концепция К.Н. Леонтьева названа «единственной русской “консервативной утопией” в прямом смысле слова». Эта утопия обретается в «безжалостной борьбе» со славянофильскими и социалистическими утопиями [16, с. 122–124].
Характерной чертой «консервативного сознания» является, по К. Манхейму, «рассмотрение окружающего как части естественного миропорядка, который не представляет (интеллектуальных) проблем». Отсюда «консервативное сознание» не стремится вырабатывать новые идеи. Но «либерально-гуманитарная утопия» становится вызовом существованию консерватизма, что порождает, собственно, «консервативную утопию».
Консерваторы воспринимали идеи либерализма как нечто поверхностное, лишенное конкретности, как «мнение». Этому «мнению», «образу чистой субъективности» противостоит представление об «укорененности» в «живой реальности», «здесь и сейчас». Значение и реальность, норма и существование отождествляются консерваторами, так как «конкретная идея в витальном смысле присутствует в мире». «Идея» разворачивает себя в объективациях культуры, искусства и науки.
Консервативная утопия «с самого начала погружена в существующую реальность». Эта реальность «здесь и сейчас» не воспринимается как нечто негативное, но является воплощением «высших ценностей и значений». Согласно этому воззрению человек не обладает абсолютной свободой. «Внутренняя форма» исторической индивидуальности в каждый конкретный момент представляет собой персонализацию «народного духа». Внешние же условия вместе с влиянием прошлого определяют формы бытия вещей и явлений. Таким образом, исторический концепт (configuration) не может быть искусственным образом построен (constructed), но «вырастает подобно растению из семени».
Еще одной чертой консервативного сознания является «внутренняя неуверенность», которая появляется в результате «отрыва связи с миром». Философия истории появляется в рамках консерватизма, согласно К. Манхейму, как попытка перебороть эту внутреннюю неуверенность.
Либерально-гуманитарная утопия делает акцент на долженствовании, здесь выстраивается проект мира, который «должен быть» воплощен в будущем. Этот идеальный мир противопоставлен настоящему, которое «до́лжно» преобразовать. Консервативная же утопия имеет направленность на «бытие». Эта концепция не деонтологична, а онтологична. Мотив грехопадения, апостазиса означает возвращение человека к утраченному, «подлинному бытию».
Либерально-гуманитарная и консервативная утопии антагонистичны и в восприятии времени. Для либерала будущее имеет наивысшую ценность, в то время как консерватор склонен идеализировать прошлое. Прошлое в рамках консервативной утопии переживается как «актуальный опыт». Другими словами, настоящее переживается как реализация прошлого. С этой позиции история более не воспринимается ни как прогресс, т. е. «однолинейное расширение времени», ни как нить, ведущая от прошлого к будущему. Время в консервативной утопии становится «трехмерным» – настоящее и будущее становятся актуализацией прошлого [17, p. 206–214].
Классический византизм К.Н. Леонтьева отвечает теоретическим положениям К. Манхейма. Указанное последним антагонистическое отношение к либерализму в полной мере проявляется в «Византизме и славянстве». Европа, по представлению русского философа, «стремится посредством… смешения к идеалу однообразной простоты и, не дойдя до него еще далеко, должна будет пасть и уступить место другим!» [18, с. 139]. Есть место в построениях К.Н. Леонтьева и неуверенности. В случае с идеей византизма формой такой неуверенности выступает славизм, «аморфическое, стихийное, неорганизованное представление» [19, с. 35]. Историософия в «Византизме и славянстве» онтологична, Византия здесь является символом
«утраченного бытия». Она вневременный исток культуры, в том числе русской. Также можно отметить, что философия К.Н. Леонтьева выстроена в русле органицизма. Она «вырастает из бытия». Цивилизации рассматриваются им через призму метафоры живого тела. Примером может послужить описание славизма, который «скрыт незримо в аморфической массе племенного славянства, как зародыш архитектуры живого организма в сплошном желтке, и не доступен еще простому глазу» [20, с. 86].
Можно констатировать, что византизм, как форма «консервативной утопии», по определению эссенциален, органистичен и примордиален. Идея цивилизационной интенциональности позволяет критически рассмотреть эту концепцию, выявить ее внутреннюю структуру, что невозможно сделать с позиций самого консерватизма. Византизм есть культурно-историческая интенция, направленность на идеал общественного устройства. Этот идеал существует в пространстве воображения. Этот факт становится очевиден, к примеру, в свете сравнения двух «визан-тизмов» – «консервативной утопии» К.Н. Леонтьева и исторического реализма Д. Оболенского. Таким образом, Византия – это во многом, перефразируя Б. Андерсона, imagined civilization, не только исторический факт, но и социокультурный конструкт.
Ссылки:
-
1. Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты. М., 2011. 1024 c.
-
2. Там же. С. 105.
-
3. Беляев Д.А., Скрипкин И.Н. Византизм К.Н. Леонтьева как концепция русской культурно-цивилизационной идентичности // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 3 (77). С. 28–31.
-
4. Сёрл Дж. Рациональность в действии. М., 2004. 336 с.
-
5. Чаадаев П.Я. Философические письма (1829–1830) // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. М., 1991. С. 320–441.
-
6. Чаадаев П.Я. Ответ на статью А.С. Хомякова «О сельских условиях» (1843) // Там же. С. 539–546.
-
7. Тарасов Б. Федор Тютчев о назначении человека и смысле истории // Тютчев Ф.И. Россия и Запад. М., 2011. 592 с.
-
8. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство // Леонтьев К.Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. М., 2010.
-
9. Там же. С. 38–39.
-
10. Там же. С.56.
-
11. Там же. С.59.
-
12. Оболенский Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских портретов. М., 1998. 655 с.
-
13. Там же. С.353.
-
14. Там же. С.390.
-
15. Рущин Д.А. Византия XXI – византийская цивилизация в пространстве ΧΧΙ столетия // Вестник Российского философского общества. 2014. № 2 (70). С. 46–49.
-
16. Геллер Л., Нике М. Утопия в России. М. ; СПб., 2003. 312 с.
-
17. Mannheim K. Ideology and Utopia. An Introduction to the Sociology of Knowledge. L. ; Henley, 1979. 318 p.
-
18. Леонтьев К.Н. Указ. соч. С. 139.
-
19. Там же. С. 35.
-
20. Там же. С. 86.
С. 34–173.
Список литературы Цивилизационные интенции: византизм
- Кондаков И.В., Соколов К.Б., Хренов Н.А. Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты. М., 2011. 1024 c.
- Беляев Д.А., Скрипкин И.Н. Византизм К.Н. Леонтьева как концепция русской культурно-цивилизационной идентичности//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 3 (77). С. 28-31.
- Сёрл Дж. Рациональность в действии. М., 2004. 336 с.
- Чаадаев П.Я. Философические письма (1829-1830)//Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. М., 1991. С. 320-441.
- Чаадаев П.Я. Ответ на статью А.С. Хомякова «О сельских условиях» (1843)//Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. М., 1991. С. 539-546.
- Тарасов Б. Федор Тютчев о назначении человека и смысле истории//Тютчев Ф.И. Россия и Запад. М., 2011. 592 с.
- Леонтьев К.Н. Византизм и славянство//Леонтьев К.Н. Славянофильство и грядущие судьбы России. М., 2010. С. 34-173.
- Оболенский Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских портретов. М., 1998. 655 с.
- Рущин Д.А. Византия XXI -византийская цивилизация в пространстве ΧΧΙ столетия//Вестник Российского философского общества. 2014. № 2 (70). С. 46-49.
- Геллер Л., Нике М. Утопия в России. М.; СПб., 2003. 312 с.
- Mannheim K. Ideology and Utopia. An Introduction to the Sociology of Knowledge. L.; Henley, 1979. 318 p.