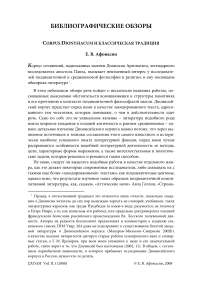Corpus Dionysiacum и классическая традиция
Автор: Афонасин Евгений Васильевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Библиографические обзоры
Статья в выпуске: 1 т.2, 2008 года.
Бесплатный доступ
Два библиографических обзора, посвященные Дионисийскому корпусу . В первом обзоре кратко рассматриваются недавние работы, посвященные проблеме неоплатонических источников корпуса. Эта тема будет продолжена в следующем выпуске. Во втором обзоре дается очерк славянской традиции бытования корпуса. Этот текст публикуется по-английски, поскольку до настоящего времени не выходило ни одной обобщающей работы по этой теме на английском языке.Two bibliographic summaries are dedicated, respectively, to the Dionysian corpus and the classical tradition and Dionysius the Areopagite in the context of Byzantine-Slavonic literary relations. The former outline is in Russian and it will be continued in the next issue (this time focused in the Christian sources of Pseudo-Dionysius), while the latter is prepared in English, since no detailed outline of this subject is available in English so far.
Короткий адрес: https://sciup.org/147103259
IDR: 147103259
Текст обзорной статьи Corpus Dionysiacum и классическая традиция
К орпус сочинений, надписанных именем Дионисия Ареопагита, легендарного последователя апостола Павла, вызывает неизменный интерес у исследователей позднеантичной и средневековой философии и религии, и ему посвящена обширная литература 1 .
В этом небольшом обзоре речь пойдет о нескольких недавних работах, посвященных выяснению обстоятельств возникновения и структуры памятника и его прочтению в контексте позднеантичной философской мысли. Дионисийский корпус предстает перед нами в качестве закодированного текста, адресованного тем читателям, которые понимают, о чем в действительности идет речь. Само по себе это не уникальное явление – литература подобного рода имела широкое хождение в поздней античности и раннем средневековье – однако детальное изучение Дионисийского корпуса важно потому, что через выявление источников и техники составления этого самого известного и исторически наиболее успешного опыта литературной фикции, перед нами лучше раскрываются особенности подобной литературной деятельности: ее методы, цели, характерные формы выражения, а также интеллектуальные и политические задачи, которые решались и решаются таким способом.
Не знаю, следует ли выделять подобные работы в качестве отдельного жанра, как это делают некоторые современные исследователи, либо связывать их с такими еще более «закодированными» текстами, как позднеантичные центоны, однако ясно, что результаты изучения таких образцов позднеантичной компилятивной литературы, как, скажем, «Аттические ночи» Авла Геллия, «Строма- ты» Климента Александрийского, ересиологические суммы или гностические собрания изречений, позволят лучше понять развитие этой интеллектуальной традиции 2. В последние годы появилось несколько исследований, посвященных этому все еще малоизученному феномену позднеантичной мысли, и в связи с Дионисийским корпусом особый интерес вызывает серия сравнительно недавних работ Иштвана Перцеля, профессора Центрально-Европейского университета (Будапешт), в которых он подробно исследовал внутреннюю структуру корпуса, успешно вписал его в подобающий культурный и литературный контекст и показал, что сочинения, циркулировавшие под псевдонимом последователя апостола Павла, являются настоящей «золотой жилой», содержащей важные сведение о религиозном и историко-философском климате эпохи, о которой так мало известно.
Оставаясь фундаментальным произведением философской мысли и неисчерпаемым источником религиозного вдохновения для последующих веков, Дионисийский корпус сам оказывается важным источником сведений о современных ему интеллектуальных течениях.
Прежде всего внимания заслуживает исключительно богатая рукописная традиция корпуса, история его передачи, интерпретации и перевода в течение полутора тысячелетий с момента возникновения на рубеже пятого и шестого веков нашей эры. В качестве важнейшего теологического документа корпус часто цитировали и комментировали византийские авторы.
Практически сразу после его появления в контексте церковной полемики он был переведен на сирийский язык теологом и врачом Сергием (Sargis) из Ришайно (Rīsh ‘Aynō), который, вероятно, происходил из Александрии и умер ок. 536 г. 3 В IX в. Фока бар Саргис (Phoqa bar Sargis) выполнил новый перевод корпуса на сирийский язык.
На протяжении средних веков корпус несколько раз переводился на латынь 4 и церковно-славянский 5 . Существуют средневековые переводы корпуса на старо-армянский 6 и старо-грузинский 7 , а также частичные переводы на коптский и арабский 8 .
Современный исследователь корпуса первым делом обращается к Гёттингенскому критическому изданию греческого текста (Suchla 1990, Heil–Ritter 1991), однако греческий текст схолий Иоанна Скитопольского и Максима Исповедника пока приходится изучать по четвертому тому Патрологии Миня, перепечатке этого текста Г. М. Прохоровым (2002) и выдержкам в критических работах, прежде всего Rorem–Lamoreaux 1998 9 . Многолетний труд группы немецких исследователей принес долгожданные плоды: издание пролога Иоанна Скитопольского и комментариев на трактат Божественные имена , выполненное, как и издание самого текста, Б. Р. Зухлой, должно было выйти, согласно планам издательства 10 , в последнем триместре 2007 г., но пока в продаже и в библиотеках не появилось. В целом, в дополнение к двум томам критического издания, планируется пятитомник Corpus Dionysiacum Areopagiticum III/1, III/2, IV, V/1 и V/2, в который войдут комментарии Иоанна Скитопольского (VI в.) и Максима Исповедника (VII в.), а также латинский перевод Эриугены, отредактированный Анастасием Библиотекарем (IX в.).
Как это отчетливо показано авторами критического издания Б. Р. Зухлой и Г. Хейлом, итальянским исследователем С. Лиллой и другими специалистами 11 , уже в начале шестого века нашей эры сочинения Псевдо-Дионисия представляли собой цельный корпус, состоящий из известных ныне четырех трактатов, О божественных именах (DN), О мистической теологии (MTh), О небесной иерархии (CH), О церковной иерархии (EH) и десяти писем ( Ep .), сопровождаемый прологом и схолиями 12 . Как показывают исследования, все современные греческие списки корпуса так или иначе восходят к одному утраченному прототипу. Его Б. Р. Зухла охарактеризовала как editio variorum и возвела к кругу Иоанна, епископа Скитополя, которому, по всей вероятности, принадлежит большинство схолий 13 . Кроме того, работа издателей показала, что сохранившиеся греческие рукописи содержат испорченный текст, который нуждается в реконструкции.
В этом контексте первый перевод корпуса на сирийский язык приобретает особое значение. Ведь автор этого перевода, который умер в 536 г., несомненно, имел доступ к ранней версии текста, еще не отредактированной Иоанном Скитопольским. Исследователи отмечают, что во многих случаях сирийский перевод Сергия более отчетлив и может успешно использоваться для прояснения греческого текста 14 .
Этот перевод сохранился в единственной и неполной рукописи VII–VIII вв. Sin. Syr. 52 из библиотеки монастыря Св. Екатерины на Синае. Однако недавно в Парижской национальной библиотеке были обнаружены первые листы сирийского перевода, по ошибке переплетенные в составе Paris BN Syr. 378, fol. 42–54v, что позволило не только дополнить существующий текст, но и получить окончательное доказательство того, что этот перевод действительно принадлежит Сергию из Ришайно 15 .
Итак, каковы источники Дионисийского корпуса?
Общеизвестно, что Прокл, и вместе с ним – непосредственно или опосредованно – неоплатоническая традиция 16 . Первые филологически состоятельные исследования того, как Псевдо-Дионисий работал с текстом Прокла, прежде всего касающиеся пространного рассуждения о зле в Божественных именах 4.18–34, выполнены более века назад 17 , однако с тех пор к этой теме обращались многие авторы 18 . Простое сопоставление текстов показывает, что Псевдо-Дионисий искусно перефразирует Прокла, последовательно адаптируя его аргументы и вписывая их в контекст своей системы. За небольшим исключением христианская модификация не затрагивает смысла аргументов Прокла, а парафраз оказывается настолько точным, что даже использован автором критического издания для восстановления утраченных частей греческого текста Прокла. Наиболее значимы два доктринальных различия. И Прокл, и Дионисий считают, что демоны – это сотворенные боги, однако согласно христианскому автору, они отпали от бога через свой грех, который и стал причиной появления зла в этом мире, в то время как для платоника немыслимо, чтобы демоны и другие высшие роды сущего утратили свое исходное совершенство. Пасть могут лишь индивидуальные души. Кроме того, стремясь подчеркнуть, что зло возникает лишь в результате свободного выбора, Дионисий не принимает Проклово положение о том, что зло находится даже в неразумных животных и телах, настаивая на том, что всякие телесные несовершенства и болезни – это лишь «меньшее благо» (DN 4.25) 19 .
Структура и содержание трактата О божественных именах исследована в недавней работе Х. Шефера 20, который, в отличие от ряда современных авторов, настаивает на оригинальности философского синтеза Дионисия. По его мнению, неизвестный христианской мыслитель, который, не «скрывался» под именем Дионисия, а «использовал» это имя как литературный псевдоним и выступал в качестве «глашатая Дионисия Ареопагита», то есть образованного грека, обратившегося в веру апостола Павла, не заслуживает обвинения в плагиате и желании присвоить себе славу Ареопагита. Как бы там ни было, Шефер полагает, что ему удалось выявить внутреннюю структуру трактата и за видимым нагромождением «божественных имен» проследить хорошо задуманную философскую систему, развивающуюся платоническую онтологию «исхождения–пребывания– возвращения» посредством библейских теонимов 21.
В небольшой книге «Теофания. Неоплатоническая философия Дионисия Ареопагита» Эрик Перл (Perl 2007) намеренно воздерживается от рассмотрения историко-культурного контекста Ареопагитик и проблемы их авторства, вместо этого сосредоточив внимание на концепции «теофания» и ее неоплатонических истоках. Первые шесть глав книги в основном касаются трактата О божественных именах , а последняя седьмая посвящена философии символа, в основном по трактату О небесной иерархии . Проблема зла также не остается без внимания и в общих чертах рассматривается в четвертой главе. В большинстве случаев Перла не беспокоит точная идентификация источников Дионисия. Напротив, он стремится выявить философское содержание его построений, обращая внимание на оригинальность и самостоятельность предложенных в корпусе решений универсальных философских проблем, прежде всего проблемы явления трансцендентного божества в мире. Согласно Перлу, бог Дионисия относится к миру подобно тому, как Плотиново единое относится ко всем остальным вещам: он трансцендентен в своем небытии и имманентен в своем непосредственном присутствии во всем в качестве «порождающих определений» («constitutive determinations»). Бог является «всем» потому, что он есть причина всего, – позиция, присутствующая у Дионисия и достигшая своей кульминации в философии переводчика Дионисия на латынь Иоанна Скотта Эриугены. «Бытие всего – это божественность превыше бытия – τὸ γὰρ εἶναι πάντων ἐστὶν ἡ ὑπὲρ τὸ εἶναι θεότης» (CH 4.1, 177D, p. 20, 17).
Джон Диллон и его ученица Сара Клайтениц Уир (Dillon–Klitenic Wear 2007) избирают в своей работе иную и, как представляется, более надежную стратегию. Их интересует не только культурно-исторический контекст, в который помещен Дионисийский корпус, но и конкретные формы неоплатонизма, которые адаптирует его автор, причем не только в своих метафизических построениях, но и в религиозно-ритуальном (теургическом) аспекте. Вполне в духе Филона, Климента или Евсевия «возвращая варварам награбленное эллинами», Псевдо-Дионисий создает уникальный универсум, строго «иерархический» и в то же время совершенно прозрачный, так что любая вещь в нем оказывается неразрывно связанной со всеми другими и непосредственно причастной высшему началу.
Правдоподобным авторам представляется такой «сценарий» (с. 131–133). В век, отмеченный жаркими церковными дебатами и последним взлетом платонической мысли, некий молодой человек, получивший хорошее образование в Александрийской и/или Афинской школах неоплатонизма, обратился в христианство, возможно, умеренно монофизитского толка 22 . Однако вместо того, чтобы отвергнуть платоническую философию как «происки сатаны», он решил не отвращаться от своих предыдущих познаний, обратив их во благо. Именно тогда ему в голову пришла замечательная идея: написать серию взаимосвязанных трактатов от имени или «в духе» первого обратившегося в христианство «философа»: Дионисия Ареопагита. Эта идея и ее реализация оказались в равной степени блестящими и уместными в эпоху распространения комментаторской, компилятивной и псевдэпиграфической литературы, когда было принято и даже необходимо скрывать свое истинное лицо по политическим и религиозным соображениям. Вводимые в оборот чудесным образом «открытые» трактаты дополнялись ссылками на другие работы древнего автора, к несчастью «утраченные», такие как, должно быть, пространное экзегетическое сочинение О символической теологии . Как и упоминания исторических личностей и фиктивных фигур, это не только улучшало видимость правдоподобия «открытия», но и намечало темы для последующей разработки.
В действительности неизвестный нам автор произвел великолепное и демонстрирующее прекрасную выучку изложение сакраментальной теургии, основанное на том, что он усвоил в неоплатонической школе и от своих христианских учителей. Мы знаем, что в качестве христианского философа он во многом опирается на Каппадокийских отцов и Оригена, однако получившийся синтез – это по большей части результат его собственных трудов. В этом качестве его можно сравнить разве что с великим компилятором Филоном Александрийским, который пятью столетиями ранее приписал всю пифагорейско-платоническую традицию (вкупе с отдельными стоическими формулировками) Моисею (с. 132).
Зависимость Псевдо-Дионисия от Прокла не вызывает сомнений, однако вопрос о его знакомстве с работами Дамаския нуждается в дальнейшем изучении 23. Возможно, эту проблему прояснит более детальное изучение терминологии Дионисийского корпуса в сопоставлении ее с терминологией Дамаския. Однако что можно сказать о трудах Плотина, Порфирия, Ямвлиха или Сириа-на? Вероятно, в защите и объяснении теургии в трактате Ямвлиха О мистериях или развернутом изложении второй гипотезы Парменида Сирианом нет ничего такого, что он не смог бы узнать непосредственно от Прокла. Однако как быть с примечательной метафизической позицией Порфирия, отвергнутой Проклом и лишь вскользь упомянутой Дамаскием в его О началах? Вероятно, Дионисий имел возможность ознакомиться с комментарием Порфирия на Парменид или какой-либо иной его работой, однако более вероятным представляется предположение, что тринитарную теологию он заимствовал, скажем, у Григория Назианзина, который, в свою очередь, мог использовать работы Порфирия анонимно, что было обычной практикой в то время. Как бы там ни было, авторы книги настаивают на том, что именно метафизическая инновация Порфирия является ключевой для понимания учения Дионисия о боге как абсолютно трансцендентной монаде, одновременно являющейся триадой, состоящей из отца, силы (или жизни) отца и сына-ума 24.
Что касается Ямвлиха, то не исключено, что Псевдо-Дионисий не только находился под его влиянием, разрабатывая свое учение о теургии, но и заимствовал у него саму идею выступления под псевдонимом. Ведь именно такую стратегию избрал Ямвлих, который, желая придать вес своему ответу на возражения Порфирия о теургии, написал трактат О мистериях в форме послания египетского главного жреца Абаммона другому жрецу по имени Анебон.
Следует признать, однако, что Псевдо-Дионисий предпринял гораздо более серьезный маневр, нежели Ямвлих. Не ограничившись, как Ямвлих, чисто литературной фикцией, он сознательно пошел на подлог. Исследуя мотивы подобного поступка, авторы книги обращают внимание на хорошо известную практику сочинения псевдэпиграфической (прежде всего, неопи-фагорейской) литературы во втором–первом веках до нашей эры, с одной стороны, и многочисленные образцы подложной «откровенной» раннехристианской (и гностической) литературы, с другой. Важно понимать, что эти два типа литературной деятельности существенно различны. Раннехристианские авторы, сочиняющие тексты от имени апостолов и даже самого Христа, по-видимому верили в то, что на этот поступок их вдохновляет Святой Дух. Возможно, заблуждаясь сами, они не имели намерения ввести в заблуждение других. Их задачей было сообщение высшего откровения, которое происходит из источника этого откровения.
Напротив, авторы псевдопифагорейских писаний прекрасно осознавали то обстоятельство, что они изготавливают фальшивки, в некоторых случаях преследуя коммерческий интерес. Однако ошибкой было бы считать это основным побудительным мотивом. Авторы пифагорейских писаний двух последних веков до нашей эры, приписывая свои опусы известным пифагорейцам древности, как александрийские эрудиты Филон, Климент 25 или, к примеру, платоник и неопифагореец Нумений из Апамеи 26 впоследствии, искренне верили в то, что своими трудами исправляют историческую несправедливость, «возвращая» потерянное, несправедливо забытое или награбленное их истинному хозяину. Неопифагорейцы (как анонимные авторы второго–первого веков до нашей эры, так и Нумений, живший во втором веке нашей эры) верили в то, что Пифагор и его непосредственные последователи предвосхитили дальнейшее развитие греческой философии, что платоники, аристотелики и стоики просто воспользовались готовым знанием, поэтому исторически справедливым будет сообщить миру то, что сам Пифагор и древние пифагорейцы не могли сказать, будучи связаны обетом молчания. Точно так же, как уже отмечалось, Филон, а вслед за ним Климент и другие раннехристианские авторы считали, что истинный источник мудрости был впервые открыт Моисеем, который возвестил миру откровение истинного бога 27. Откуда мысль о том, что все «самое лучшее», что постигли эллины в силу «естественного откровения и природного ума», может быть виндицировано и употреблено для построения иудео-христианской «истинной» философии.
Не мог ли неизвестный нам автор Дионисийского корпуса рассуждать подобным образом? Если это так, то оставалось лишь найти подходящую кандидатуру, и образованный эллин, член Афинского Ареопага, подходил на эту роль как нельзя лучше. Другим побудительным мотивом автора корпуса, вероятно, было стремление найти компромиссное христологическое решение. Как бы там ни было, философские достоинства произведения и уместность его появления привели к тому, что современники позволили убедить себя в подлинности, почти боговдохновенности сочинений Дионисия и открыли дорогу для этой, наверное, самой успешной подделки в истории философской мысли.
Эти, возможно слишком спекулятивные, выводы нуждаются в подкреплении конкретными примерами. Об этом речь пойдет во второй части обзора, который войдет в следующий выпуск журнала.
Далее в этом выпуске публикуются две работы, посвященные славянской традиции Ареопагитик: мой библиографический очерк и статья Вл. Иткина.
[Библиографию см. ниже, на с. 116–123]
Список литературы Corpus Dionysiacum и классическая традиция
- стр. 116-123