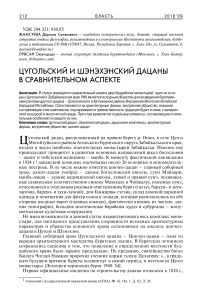Цугольский и Шэнэхэнский дацаны в сравнительном аспекте
Автор: Жамсуева Дарима Санжиевна, Лувсан Оюунцэцэг
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится сравнительный анализ двух буддийских монастырей, один из которых (Цугольский в Забайкальском крае РФ) является исходным объектом для возведения бурятами-эмигрантами другого дацана - Шэнэхэнского в Автономном районе Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики. Сопоставляются их архитектурные формы, внутреннее убранство, внешние составляющие этих комплексов, подчеркиваются преемственность традиции бурят и связь с материнской культурой в иноэтничной среде. При этом выявляются отдельные элементы, составляющие отличительные особенности каждого из них.
Цугольский дацан, шэнэхэнский дацан, дацанские комплексы, архитектурные формы, внутреннее убранство, цокчен-дуган
Короткий адрес: https://sciup.org/170170829
IDR: 170170829 | УДК: 294.321; | DOI: 10.31171/vlast.v26i9.6182
Текст научной статьи Цугольский и Шэнэхэнский дацаны в сравнительном аспекте
Ц угольский дацан, расположенный на правом берегу р. Онон, в селе Цугол
Могойтуйского района Агинского Бурятского округа Забайкальского края, входил в число наиболее значительных монастырей 3абайкалья. Именно ему принадлежит приоритет в развитии основных направлений школ богословия – цанит и тибетской медицины – манба. К моменту фактической ликвидации в 1934 г.1 дацанский комплекс насчитывал около 20 основных и вспомогательных построек. В их числе можно отметить цокчен-дацан – главный соборный храм, цанит-дацан (чойра) – здание богословской школы, сумэ Майдари, манба-дацан – здание медицинской школы, левый и правый сумэ, посвященные сахюусанам (соответственно синему Махакале и Чойжалу), именные сумэ, относящиеся к отдельным родовым ответвлениям бурят (галзут, баруун- и зуун-харгана, баруун- и зуун-хуасай), дом Ганжирвы-гэгэна, склад ламской парадной одежды и помещения для фигур слона и лошади, которые располагались по обе стороны входных ворот (главных южных), фактически являясь их частью, здание типографии, большие молитвенные барабаны хурдэ и субурганы – монументальные культовые сооружения.
Не имея возможности в данной статье охарактеризовать весь комплекс монастыря, для наглядного представления сохранности исходных архитектурных параметров и убранства основного храма остановимся на анализе цокчен-дацана в Цуголе и Шэнэхэне.
Главный соборный храм Цугольского дацана – Цокчен-дацан – одна из вершин архитектурного мастерства бурятских зодчих. В бурятских летописях сохранились сведения о том, что появление в определенной местности буддийского храма было заранее предсказано. По преданию, святейшество богдо Банчен Чоглай Намжил пророчил ученому цоржи гэлуну Цультиму: «…в грядущем будущем времени буряты воздвигнут в некий период, в местности Цугол монастырь» [Летописи хоринских бурят 1940: 54].
Первые официальные сведения по строительству дацана относятся к 1826 г., когда буряты зуун-харганатского, зуун-хуацайского и галзутского родов ввиду удаленности от приходского Агинского дацана обратились к начальнику Нерчинского округа с просьбой ходатайствовать перед вышестоящими организациями о разрешении им построить деревянную кумирню у хребта Урдунуй. Разрешение за № 111 было получено в марте 1826 г.1
В официальном списке «Ламайские дацаны Восточной Сибири» основание Цугольского дацана датируется 1801 г. [Кирилов 1896: Прил. II]. Первоначально это был войлочный храм [Ламаизм в Бурятии… 1983: 47]. Мощный импульс к дальнейшему росту Цугольский дацан получил после того, как «зайсаны ближайших окрестностей Онона, Цугола и Аги – Хуяк Лубсаев и Тугулдур Тобоев… попросили главного ламу пандита-хамбу забайкальских буддистов о присылке ламы... По приказу пожаловал шанзодба Худунского дацана Лубсан Дондоб Дандаров» [Летописи хоринских бурят 1940: 54], именуемый в летописи основателем дацана.
По той же летописи, постройка трехэтажного деревянного здания была начата в 1831 г. и завершена в 1834 г. По окончании строительства был совершен ритуал освящения, во время которого «устраивали молебствие свыше двухсот лам, собралось и молилось около 3000 человек» [Летописи хоринских бурят 1940: 31, 39, 54]. Цугольский дацан получил название Даши Чойнпиллинг. Хранителем его был определен Чойжал – одно из гневных божеств буддийского пантеона.
Цокчен-дацан представляет собой наиболее монументальную, роскошно декорированную постройку бурятских мастеров с заимствованиями из китайского и тибетского стилей. Внутреннее его убранство мы представляем фрагментарно по дневниковым записям Б. Барадина: «Храм – 3-х этажный, за исключением верхнего этажа, – весь из кирпича. Покрыт обыкновенным кровельным железом под желтую краску и подделан под вид китайской черепичной покрышки.
На обоих краях лицевой стороны нижнего этажа прибиты золоченные на меди накрест лежащие ваджры [символ крепости, несокрушимости]. На каждой стороне – расположены по 5 ваджр.
Начиная с обоих краев наружной стены [нижнего этажа] поднимаются две чугунные лестницы, ведущие во 2-й этаж. Эти лестницы были специально заказаны в Петровском Заводе. Украшены статуэтками львов, которые вставлены на обеих полосах, за которые держат руками... Лестницы находятся под открытым небом и поддерживаются на месте изгиба одним тонким чугунным столбиком. Каждая лестница имеет один изгиб, и каждая половина – по 20 ступеней.
Под отделением второго этажа, которое висит на шести колоннах, образуется открытая обширная площадь перед дверьми. Эта площадь служит крыльцом храма, и поднимается оно с юга мраморными ступенями. Пол крыльца перед каждым из трех дверей – мраморный, а остальная часть пола устлана кирпичом. На боковых сторонах крыльца обнесены невысокие кирпичные обыкновенные стенки…
Кругом на тех сторонах его сделаны деревянные перила из “бумб” в желтый цвет. Так как длина отделения меньше главного корпуса храма, то оставляет по обеим своим сторонам – на главном корпусе два свободных пространства. На этих 2-х пространствах прикреплены два “Намжу вандан’ы” [ rnam bcu dbang ldan ] из золоченой меди...
Существенным украшением внешности храма представляют весьма толстые карнизы, богато украшенные деревянной резьбой в несколько рядов и выкра- шенные в желтые цвета – в обыкновенном китайском стиле, как-то: тумын жаргаланы, цветы лотоса и т.д.
Все углы храма, как в китайском стиле, весьма приподняты концы углов верхнего этажа оканчиваются головами водяных чудовищ “макаров”, а концы углов среднего этажа оканчиваются волнообразными украшениями “угулзы”. На концах же нижнего этажа – нет никаких украшений…
При входе чрез главную среднюю дверь внутренность храма представляет просторную слабо освещенную залу с красными колонами и своеобразным убранством.
Южная и северная стены увешаны иконами и прочими предметами, а западная и восточная стены, как упомянуто раньше, – совершенно голы» [Дневник вольнослушателя… 2013: 118-135].
Таким образом, основываясь на записи Б. Барадина по описанию цокчен-дацана, мы имеем возможность фрагментарно восстановить его содержание и внутреннее пространство.
В 1935 г. на основании Постановления ЦИКа БМАССР от 20 апреля за № 28 принадлежащие Цугольскому дацану культовые предметы и атрибуты буддийской практики были переданы «члену комиссии – представителю Антирелигиозного музея системы ВКП БМАССР в лице тов. Нацова Г.Д. на основе доверенности Антирелигиозного музея от 19 октября 1935 г. за № 127… безвозмездно»1, а 3 октября 1936 г. представитель Агинского аймачного исполнительного комитета Дамбоин Шираб-Нимбо и представители 57-й стрелковой дивизии военный инженер Золотарев и лейтенант Пенегин на основании Постановления Президиума ЦИКа БМАССР от 8 августа 1936 г. за № 74 составили приемо-сдаточный акт о передаче строений, оставшихся в Цугольском дацане, в ведение НКО 57-й СД безвозмездно.
В 1988 г. Цугольский дацан был возвращен буддийской общине. Начался новый отсчет деятельности буддийского храма на нелегком пути возвращения к духовным истокам.
Охарактеризованный выше яркий образец бурятского зодчества второй половины XIX в. усилиями группы бурят, обосновавшихся на северо-востоке Китая, нашел свое новое воплощение. Первые переселенцы из забайкальских степей на территории Китая расположились в местности Шэнэхэн, в 30 км от г. Хайлара, в период обострения конфликта на межнациональной основе еще после революции 1905–1907 гг.2 Миграция бурят приобрела массовый характер во времена потрясений Гражданской войны в России и начавшихся преобразований в стране. Шэнэхэнские буряты – это локальная этническая группа, компактно проживающая в Хулун-Буирском аймаке Эвенкийского хошуна Внутренней Монголии Китая, предки которых в основном являлись выходцами из Приононья, Борзи, Агинских степей Забайкальского края. Таким образом, вполне логичным представляется решение выходцев из России при возведении храма на новом месте обитания обратиться к архитектурному облику традиционного объекта вероисповедания и поклонения. Построенный в 1928 г. на правом берегу р. Шэнэхэн в Эвэнкийском хошуне Хулун-Буирского аймака АРВМ КНР буддийский храм, получивший название Даша Дондоблин, являлся по архитектурному облику подобием Цугольского дацана. Во времена «культурной революции» в 1966 г. он был разрушен, а в 1984 г. отстроен и восстановлен в прежнем виде. По свидетельству местного историка С. Жамса, «прибывшие из России ламы являлись в большинстве своем монахами
Цугольского, Агинского, Гунэйского дацанов [Забайкалья]. Кроме того, было несколько лам из Эгитинского, Чисанского, Зугалайского дацанов [Бурятии]. Таким образом, основной состав монахов составляли служители Цугольского дацана, а настоятелем был назначен Наянтайн Жалсан, занимавший в свое время высокую должность в том же Цугольском дацане» [Жамса 2017: 105]. Все это обусловило, по мнению исследователя истории шэнэхэнцев, преемственность традиции, которая проявилась не только при строительстве здания монастыря, соблюдении основных архитектурных форм, но и в организации монастырской деятельности, прежде всего начитывании ежедневных и крупных хуралов/молебнов, отправлении религиозных нужд, как было принято в Цугольском дацане.
При посещении восстановленного и ныне действующего Шэнэхэнского дацана было выявлено, что характерной чертой явилось стремление шэнэхэн-ских бурят подчинить строительство своего дацана бурятской школе буддийского зодчества, в данном случае – образцу Цугольского дацана. Это говорит о желании шэнэхэнцев сохранить свои родовые традиции, свою направленность и некоторую общность с родиной. Следует подчеркнуть, что «образцовый» Шэнэхэнский дацан отражает все многообразие архитектуры и всю сложность символики декоративных элементов, характерных для Цугольского дацана. Это и ярусное развитие объема в виде ступенчатой пирамиды с галереями и колоннадами на верхних этажах, и яркая полихромия, и крыша с поднятыми углами, и поэтажные залы с рядами колонн. Творческая самостоятельность шэнэ-хэнцев проявилась, на наш взгляд, только в оформлении колонн портика (в Цугольском дацане они выполнены из зеленой майолики), оформлении окон (цветовое различие в стилистике) и в некоторых незначительных декоративных элементах. Внутреннее убранство Шэнэхэнского дацана отражает также традиции Цугольского дацана (в целом – иконографический канон северного буддизма), но отличительной особенностью алтарного храмового буддийского пантеона в Шэнэхэнском дацане является новшество, традиционное для Китая, – это Будда из белого фарфора. Характерной особенностью сходства архитектурной выразительности лицевой стороны храма является ажурная чугунная лестница, стенки которой украшены решетчатыми культовыми элементами – фигурами львов-чакр. В цугольском варианте он изображен в виде закрытой орнаментальной композиции по типу «облачного узора», а в шэнэхэнском та же композиция выполнена в более грубой форме. Вероятно, шэнэхэнские буряты считали архитектуру Цугольского дацана наиболее точным воспроизведением руководящего религиозного принципа. Продолжая идти своим путем, они практически через столетие воспроизвели «свой» дацан-спутник, к приходу которого относились их родители.
Шэнэхэнские буряты, оказавшиеся изолированными от материнского этноса, выбрали, сознательно или бессознательно, замкнутый круг традиционного уклада жизни. В отрыве от основной массы этноса, в иноэтничной среде у переселенцев-бурят актуализировалась дихотомия «мы – они», выдвинувшая на первый план этноинтегрирующие признаки. Основным фактором их едине-ния/сплочения служила религия, центром их консолидации стал Шэнэхэнский дацан. Подтверждением этому служит утверждение краеведа С-Е. Сэмжэда: «Расцвет культуры Шэнэхэна берет начало от Шэнэхэнского дацана» [Сэмжэд 2013: 8]. Она связывает благополучие и благоденствие китайских бурят с деятельностью священнослужителей, игравших на первых и дальнейших этапах обустройства на новой территории первостепенную роль. Ламы не только наставляли своих подопечных. Их роль неоценима и в отправлении нужд жизненного цикла мирян при рождении, смерти, бытовой повседневности. Кроме того, шэнэхэнское духовенство отличалось высокой образованностью и громадным багажом традиционных знаний, к примеру в изготовлении лекарственных средств и их применении в лечении.
Работа выполнена при поддержке РФФИ-МОКНМа в рамках научно-исследовательского проекта № 18-512-94003 «Сохранность и трансформация фольклорных и этнокультурных традиций бурят России, Монголии и Китая».
Список литературы Цугольский и Шэнэхэнский дацаны в сравнительном аспекте
- Дневник вольнослушателя Санкт-Петербургского университета Базара Барадина по бурятским дацанам (1903-1904) (подг. к публ., пред., ком., указ. Д.С. Жамсуевой). 2013. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 237 с
- Кирилов Н. 1896. Дацаны в Забайкалье. Хабаровск: Зап. Приам. Имп. РГО. Т. 1. Вып. II. 133 с
- Ламаизм в Бурятии XVIII - начала ХХ вв. 1983. Новосибирск: Наука. 247 с
- Летописи хоринских бурят: хроники Тугулдур Тобоева и Вандана Юмсунова. 1940. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 107 с
- Согтын Жамса. Буряад-монголшуудай Шэнэхээн нютагай түүхэ [История бурят-монголов из Шэнэхэна]. 2017. Улаан-Үдэ: Бальжинимаев А.Б. 144 с
- Сэмжэд С.-Е. 2013. Шэнэхээн соелой ундарал [Истоки культуры шэнэхэнцев]. Улан-Удэ: НоваПринт. 192 с