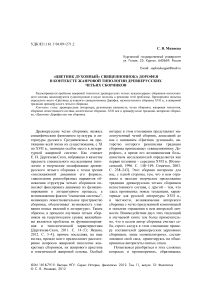«Цветник духовный» священноинока Дорофея в контексте жанровой типологии древнерусских четьих сборников
Автор: Минеева Софья Викторовна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусский четий сборник:текст–контекст
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема жанровой типологии древнерусских четьих некалендарных сборников непостоянного состава, анализируются существующие в науке подходы к решению этой проблемы. Предпринята попытка определить место «Цветника духовного» священноинока Дорофея, малоизученного сборника XVII в., в жанровой традиции древнерусского четьего сборника.
Древнерусская литература, рукописная книжность, четьи сборники, жанровая типология, сборники непостоянного состава, аскетические сборники, xvii век и древнерусские традиции, авторские сборники, "цветник" дорофея как тип сборника
Короткий адрес: https://sciup.org/14737727
IDR: 14737727 | УДК: 821.161.1’04.09+271.2
Текст научной статьи «Цветник духовный» священноинока Дорофея в контексте жанровой типологии древнерусских четьих сборников
Древнерусские четьи сборники, являясь специфическим феноменом культуры и литературы русского Средневековья на протяжении всей эпохи их существования, c XI по XVII в., занимали особое место в литературной жанровой системе. Как считает Е. И. Дергачева-Скоп, избравшая в качестве предмета специального исследования типологию и творческие модификации древнерусского четьего сборника с точки зрения «эволюционной динамики его формы», «накопление разнообразных вариантов обновления структуры четьих сборников позволяет фиксировать динамику их функционирования в литературном процессе, а возникновение фактов “смещения системы”, меняющих повествовательное пространство сборника, обеспечивает возможность узнавания новых явлений в литературе». Таким образом, в процессе изучения четьих сборников на теоретическом уровне важнейшими являются проблемы их функционирования и типологической характеристики [Дергачева-Скоп, 2011. С. 14–53; Якшин, 2012. С. 3–4], причем последняя, на наш взгляд, прежде всего предполагает рассмотрение вопросов жанровой типологии конкретных сборников, их жанрового архетипа и генетической жанровой основы. Особый интерес в этом отношении представляет малоизученный четий сборник, дошедший до нас с названием «Цветник духовный», авторство которого рукописная традиция сборника приписывает «священноиноку Дорофею», а время его возникновения большинством исследователей определяется как первая половина – середина XVII в. [Вознесенский, 1996. С. 148–149; Семячко, 2003. С. 238–243]. Этот сборник интересен для нас, с одной стороны, тем, что в нем отражены и находят творческое продолжение традиции древнерусских четьих сборников непостоянного состава, с другой – тем, что здесь проявились новые тенденции, характерные для русской литературы XVII в., в частности, возникновение авторского сборника с четко продуманной композицией и попытки отражения в нем авторской личности. Взаимодействие двух этих тенденций в изучаемой книге тем более примечательно, что в целом автор сборника считает себя, строго следуя в этом отношении примеру составителей древнерусских церковных сборников, лишь «компилятором», составляющим свой свод, ориентируясь на общепринятые авторитеты святых отцов.
Попытаемся разобраться в этих сложных вопросах и противоречиях, обратившись
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 12: Филология © С. В. Минеева, 2012
прежде всего к выяснению проблемы соотношения «Цветника» священноинока Дорофея с жанровыми типами древнерусских четьих некалендарных сборников непостоянного состава.
-
В. В. Кусков, изучая жанры и стили древнерусской литературы XI – первой половины XIII в., характеризует сборники как особый «синтетический» жанр, подразделяя их на два типа («философско-дидактические и нравственно-дидактические») и говоря о том, что они были «составлены преимущественно из творений отцов церкви и произведений оригинальных, часто приписываемых церковным авторитетам» [1980. С. 10– 11]. «Философско-дидактическим сборником, завещанным болгарской письменностью, является знаменитый… Святославов Изборник 1073 г. Этот энциклопедический сборник… давал ответы на самые различные вопросы философско-богословского, нравственного и исторического содержания. Преобладающее место в Изборнике занимает вопросно-ответная форма, жанр беседы, за ним следует учительное слово, слово обличительное, философский трактат, информационно-справочные статьи» [Там же. С. 14–15]. «На вопросы морально-этические отвечали статьи Изборника 1076 г. … Основу жанрового содержания Изборника составляют изречения, подобранные в определенной тематической последовательности с целью наставить читателя “на правый путь спасения”… Изборник 1076 г. – типичный нравоучительный древнерусский сборник, приближающийся к жанру гномологическому» [Там же. С. 16]. «К типу нравственнодидактических сборников относится “Злато-струй”, составленный в Болгарии при царе Симеоне… Сами составители сборника считали, что его чтение принесет читателю “многу пользу” душе и телу, отмывая его от всякой скверны, телесной и душевной, “златыми струями сладких речей”. Составители сборника… центральное внимание уделяли вопросам нравственным» [Там же]. «Изборник 1076 г. положил основание для появления такого популярного на Руси четьего сборника, как “Измарагд”… I редакция “Измарагда”, относящаяся, очевидно, еще к концу XI – началу XIII века… содержит 79 глав и включает в свой состав произведения Иоанна Златоуста, патриарха Геннадия, Кирилла Иерусалимского, Василия Великого, Евсевия, Козьмы пресвитера, Афанасия
Александрийского, Анастасия Синаита, Менандра Мудрого, Григория Богослова, Антиоха, извлечения из жития Нифонта Кон-стантского и др. Многие слова, вероятно, были составлены непосредственно древнерусскими проповедниками, пожелавшими скрыться за авторитетными именами византийских отцов церкви. Важнейшим средством воздействия на ум и сердце читателей “Измарагда” служил жанр притчи… Составители сборника тематически группировали материал, нарочито повторяли одни и те же нравственные истины, облекая их в разнообразные формы словесного выражения… Для домашнего чтения мирянами предназначался “Измарагд” 2-й редакции, созданной уже в XV в. Состав этой редакции значительно расширен за счет поучительных и обличительных слов, апокрифического материала. В ней широко представлен повествовательный материал, свидетельствующий об изменении художественных вкусов: большое место среди слов… занимает пате-риковая и бытовая новелла… Более последовательно… проведена систематизация статей… Дидактическая направленность статей сборника способствовала их необычной жанровой подвижности: вопросноответный жанр легко преобразовывался в учительное слово, “наказание”; компиляция отрывков из жития – в слово обличительное, патериковая “новелла” – в назидательное слово» [Там же. С. 16–17].
Таким образом, В. В. Кусков для древнейшего периода русской литературы считает характерным тип энциклопедического четьего сборника, предназначенного в основном для чтения христианами-мирянами, составленный из отдельных разножанровых компонентов, большинство из которых заимствовано из творений греческих отцов церкви (с указанием их имен в заглавиях произведений), и представленный двумя жанровыми видами – философско- и нравственно-дидактическими сборниками.
О том же типе древнерусских четьих сборников говорит и В. П. Адрианова-Пе-ретц: «Через все средневековье мы можем проследить наличие в круге чтения мирских “четьих” книг того раздела переводных и русских произведений, которые могут быть объединены определением “религиозноучительные” и которые, помимо культовой функции, выполняли также роль своего рода научно-популярных пособий. Эти книги обычно имели вид сборников то разнообразного содержания, в том числе и религиозно-учительного, то с тематически подобранным материалом. Старшим образцом такого сборника был Изборник 1076 г. – своего рода хрестоматия, где подобраны выписки из самых разнообразных по жанру дидактических сочинений библейской и византийской учительной литературы. Большое число византийских, южнославянских и созданных по их типу древнерусских “поучений-слов” было объединено в широко распространенном до XVII в., а в старообрядческой среде и до Нового времени, сборнике, получившем наименование “Изма-рагд”» [Адрианова-Перетц, 1974. С. 6]. Таким образом, исследовательница тоже говорит о традиции четьих энциклопедических дидактических сборников, рассчитанных на читателей-мирян, но в основе своей имеющих церковно-христианскую направленность, определяя эти сборники как «религиозно-учительные» и выделяя два их типа – «разнообразного содержания» и «с тематически подобранным материалом».
Р. П. Дмитриева посвятила изучению типологии четьих сборников XV в. специальную статью. Исходя из признания того факта, что «в рукописном наследии Древней Руси значительную долю составляют разного рода сборники», исследовательница разделяет их по типу на «тематические» и «сборники неопределенного состава» [1972. С. 150–151].
«Типы тематических сборников многообразны. Хорошо известны сборники с традиционным содержанием, ведущие свое происхождение от греческих оригиналов. Эти сборники имеют определенные названия : “Пчела”, “Златая цепь”, “Измарагд”, “Зла-тоструй”. Они представляют собой более или менее устойчивый подбор статей учительного характера и морально-философских изречений. Кроме того, рукописное наследие сохранило массу сборников, которые тоже можно определять как тематические. Но в отличие от названных выше переводных сборников эти тематические сборники можно классифицировать и объединять на основании их содержания, при этом они могут быть не связаны общим происхождением. Чаще эти сборники возникают независимо друг от друга, по преимуществу каждый новый составитель подбирает статьи для них заново» [Там же. С. 150].
Большинство сборников неопределенного состава, считает Р. П. Дмитриева, принадлежит к числу так называемых «четьих сборников», и уточняет определение последнего: «Под четьими сборниками мы понимаем те рукописи, которые предназначались для чтения на досуге. Именно в составе этих сборников преимущественно сохранились литературные произведения» [Там же. С. 151]; при этом вполне закономерно ставится задача выяснения «природы некоторых видов четьих сборников в пределах XV и XVI вв.» [Там же], т. е. хронологического периода, когда жанр четьего сборника получает в древнерусской литературе наибольшее развитие.
В XV в. наиболее распространенным, по наблюдению исследовательницы, становится тип некалендарного четьего сборника непостоянного состава, «состоящего, по преимуществу, из житий, сказаний, «слов» и повестей церковно-назидательной и богословской тематики. Сочетание статей в сборниках бывает самое разнообразное, так как каждый составитель подбирает статьи заново, по своему усмотрению» [Там же. С. 152]. «По преимуществу четьи сборники с богословско-церковной тематикой остаются верны традиции и содержат в основном богоугодное чтение… Тип сборника с церковно-богословской тематикой является в целом устойчивым и очень распространенным не только в XV в.; правила создания этих сборников являются не новыми; XV в. продолжает более раннюю традицию кни-гописания, хотя во вновь создаваемые сборники, естественно, вовлекаются новые произведения. Эта традиция перейдет и в XVI в.» [Там же. С. 160].
Р. П. Дмитриева считает, что на основе выработанной традиционной системы жанра монастырских четьих сборников во второй половине XV в. возникает новый своеобразный тип сборника, связанный с идейными и литературными явлениями его времени, который условно определяется ею как «энциклопедический» [Там же. С. 161]. «Основным и главным признаком, позволяющим выделить энциклопедические сборники как особую разновидность четьего сборника, является разнообразие их содержания, оно затрагивает все виды знаний, имевшие распространение в то время: богословие, философию, историю, географию, естественные науки, астрологию, литературу, законода- тельство… В литературном сознании составителей между обоими жанрами – церковно-богословским и энциклопедическим – существовала реальная граница» [Дмитриева, 1972. С. 161]. При этом отмечается, что «сборников энциклопедического типа сравнительно с остальными четьими сборниками сохранилось немного», но о том, что «этот тип сборника действительно был устойчивым и характерным для второй половины XV в., свидетельствуют рукописи того времени, созданные в разных географических пунктах и связанные с разными литературными центрами» [Там же. С. 162].
Таким образом, Р. П. Дмитриева, рассматривая проблему типологии некалендарных древнерусских четьих сборников XV в., подразделяет их на «тематические» и «непостоянного состава», специально сосредотачивая свое внимание на жанровом типе последних, внутри которого она выделяет сборники церковно-назидательной и богословской тематики и сборники «энциклопедические», изучению своеобразия которых в основном и посвящена рассмотренная статья.
К изучению первого выделяемого Дмитриевой типа – некалендарных четьих сборников непостоянного состава церковно-назидательной и богословской тематики – обратилась в последнее время М. С. Егорова, которая выделила их особый жанровотематический тип – «сборники аскетические», подразделив его на «сборники произведений одного автора» и «своды» [2004]. Тип аскетического сборника представляет для нас специальный интерес, поскольку именно он, как нам кажется, был наиболее близок к «жанровому архетипу» «Цветника духовного» священноинока Дорофея.
По наблюдениям М. С. Егоровой, именно «с середины XIV в. в славянских землях, помимо сборников произведений одного автора, получают широкое распространение так называемые сборники аскетического содержания, примыкающие – по тематике входивших в них текстов – к тому фонду мистико-аскетической литературы, формирование которого во многом определило характер литературной ситуации рубежа XIV–XV вв.». «Сборник как особый тип средневековой книги, как сложный комплекс текстов разного происхождения может быть противопоставлен так называемым сборникам произведений одного автора, го- могенным текстам, например “Лествице” Иоанна Синайского, комплексу поучений Исаака Сирина или “Постничеству” Василия Великого. В рамках аскетики это противопоставление становится особенно актуальным – и потому очевидным – в славянской литературной системе с середины XIV в., хотя сама традиция создания четьих сборников сложилась, как известно, очень рано» [Там же. С. 181]. Специфика содержательной направленности сборника этого типа «выражается в интересе книжников к одной и той же, добавим – аскетической тематике... В подавляющем большинстве это произведения св. отцов, вошедшие в формировавшийся на тот момент в славянских землях фонд мистико-аскетической литературы. Среди авторов мы найдем имена св. Василия Великого, Иоанна Лествич-ника, Диадоха Фотийского, Григория Си-наита, Петра Дамаскина, Симеона Нового Богослова, Исаака Сирина и т. п.» [Там же. С. 182].
«Формальное различие между собственно сборниками и сборниками произведений одного автора устанавливается на уровне композиции, архитектоники текста, так как в аскетических сборниках отсутствует “текстовое ядро” – крупное произведение одного автора, сопровождаемое дополнительными статьями в начале и конце. В композиционном плане аскетические сборники представляют собой незамкнутую структуру, открытую для дальнейшего расширения за счет совершенно равноправных в конститутивном смысле текстов. Ни один из входящих в сборник текстов нельзя назвать ни центральным, ни дополняющим. Структурным прототипом аскетических сборников, по-видимому, являются патерики и “Apophthegmata patrum”, на что указывает широкое использование отрывков из них в качестве своеобразных “связок” между текстами» [Там же]. «Распространение аскетических сборников, так же как и появление новых и переработка старых переводов сочинений св. отцов-аскетов на славянском юге в середине XIV в., безусловно, связано с возрождением исихастских традиций православного монашества в Византии и на Балканах… Практический опыт подвизания требовал от отшельников, скитян и киновитов Парории, Афона, Константинополя, Видина, Тырнова обращения за руководством к священному преданию Церкви – духовному опыту св. отцов-подвижников, зафиксированному в текстах и освященному Церковью. Аскетические сборники должны были полностью удовлетворить этот запрос: сведенные в единую книгу святоотеческие тексты обеспечивали читателя авторитетной поддержкой и руководством» [Егорова, 2004. С. 183].
Обратим внимание еще на один весьма важный для нас момент: «При составлении свода вмешательство личности самого составителя в текст было минимальным, так как целью его работы являлось сведение в книгу нескольких авторитетных текстов. Составитель свода лишь выбирал и располагал тексты в какой-либо последовательности. В своде фиксировался авторитетный опыт Церкви, предлагаемый читателю как руководство и пособие. В аскетическом сборнике, несмотря на то, что в нем присутствуют также, без сомнения, авторитетные тексты, представлена более сложная структура, обусловленная, по-видимому, целым комплексом интенциальных установок составителя. С одной стороны, его позиция пассивна, так как первично составитель выступает в качестве читателя, воспринимающего чужие тексты. С другой стороны, личностное, индивидуальное, активное начало в аскетических сборниках очень ярко выражено: порождаемый компилятивный текст является результатом духовной и текстуальной переработки воспринятых составителем сочинений св. отцов. Произведения авторитетных отцов Церкви осмысляются им в рамках его личного аскетического опыта, и поэтому аскетический сборник в большой степени представляет собой не только руководство к опыту, но и его плод (курсив наш. – С. М.). Своды цитат, компилируемые составителем сборника, не воспроизводятся из рукописи в рукопись, так как, последовательно выписывая определенные отрывки чужих текстов, каждый составитель в своем квазиоригинальном тексте неизбежно отражает свои представления о методах и путях подвижничества, сформировавшиеся на основании предшествующего опыта. Компиляции цитат, присутствие которых отличает собственно аскетические сборники от сводов авторитетных святоотеческих текстов, являются результатом индивидуального чтения, а его опыт неповторим. Поэтому своды цитат не дублируются: каждый сборник представляет собой литературный факт, литературный феномен с уникальным проявлением личностного, авторского начала в анонимном, безавторском, компилятивном тексте» (курсив наш. – С. М.) [Там же. С. 189–190].
Ставя вопрос о том, по какому принципу происходил отбор материала для аскетического сборника, М. С. Егорова приходит к выводу, что общность анализируемых текстов осознается прежде всего как общность тематическая: именно на основании тематического принципа выделил К. И. Невоструев ряд так называемых древнерусских поучений и посланий инокам о монашеской жизни в статье, посвященной данному кругу текстов [1862. С. 163]. «Анализируемые… поучения и послания к инокам… легко обнаруживают формальную и содержательную связь с монастырскими уставами …» (курсив наш. – С. М. ). Однако, несмотря на некоторые черты сходства, отмеченные «послания духовных лиц не являются уставными грамотами, т. е. монастырскими уставами для употребления в одном каком-либо монастыре… Эти “поучения” написаны для общего употребления, не для одного какого-либо монастыря, а для широкого распространения в монашеских кругах, особенно для молодых, “новоначальных” (курсив наш. – С. М. )… По жанру они принадлежат к проповеднической литературе или к нравоучительным трактатам» [Там же. С. 199; Лилиенфельд, 1967. С. 89]. В итоге М. С. Егорова приходит к весьма характерному заключению: «Аскетические сборники с невыраженными дифференциальными признаками, разнообразным содержанием и с неопределенными функциями в рамках “назидательной прозы” ближе всего действительно стоят к антологиям типа “Изборников” Святослава 1073 и 1076 гг., “Пчелы”, “Златоструя”, “Измарагда” и т. д.» [2004. С. 200].
Цель составителей подобных сборников, которая скрепляла их изнутри, характеризуется М. С. Егоровой следующим образом: «Сборник аскетический… предлагает возможный вариант обработки и усвоения чужого опыта, естественно, вербально оформленного в виде ряда текстов и воспринимаемого через текст... Именно ориентация на опыт, по-видимому, и является тем прагматическим фактором, который служит организующим, системообразующим в аскетических сборниках. Он находит себе выражение в специфической риторической организации сборника» (курсив наш. - С. М.) [Егорова, 2004. С. 203]. «Текст компиляции в аскетическом сборнике рассчитан не столько на формирование у читателя теоретических знаний в области аске-тики, сколько на формирование навыков и умений реализации постулируемых в тексте средств, способов, путей достижения христианского совершенства. Подобные компиляции относятся не к “теоретическим”, а к “практическим” текстам и тем самым отличаются от компиляций других типов… Принципиальное значение имеет апелляция составителя, равно как и читателя, к фонду общих знаний – определенной начитанности в области аскетики, во-первых, и, во-вторых, наличию собственного духовного опыта, позволяющих свободно распознавать своеобразные знаки-указатели в тексте (чаще всего это ключевые понятия аскетики, могущие составить своего рода глоссарий, номенклатуру “ключей” аскетического произведения: “покой”, “страх Божий”, “чистота”, “чистота ума”, “чистота сердца”, “молитва”, “леность”, “мир”, “смешение”, “праздность”, “прелесть”, “смущение”, “страсти”, “видение”, “уныние” и т. п.), фокусирующие внимание читателя на определенных его “вехах”, смысловых узлах, и свободно же соотносить содержание текста, т. е. чужой опыт, со своим личным опытом, при этом осмысляя и систематизируя его» [Там же. С. 208–209].
В заключение обратим внимание еще на одно наблюдение М. С. Егоровой, также имеющее для нас принципиальное значение: «Распространение в XVI в. аскетических сводов цитат, приобретших значительный объем и, следовательно, самодостаточность, знаменует переворот, происшедший в сфере литературно-письменной деятельности средневековых славян. Накопленный в рамках авторитетного опыта, диктующего и предписывающего, опыт личный, индивидуальный начинает выходить на первый план (курсив наш. - С. М. ), так как важным становится не механическое перенятие чужого, а рассмотрение своего сквозь его призму. Личный опыт нуждается в осмыслении его в терминах святоотеческого учения, в свете опыта авторитетного. Работа компилятора – в гораздо большей степени творческая работа, чем может показаться на первый взгляд» [Там же. С. 212].
Большинство из указанных М. С. Егоровой черт, характерных для аскетических сборников XV–XVI вв., вполне применимо и к характеристике «авторского» «аскетического свода» начала XVII в., как вполне, на наш взгляд, можно определить в жанровотематическом отношении «Цветник духовный» священноинока Дорофея.
Начнем с того, что при отмечаемом сходстве с рассматриваемыми выше древнерусскими четьими сборниками, прежде всего аскетическими, прямой аналогии в оригинальной древнерусской книжности в жанрово-композиционном отношении «Цветнику» Дорофея мы не найдем. Закономерно поэтому возникает вопрос о его возможных переводных, прежде всего византийских, источниках. Нет сомнений в том, что большая часть книги в идейно-содержательном аспекте напрямую связана с переводными греческими текстами аскетико-мистической направленности исихастского направления, развивающими учение об Иисусовой молитве и о борьбе с помыслами, которые, как говорилось выше, получили широкое распространение в составе рукописных четьих сборников в славянских странах и на Руси на рубеже XIV–XV вв. Однако «единая» продуманная композиция книги, отсутствие в названиях глав-«поучений» отсылок на источники и имен их «изначальных» авторов, что было характерно для большинства четьих сборников разных типов, а также содержание ряда глав, явно имеющих русское происхождение, убедительно говорят о том, что книга как единое целое была задумана, создана, «скомпонована» на Руси и в основе своей обработана одним, русским, автором.
Составитель изучаемого нами сборника продолжает традицию хорошо известной ему христианской аскетической литературы, в том числе древнерусской, о которой мы говорили выше. Назвав свою книгу «Цветником», он прямо указал на эту традицию. «Цветник» – очень популярное общее название рукописных и старопечатных древнерусских сборников неустойчивого содержания, но определенного характера. Подобные сборники состояли из мелких выписок, изречений, примеров, извлеченных из разных источников. До XVIII в. выбор статей в русских «Цветниках» полностью обусловливался личным вкусом их составителя, ориентировавшегося на духовные интересы древнерусского читателя. По- добные «Цветники» обычно составлялись на основании хорошо известных древнерусским читателям сборников: поучений аввы Дорофея, хронографов, патериков, они также нередко включали в себя апокрифы, «отреченные книги» (например, «Беседу трех святителей»). «Цветники» для личного чтения продолжали составляться в России и позже, в XVIII–ХIХ вв. Эти сборники затем издавались различными типографиями – так появились старопечатные «Цветники». Со второй половины XVII в. возникают «Цветники» в узком смысле этого слова: они представляли собой собрание выписок, справок и ссылок из разных статей, сделанное не столько для душеполезного чтения, сколько с полемическими целями. Именно такие сборники создавались в старообрядческой среде, переписывались, а затем издавались в старообрядческих типографиях [Яковлев, 1859. С. 858–859].
Специальное исследование сборникам с названием «Цветник» и проблеме их бытования в древнерусской рукописной традиции посвятила М. С. Крутова. Характеризуя изучаемые сборники, автор статьи исходит из того, что составители столь разных по характеру и содержанию книг использовали в их названиях одно и то же слово «цветник», воспринимая его в переносном смысле и обозначая им сборник, в «котором содержатся цветы духовные, т. е. различные произведения или отрывки из произведений известных авторов русской, славянской или византийской литературы». Каждый из этих сборников «в сущности представлял собой антологию средневековой литературы». М. С. Крутова пришла к важному для нас выводу о том, что сборники, содержащие текст Дорофеевского «Цветника», отличаются довольно устойчивым составом и представлены в рукописях в двух редакциях [1998. С. 162–164].
-
С. А. Семячко обнаружила еще один весьма важный для нас факт переписки ряда статей «Цветника», следующих друг за другом в виде своеобразных смысловых блоков, в составе других, часто более ранних по времени рукописных сборников различного состава, но, как правило, выраженной аскетической тематики. «Наличие в… русских рукописных сборниках ряда статей из “Цветника”, читающихся в том же порядке, говорит о том, что, видимо, его составитель собирал статьи для своего сборника не по
одной, а брал готовые блоки, сформировавшиеся в предшествующей рукописной традиции. Пример другого такого блока – цикл статей об Иисусовой молитве, известный в русских рукописях, начиная с XVI века» [Семячко, 2003. С. 242, примеч. 65, 67].
Действительно, вопросы выявления всех многочисленных источников «Цветника» Дорофея (как в собственно текстологическом, так и в более широком, идейно-содержательном плане), а также характера их использования составителем, непосредственно связанные с историей сборника в целом, еще ждут своего исследователя и выходят за рамки очерченной проблематики настоящей статьи. Изучение данных проблем, несомненно, должно дать дополнительный материал и по остающемуся не разрешенным вопросу о личности его автора. Но и сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что составитель «Цветника» был весьма начитан в аскетической духовной литературе, имел особый интерес к идеям и произведениям, бытовавшим в кругу русских исихастов – Нила Сорского, его идейных предшественников, сподвижников и продолжателей, исповедовавших учение об «умном делании», «испытании помыслов», Иисусовой молитве, проявлявших особый интерес к скитской форме организации монашеской жизни.
Все это позволяет рассматривать в качестве «генетической жанровой основы», своеобразного «архетипа» для «Цветника» Дорофея жанровый тип «аскетического сборника», получивший распространение в древнерусской книжности начиная с рубежа XIV–XV вв., который был выделен и подробно описан М. С. Егоровой. Однако, если попытаться применить к «Цветнику» предложенное исследовательницей разделение аскетических сборников на «сборники произведений одного автора» и «своды», возникнут непреодолимые сложности, которые, на наш взгляд, вполне закономерны и объяснимы, исходя из того что мы имеем дело с материалом уже XVII в., в котором соединены и переплетены, иногда в причудливой и замысловатой форме, «старое» и «новое», «традиции» и «новаторство».
Составитель «Цветника» старается ничего не говорить «от себя», он строго следует церковной традиции, ориентируясь на авторитетные источники. Как отметил святитель Игнатий Брянчанинов, «с самых первых слов священноинок ставит читателя на стези правые, святые, безопасные, предписанные и благословенные Церковию, дает ученику своему характер определительный сына Восточной Церкви, вводит его в духовное общение со святыми иноками всех веков христианства, устраняет от всего чуждого, от всего поддельного» [Творения…, 1996. С. 446].
С другой стороны, «Цветник» Дорофея тем и отличается от широко распространенных в древнерусской рукописной книжности предшествующего периода сборников подобного рода, что он представляет собой произведение авторское, написанное как единая, цельная книга, состоящая из глав, одинаково названных составителем «поучениями», имеющих последовательную нумерацию (которая может различаться в разных редакциях текста), подобранных тематически. Причем и это было совершенно не характерно для предшествующей рукописной традиции аскетических сборников и сводов, в заглавиях глав-поучений «Цветника» отсутствуют указания на первоисточники и имена их авторов (например, Иоанна Злато-устого, Нила Синайского, Исаака Сирина и др.); исключение составляет отсылка к «Лествице», но, скорее всего, она представляет собой не столько отсылку к тексту Иоанна Синайского, на который данный фрагмент «Цветника», безусловно, ориентирован, сколько к одному из ключевых понятий аскетики – «лествица духовная, возводящая на небо». Подобно другим «авторским» нравственно-догматическим, экзегетическим и дидактическим сборникам, переводным и оригинально-русским («Лест-вица» Иоанна Синайского, «Постничество» Василия Великого, сочинения Нила Сорско-го), Дорофеевский «Цветник» имеет четкую композицию, ясную цель, единый замысел. Эта книга включает авторское оглавление, предисловие и краткое послесловие, а также постоянно встречающиеся в тексте отсылки к тем главам книги, в которых упоминаемые положения разбираются более подробно.
Как в «Лествице» преп. Иоанна Синайского, замысел автора определяет всю композицию произведения, которое строится в соответствии с достаточно четким планом. Книга обращена к «хотящим спастися», причем, как это видно из некоторых высказываний автора, в принципе не только к монахам, но и ко всем христианам. Однако особо подробно и детально разбираются в книге основные пути монашеского христианского подвига, детально анализируются встречающиеся препятствия. «Цветник» в этом отношении в полной мере может рассматриваться как своеобразный русский свод монашеской аскетики.
Главное подспорье на трудном пути христианского подвига, по убеждению составителя «Цветника», – чтение Божественных книг. Подчеркивается, что здесь «корень и основание и цветы собраны от многих книг, и малое от великого здесь собрано вкратце» (авторское понимание метафоры – заглавия «Цветник»). О пользе почитания книжного в деле самосовершенствования христианина подробно говорится в Предисловии, и в этом отношении его автор продолжает традицию, ярко проявившуюся уже в «Изборниках» 1073 и 1076 г., «Измарагде», «Пчеле» и других древнерусских сборниках. Следуя этой общехристианской литературной традиции, особо уважаемой на Руси, автор именно в Священном Писании видит основу своей книги. Не случайно поэтому главы 2–5 «Цветника» представляют собой выборку из Евангелий, содержащую основные заповеди Господни и пересказ наиболее характерных чудес, совершенных Христом для укрепления веры в учениках. По тому же принципу строится и 7-я глава – выборка из Апостола. Сам принцип разъясняется в 6-й главе, являющейся как бы своеобразным «ключом» к указанным главам, где прямо от лица автора говорится о необходимости соблюдения Божественных заповедей, поскольку главный принцип достойной жизни христианина – уподобление, подражание Христу и святым отцам, которые «взяли крест свой и последовали за Ним». Эта тема еще нагляднее развивается в главах 10, 11, 13, представляющих собой нравственноморалистические поучения к христианам. Главы 8 и 9 специально обращены к монахам и содержат изложение основных иноческих обетов. В том же ключе написана самая большая по объему и, пожалуй, наиболее интересная с точки зрения содержания и художественных особенностей глава 12, построенная, как и ряд предшествующих глав, в форме беседы – обращения автора к грешной душе своей. Глава эта содержит пересказ житий святых, как византийских, так и русских, а также извлечения из КиевоПечерского патерика, которые представле- ны в качестве назидания и жизненных примеров для подражания всем христианам. Главы 14–17 написаны с большим литературным мастерством и содержат традиционные для христианской письменности рассуждения о прелести и суете мира сего, о жизни вечной и смертной муке. Таким образом, читатель уже подготовлен к восприятию следующей, ключевой главы книги – 18-й, в которой с ориентацией на преп. Иоанна Синайского, дается представление о «ле-ствице духовной», т. е. о жизненном пути христианина как о постоянном восхождении по ступеням добродетелей к нравственному самосовершенствованию. Закономерно поэтому, что в следующих четырех главах «Цветника» (гл. 19–22) подробно развивается учение об основных христианских добродетелях. Основанные на представлениях о двойственности природы человека, его духовной и телесной сущности, следующие три главы посвящены рассуждениям о человеческой греховности, исследованию основных страстей, с которыми приходится бороться христианину, страстей соответственно духовных и телесных (гл. 23–25). Следующие четыре главы «Цветника» (гл. 26–29) рассматривают основные пути достижения добродетелей: в них повествуется о чистоте сердца и бесстрастии, «о трезвении» и «о помрачении ума».
Особое внимание уделяется в книге раскрытию учения об умной молитве как основном пути достижения добродетели: рассмотрению этого учения посвящены главы 30–36, 40 «Цветника». Не случайно святитель Игнатий Брянчанинов назвал священ-ноинока Дорофея «великим наставником духовному подвигу, подходящим этим достоинством своим к святому Исааку Сир-скому». В данном вопросе наиболее ярко проявился особый интерес составителя «Цветника» к учению византийских аскетов-мистиков, связанному с исихастскими воззрениями (преп. Симеон Новый Богослов, преп. Григорий Синаит, авва Дорофей), а также их русских последователей – преп. Нила Сорского, его учеников и сподвижников.
В связи с этим понятен особый интерес составителя «Цветника» к скитской и пустыннической (т. е. отшельнической) формам организации монашеской жизни. Следующие семь глав книги как раз и обращены к монахам-отшельникам (гл. 37–39; 41–44)
и рассматривают особенности уединенного подвига в скитах и пустынях. Важное место в этом отношении занимают еще восемь глав книги (гл. 45–52), в которых подробно, очевидно, с ориентацией на Нила Сорского, развивается учение о различных видах борьбы с бесами – о помыслах бесовских, о «прилогах», т. е. о постепенном порабощении души человека греховным помыслом, о необходимости различения природы помыслов – Божественных и бесовских, о скорбях и искушениях, особенно тяжело переносимых в уединении. Автору «Цветника» близки идеалы именно «скитского жительства», характеризовавшегося определенным упрощением церковной службы, приспособленной для отправления ее без священника. При этом Дорофей не отрицает и традиционной, широко распространенной на Руси формы монашеского общежития. Проблемам организации «правильного общежития» посвящены главы 53–54 «Цветника», причем глава 53 непосредственно обращена к наставникам, пастырям, т. е. игуменам.
Число последних глав книги в разных списках и старопечатных изданиях различно, возможно, по большей части они прибавлялись к «Цветнику» позднее и представляют собой собрание кратких необходимых для монахов практических сведений (о постах, часах, поклонах, молитвах и т. п.). Завершается «Цветник» кратким авторским Послесловием, названным «ключом небольшой книги сей».
Авторское начало вообще довольно сильно в «Цветнике» Дорофея, что говорит в пользу правильности принятой большинством исследователей датировки создания сборника XVII в., поскольку именно для литературы этого периода характерно усиление внимания к личному жизненному опыту отдельного человека. Тем более примечательно отражение данного процесса в церковной литературе, исконно ориентированной на сложившиеся традиции, образцы и каноны. Личная оценка автора, его мысли, примеры из собственной жизни постоянно присутствуют в «Цветнике» и как бы скрепляют книгу изнутри.
Главная печаль автора – греховность и несовершенство мира, препятствующие спасению. С горечью говорит он о том, что «весь мир одержим бысть попечением, и печальми, и мятежи, и свары, и покои все- ми, и пиянством, и блудом, отпадают от Бога и от спасителнаго дела, яко же бо во мраце, дни своя провожают, точию бо на-чалы утром и вечером минующим, и часы, и дни, и недели, и месяцы, и времена, и лета считающе». Все это испытал он и на своем личном жизненном опыте: «Обаче горе мне, нерадивому! Сея бо льсти лукавыя и покро-вения и аз, окаянный, отнюд не разумех, много погубих времени, сими привязан бых. Многажды бо желающи душа моя зелне кротости, и смирения, и любве, со всеми мирну быти, и безмолвия, и молчания, и пустыннаго жития, и бдения, и молитвы, сребра же и злата и вещей ничто же у себе имети, но и слезити и плакати. И сладости сея лишихся и изранях и, соотводихся лес-тию сею. Ныне же разумех мало временную и льстивую жизнь сию, и убояхся смерти, и отступих льсти сея лютыя. И се душа моя и сердце мое радуется, яко избавил мя есть Господь Бог толикия пагубы Того благода-тию (гл. 34, л. 124 – 124 об.) 1. Говоря о порабощении души человека греховным помыслом, автор вновь обращается к примеру из своей жизни: «Некогда бо и мне си-це случися, и три лета тяжко зело бориму сущу; неким бо от постник суще, глаголати им мне, яко вне ума непщующим» (гл. 37, л. 138 об.).
Еще большую горечь вызывают у составителя «Цветника» пороки и нестроения, охватившие монашество в целом, которые в XVII в. все чаще начинают восприниматься в эсхатологическом аспекте [Вознесенский, 1996. С. 148–149]. Этим рассуждениям, нередко граничащим с обличительной проповедью, посвящает он предпоследнюю, 53-ю главу своей книги, названную «Поучение к пастырю о учительстве и о своем подвизании; добро учити и свою душу не забыва-ти». С гневом обличает Дорофей в этой главе неправедных пастырей: «Ныне бо несть ищущих воистину никако же премир-ных и преестественных по существу спасения, ни просящих, ни дающих, не учащее бо ся, но учаще. Ох увы, душа моя, что уже хощем рещи, возлюбленная! Гонение воста на благочиние и на благочестие и на правду, а бесчестие и бесчиние и неправды от своеволия утвердилося зело. Ох увы, душе моя возлюбленная, с плачем и рыданием глаголи ти сие, душе моя! Возлюбиша бо человецы в нынешняя время тму, нощь темную паче благочиния, света удаляющеся. Ох увы, душе моя! До конца извелося благочиние и благочестие и правда, а бесчиния и нечестия и неправды умножилося. Ох увы, душе моя, неправда правду побарающе беззаконием своим. Волки бо сатанины и антихристовы друзи в кожи овчии ошивающеся. Игумени бо духовнии и пустынножителие, раби Христовы, изгоними быша и оскорбляеми от неразумных человек. Сребролюбцы же и сластолюбцы и пияницы бесчинии на престолы их и начальства воскачюще, мздою докупающеся и стадо Христово поядающе немилостивно нерадением и бесчинием своим» (гл. 53, л. 202 об.).
О повсеместных нарушениях завещанных от святых отцов норм монашеского общежития вновь говорится в главе 54, посвященной иноческому уставу. Именно фактом нарушений устава объясняет автор свое обращение к проблемам монашеского общежития в книге, сосредоточенной прежде всего на вопросах личной нравственности и путях личного спасения человека: « И сего ради аз много трудихся, и тщание имех, и пекохся, и вельми болезновах, и дивихся о иноческом чину и жительстве, како в нынешняя времена последняя до конца изсяче и оскуде отеческое благочиние истинное, правое, спасителное жителство и пребывание иноком. И по своим волям и обычаем обыкоша ходити и жити иноцы, а не по преданию святых отец. И правый спаси-телный путь презирают, и учителей по своим волям и нравам и обычаем избирают, а отеческое предание превращают и от-мещут. И аки ругатели обретаются великому сему аггельскому чину и апостольскому сему собранию смиренному и жителству кроткому. И сами на себя наводят посмех мирским человеком, нежели желати кому от мирских человек в великий сей аггельский чин и образ приити. И сего ради аз велико тщание и труд показах со многими слезами хотящим спастися и ищущим праваго пути спасителнаго вся свести в место едино, в малейшую книгу сию, кратко и объятно уму вместити о всем жительстве иноческаго пребывания, истинный и спасителный путь показати» (гл. 54, л. 204 об. - 203).
Таким образом, место «Цветника духовного» священноинока Дорофея в контексте жанровой типологии древнерусских четьих сборников непостоянного состава может быть определено следующим образом: До-рофеевский «Цветник» представляет собой пример редкого в русской духовной литературе до ХVIII в. включительно авторского сборника аскетической направленности, продолжающего традиции преп. Иоанна Лествичника, аввы Дорофея, Нила Сор-ского. В сжатом виде, с ориентацией на Священное Писание, на большой пласт па-териковой и житийной литературы, произведения византийских аскетов-мистиков и древнерусские рукописные четьи сборники непостоянного состава, прежде всего аскетической направленности, его составителю удалось дать в одной книге отражение христианской православно-мистической концепции человека в его стремлении к Богу, в его борьбе с препятствиями и преградами, внутренними и внешними искушениями, неизбежными на трудном и вечном пути к спасению.
«THE SPIRITUAL FLOWER GARDEN» («TSVETNIK DUCHOVNYJ»)
ОF THE MONK AND THE PRIEST DOROTHEUS IN THE CONTEXT
OF THE PROBLEM OF GENRE TYPOLOGY OF OLD RUSSIAN
COLLECTIONS FOR READING