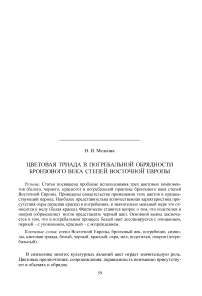Цветовая триада в погребальной обрядности бронзового века степей Восточной Европы
Автор: Мельник В.И.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Каменный и бронзовый века
Статья в выпуске: 241, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме использования трех цветовых компонентов (белого, черного, красного) в погребальной практике бронзового века степей Восточной Европы. Приведены свидетельства применения этих цветов в предшествующий период. Наиболее представительна количественная характеристика присутствия охры (красная краска) в погребениях, в значительно меньшей мере это относится к мелу (белая краска). Фактически ставится вопрос о том, что подстилки и покров (обрамление) могли представлять черный цвет. Основной вывод заключается в том, что в погребальном процессе белый цвет ассоциируется с очищением,черный - с упокоением, красный - с возрождением.
Степи восточной европы, бронзовый век, погребение, символы, цветовая триада, белый, черный, красный, охра, мел, подстилки, покров (погребальный)
Короткий адрес: https://sciup.org/14328267
IDR: 14328267
Текст научной статьи Цветовая триада в погребальной обрядности бронзового века степей Восточной Европы
В символике многих культурных явлений цвет играет значительную роль. Цветовые предпочтения, сопровождения, окрашенность неизменно присутствуют в обычаях и обрядах.
В. Тэрнер, изучая культуру африканских племен ндему и проведя сравнительный анализ, пришел к выводу о том, что такие цвета, как красный, черный и белый, являются основополагающими и древнейшими в мировой культуре ( Тэрнер , 1983. С. 100–103). Замечание об использовании этих цветов в археологическом плане оставил А. В. Гаврилов (1990). Цветовая триада была отмечена нами для погребений эпохи бронзы Прикубанья ( Мельник , 2009).
С позднего палеолита и до эпохи бронзы включительно в погребениях довольно широко фиксируется использование краски, посыпки белым порошком. В погребениях позднего палеолита Восточной Европы красная краска (охра) использовалась весьма обильно. Дно могил Костенок 14 и 15 было сплошь засыпано красной охрой (Палеолит…, 1984. С. 232). В погребениях Сунгиря на дне могилы зафиксированы угольки и сажистые прослойки, на которых местами заметно белое вещество вроде извести, и уже по белому слою по всему дну могилы густо проведена посыпка ярко-красной охрой, достигавшей местами нескольких сантиметров. После этого в могилу укладывались умершие и помещался погребальный инвентарь, а затем снова производилась засыпка всей могилы красной охрой. В засыпи могилы еще отмечено несколько прослоек чистой охры (Там же. С. 233).
В погребениях мезолита Карелии (Сямозерский II, Черная губа I) отмечается наличие красной охры. Оленеостровский могильник демонстрирует прямую связь количества вещей со степенью засыпки охрой (Мезолит…, 1989. С. 30, 31). На юге Восточной Европы в мезолитических могильниках Васильевка I и III обнаружены следы красной охры. Замечено, что чаще и особенно густо порошком охры засыпались детские погребения. Наличие краски при погребениях в Волошинском и Чаплинском могильниках, как и в могилах Фатьма-Кобы и Мурзак-Кобы, не отмечалось (Там же. С. 123).
Неолитические могильники мариупольского типа представляют вытянутых на спине погребенных, обильно засыпанных красной охрой. Общее их количество достигает 800 (Неолит…, 1996. С. 52).
Покойников часто посыпали охрой в погребениях энеолитической сред-нестоговской культуры степей Приазовья – между Днепром и Доном ( Телегiн , 1973. С. 161). В могилах новоданиловского типа очень много красной краски. Иногда даже встречаются сформированные из охры лепешки. На плоской поверхности одной из таких лепешек был нанесен крест-накрест ногтевой орнамент, а в одном секторе круга вычерчены две фигуры, состоящие каждая из двух равнобедренных смыкающихся вершинами треугольников (Археология…, 1985. С. 313, 314).
В усатовских курганах на дно погребальных ям иногда посыпали песок, белый порошок, золу. В тех случаях, когда использовалась охра, скелет мог быть либо окрашен полностью, либо краска фиксировалась на черепе, костях рук или ног. В центральном погребении II-2 Усатова обнаружена расписная чаша с охрой ( Збенович , 1974. С. 42).
Следы охры прослеживаются в гробницах культуры шаровидных амфор. Дно нижнемихайловских могил, как и скелет, часто посыпалось охрой розового, реже красного цвета. Следы охры зафиксированы на костях погребенных и на дне могил кеми-обинской культуры. Особое место в этой культуре занимает полихромная роспись на стенках каменных ящиков, которая нанесена черной, красной и белой красками. В Крыму отмечается сочетание всех трех цветов, в других районах использовалась только охра. Роспись представлена линейногеометрическими фигурами в виде треугольников, елочек, полос, кругов и тому подобных изображений (Археология…, 1985. С. 285, 328, 332, 334).
В эпоху бронзы использование охры в погребальной обрядности имело широкое распространение, но с началом железного века эта традиция практически полностью исчезает. Что касается цветовой триады, то она продолжала жить в бронзовом веке, но не всегда могла быть зафиксирована.
В обряде захоронений ямной культуры юго-востока Европы, отмечал В. А. Фисенко, нельзя не указать на такую особенность, как обычай посыпать покойников красной краской. «Подобные примеры в пределах изучаемого края исчисляются десятками, если не сотнями. Иногда краски так много, что она толстым слоем покрывает как костяк, так и дно могилы. Однако наиболее интенсивно окрашивался череп и ступни ног. Иногда вместо краски в могилах встречается мел, известь, уголь, но подобные примеры не столь многочисленны» ( Фисенко , 1970. С. 27).
В первой обрядовой группе, выделяемой Н. Я. Мерпертом для ямных погребений Волго-Уралья, к нижнему стратиграфическому горизонту были отнесены 13 основных и 5 впускных погребений, составляющих первую подгруппу. Эти погребения совершены в прямоугольных или квадратных ямах, перекрытых бревенчатым накатником. Костяки лежат на спине, головой на восток. Все они обильно посыпаны охрой, а иногда и мелом. Краска равномерно распределяется по телу погребенного и дну могилы. Это наиболее архаичные захоронения. Второй стратиграфический горизонт и вторую подгруппу составляли 39 погребений со скорченными на спине, головой на восток костяками. Среди них было 16 основных и 23 впускных погребения. Они совершены в прямоугольных или овальных ямах, часто перекрытых накатниками, иногда в насыпи кургана. Окраска и меловая подсыпка сохраняются, но они не так обильны, а краска концентрируется у черепа и конечностей. В третий стратиграфический горизонт были включены 5 погребений второй подгруппы. Они были впускными, и 4 из них совершены в насыпи. Окраска здесь слабая, зафиксирована лишь у черепа и ступней ( Мерперт , 1974. С. 46, 47).
По данным В. А. Трифонова, в ямных погребениях Прикубанья «присутствие алой охры в погребениях обязательно, однако ее количество и расположение относительно костяка заметно варьирует. Сплошная подсыпка характерна только для детских погребений. У взрослых реже всего окрашен череп, причем всегда в сочетании с окраской других частей костяка. Чаще и интенсивнее других мест окрашены стопы. Подсыпка охры у стоп зачастую единственная в погребении. Такое же самостоятельное значение имеет подсыпка (или комок) алой охры у правого, реже левого плеча погребенного. Судя по привлеченным материалам, вслед за перечисленными по частоте идут следующие сочетания окрашенности: стопы – череп, стопы – у правого (левого) плеча, стопы – кисти – таз, стопы – кисти – таз – череп, череп – таз.
Приблизительно только у шестой части погребений встречен мел в виде сплошной подсыпки по дну ямы. Еще реже встречаются древесные угли.
В отличие от мела и охры уголь и мел в одном погребении не встречаются» ( Трифонов , 1991. С. 111).
В Северо-Западном Причерноморье, по подсчетам Е. В. Ярового, в курганных погребениях энеолита – бронзового века использование красной охры отмечено во всех выделенных им четырех группах. В группе I было окрашено охрой 497, или 82 % скелетов, II – 225 (74 %), III – 40 (56 %), IV – 8 (73 %). Процент использования охры в каждой группе показывает, что наибольшая ее встречаемость связана с погребенными в позе скорченно на спине, а наименьшая – скорченно на боку. Такая же тенденция просматривается и при окраске различных частей тела погребенного. В процентах по группам это выглядит так: окрашенность черепа – 33, 26, 18, 27; ног – 9, 8, 4, 9; рук – 6, 4, 3, 9 ( Яровой , 1985. С. 66, 67).
В Орельско-Самарском междуречье (левобережье Днепра), по данным И. Ф. Ковалевой, среди катакомбных погребений ведущей формой являлась круглая или овальная в плане входная шахта с примыкающей к ней овальной камерой. В большинстве катакомб этой группы дно посыпалось мелом, охрой или имело подстилку из луба, тростника, иногда кожи. В группе, где катакомбы имели прямоугольную входную шахту и такую же или овальную камеру, подстилка на дне представлена ограниченно, посыпка охрой представлена пятнами перед входом в камеру, у черепа и стоп погребенного ( Ковалева , 1983. С. 10, 11).
Е. Л. Фещенко на материалах этого же региона (основываясь на периодизации, разработанной И. Ф. Ковалевой для катакомбных погребений) представил процентный состав использования охры по обрядово-хронологическим группам. Для самых ранних погребений – 49,3 %, а для завершающего этапа I обрядово-хронологической группы отмечено резкое увеличение количества захоронений с охрой (62,7 %), что связывается с распространением памятников ингульского типа (74,3 %). В массиве поздних ингульских могил фиксируется увеличение количества погребений с охрой (76,7 %). III обрядово-хронологическая группа характеризуется постепенным угасанием использования охры, а в погребениях культуры многоваликовой керамики (КМК) оно и вовсе минимально (около 7 %). Отмечены и территориальные различия в применении охры ( Фещенко , 1990. С. 98, 99).
Для различных катакомбных групп Северного Приазовья (193 погребения) С. Г. Небрат представил следующую статистику использования охры: раннекатакомбные погребения (52) – 64 %; ингульские (119) – 78 %; донецкие – 8 погребений, из них 5 с охрой; бахмутские – 14 погребений, из них 12 с охрой. Для ингульских погребений отмечено распределение охры: на дне камеры – 34 %, на дне и костях – 29 %, только на костях – 15 % ( Небрат , 2011. С. 122, 123).
В катакомбных обрядовых группах Среднего Подонья, выделенных Т. Ю. Березуцкой, использование охры определенно связано с позицией погребенных и формой могильного сооружения. Посыпка охрой фиксируется во всех погребениях групп I (умершие лежат в позе скорченно на спине в катакомбах типа 4), IV (в позе скорченно на правом боку, с руками, протянутыми к коленям, в Т-образных катакомбах), V (в позе скорченно на правом боку, с руками, вытянутыми вдоль тела, в катакомбах типа 4), VII (в таких же катакомбах, с близкой позицией погребенного, но с согнутой в локте левой рукой). В группах II, III, X охра встречалась в половине случаев, а в группах VI, VIII, IX только в некоторых погребениях. Мел и уголь в общей массе погребений встречались редко ( Березуцкая , 2003. С. 37–42).
По данным М. Ю. Федосова, следы охры фиксируются в 72,14 % катакомбных погребений Волго-Донского междуречья и в 69,23 % погребений Доно-Донецкого междуречья, в 78,18 % раннедонецких памятников этих регионов ( Федосов , 2012. С. 11).
Наличие охры в катакомбных погребениях Нижнего Подонья зафиксировано С. Н. Братченко в 116 погребениях из 256, т. е. охватывает около половины рассматриваемого общего числа ( Братченко , 1976. Приложения № 1 и 2).
Специальное исследование, посвященное использованию охры в катакомбных погребениях некоторых могильников Нижнего Дона, предпринималось В. И. Балабиной. Вот некоторые наблюдения над расположением в курганах погребений с охрой и без нее. В Балабинском I могильнике, где катакомбных погребений без охры мало (13), все они оказались относительно поздними. Основных погребений без охры не было. Большинство погребений без охры впущено в полы курганов (8), причем, когда удалось проследить стратиграфию, эти погребения были или самыми последними, или принадлежали к группе последних впусков. Дважды погребения без охры впущены в центр, но уже в качестве вторых впусков. В одном случае (Балабинский I могильник, курган 14) последовательность четырех впусков в центральную часть насыпи ямного кургана установить не удалось. Одно из этих погребений было без охры. В могильнике Арпачин II единственное погребение без охры находилось в поле кургана. В группе II (Шахаевские I и II могильники) погребения с охрой располагались преимущественно в центре, а погребения без охры – преимущественно в полах курганов. Так, в центре курганов было 15 погребений с охрой и 4 без охры, а в полах – 3 погребения с охрой и 14 без охры. Для трех групп могильников погребения с охрой составляли: I – 79 %, II – 41 %, III – 42 % ( Балабина , 1983. С. 190,191), то есть 54 %. В последующем был проведен химический анализ обнаруженной здесь охры ( Балабина и др. , 1990).
Данные об использовании красок в индивидуальных погребениях восточно-манычской катакомбной культуры, распространенной в средней части южного Волго-Донья и Среднего Предкавказья, были представлены М. В. Андреевой. Следы красной краски (охры) отмечались в 74 погребениях из 486 комплексов (15,2 %). Останки погребенного были окрашены в 43 комплексах (8,8 %), дно могилы отдельно от останков, иногда под вещами – в 28 (5,8 %). Просто кусочки минерала находились в 14 комплексах (2,9 %). Что до использования мела, то замечено, что он мог находиться на дне могилы под подстилкой и на его пятнах мог находиться инвентарь ( Андреева , 2014. С. 43–46).
По нашим сведениям, нахождение красного и белого красящих порошков в катакомбных погребениях степного Прикубанья является заметным обрядовым элементом. Сразу следует отметить, что красная краска, используемая здесь, представлена такими минералами, как реальгар, сферосидерит, гётит, и природным пигментом охрой. В подавляющем большинстве случаев присутствовала охра (правда, квалифицированные определения проводились редко). Цвет краски варьирует от бурого до ярко-малинового. Минералы представлены небольшими кусочками – 1–2 см в диаметре. Охра также встречается в кусочках, но в основном это либо порошок, либо уже растворившийся краситель, который въелся в соприкасающийся материал. Интерес вызывают места, которые покрывались данным составом. Весьма редки случаи, когда погребенный и все дно могилы посыпалось краской. Чаще мы имеем дело с локальным ее применением. Статистика здесь такова (770 погребений): стопы – 25 %, голова – 20 %, предплечье и кисть – 15 %, колени – 5 %, таз – 2 %, туловище – 1 %. Общее количество погребений с охрой составляет около 57 %. Случаи помещения в погребение других красящих веществ редки (реальгар – Приазовский I 6–9; гётит – Кавказский Северная группа 10–7). Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что посыпка была направлена преимущественно на умершего, а не на отдельные участки камеры.
Белое вещество представлено известняковыми порошками и мелом (чаще всего). Такие погребения составляют около 10 % от общего числа.
В больше чем половине из них белое вещество встречается в сочетании с охрой. Мелом, как правило, была посыпана большая часть могильного дна. Посыпался ли при этом умерший, сказать трудно. Характер посыпки все же склоняет к тому, что посыпалось только дно могилы.
В восточноприазовских погребениях рассматриваемой эпохи чаще всего встречались подстилки коричневого цвета, иногда темного, доходящего до черного. Соответствующих анализов, к сожалению, не проводилось. Но с определенной долей вероятности можно утверждать, что это все-таки остатки кожи (шкуры). В общем массиве погребений подстилки не прослеживались лишь в четверти случаев. Вместе с тем нередки и случаи, когда тлен, преимущественно черного цвета, покрывал кости погребенных сверху, что в общем контексте не всегда можно трактовать как остатки одежды. Скорее всего, умерший укрывался и сверху, т. е. имел «одеяло» (покров).
В период поздней бронзы цветовая триада, видимо, еще существует, но явно в ограниченных пределах. Уже отмечалось резкое уменьшение использования охры для культуры многоваликовой керамики. В срубной культуре южного Средневолжья охра была обнаружена в 108 погребениях 45 могильников. Общее количество анализируемых могильников срубной культуры в этом регионе – 155, погребений – 2230. Охра находилась, как правило, в одном или двух погребениях кургана независимо от общего количества в одной насыпи. Степень окраски погребенного и дна могилы обычно оценивалась как «слабая». Следы мела зафиксированы в 47 погребениях 27 могильников. Почти во всех случаях было посыпано все дно могилы и скелет. Подстилки выявлены в 310 погребениях из 93 могильников, но цветовые оттенки для них указываются лишь иногда ( Крамарев , 2003. С. 290, 291).
Для погребений сабатиновской культуры, занимающей в бронзовом веке сравнительно позднюю позицию, отмечается уже очень редкое использование охры ( Березанская и др. , 1986. С. 93).
Из приведенных фактов следует, что применение в погребальной практике трех названных цветов, безусловно, имело место в бронзовом веке и в предшествующее время. В связи с этим следует заметить, что цветовое восприятие в древние времена имело расширенный характер. При использовании того или иного цвета близкий к нему цвет мог восприниматься как один, не говоря уже об оттенках. В археологическом отношении, однако, хорошо сохраняются минералы и горные породы, но не органика. Кожа при археологической фиксации обычно имеет коричневый цвет. Очевидно, что в погребениях подстилки и, возможно, покровы были нередко черного цвета. Использование черного цвета не обязательно предполагает применение специальных красителей. Например, естественный цвет имеет черная шерсть овечьей шкуры. Безусловно, овечьи шкуры использовались в качестве подстилки при совершении погребения, и то, что выбор мог падать на шкуру черного цвета, не являлось случайностью. Нередко сверху кости погребенных были покрыты черным тленом, что может свидетельствовать о цвете костюма и/или покрова. Иногда встречающиеся в погребениях угольки воспринимают как специальную посыпку (черный цвет). Не отрицая такого действия в принципе, следует сказать, что уголь в погребениях (по нашим наблюдениям) – это, скорее, результат горения на месте. В Прикубанье зафиксирован случай, когда была прокалена часть дна погребального сооружения (Кавказский, Северная группа 6/10).
В отношении охры статистические выкладки свидетельствуют о том, что в течение бронзового века наблюдается тенденция к уменьшению ее использования в погребальной практике. Это же можно сказать и в отношении мела.
Чрезвычайно важной представляется последовательность применения носителей тех или иных цветов в погребальном процессе. Первоначально использовался белый цвет – осуществлялась посыпка дна могилы мелом. Затем – черный цвет: выстилалось ложе, иногда многослойное (как нам представляется, с темным верхним слоем), на которое укладывался покойный. После этого, а может быть, и после наложения покрова осуществлялась посыпка охрой – красный цвет. Констатация указанной последовательности позволяет выносить более определенные суждения о символике упомянутых цветов в погребальном процессе.
Распределение охры в погребении показывает, что в большинстве случаев она сосредотачивается на ступнях ног и черепе. Выяснение семантики выделения охрой отдельных частей тела человека и мест погребального сооружения требует специального рассмотрения.
Вопрос о смысле цветовой триады в погребальной обрядности не является простым, и были высказаны самые разные предположения по поводу привнесения в обряд цветовых компонентов. В основном они сводились к трактовке использования охры, иногда мела. Уже В. А. Городцов высказывался по поводу воссоздания погребальной обрядности на основе археологических свидетельств. Он писал: «Покойнику большей частью тщательно изготовляется подземное жилище, которое украшается и, может быть, символически очищается от вредных начал красною краскою» (Городцов, 1915. С. 174). В. И. Марковин предположительно замечал, что покойника в целях очищения покрывали красной краской (охрой, мумием), символизирующей огонь, при этом в могилу клали угольки. Также допускалось, что краска могла олицетворять кровь, которой не хватало умершему (Марковин, 1960. С. 144). В отношении того, что красный цвет в погребении символизирует огонь, сомневался В. П. Шилов. Опираясь на этнографические параллели, он утверждал, что кровь – это жизнь. Человек рождается с телом, покрытым кровью, и поэтому должен уйти в потусторонний мир с телом, окрашенным красной краской (Шилов, 1975. С. 59). И. Ф. Ковалева, в свою очередь, соединила эти трактовки, считая, что охра и мел символизируют жизненную и животворную силу крови – огня (солнца), а также очищение места погребения и трупа (Ковалева, 1983. С. 91). Примерно в этом же духе высказался С. Г. Небрат, обративший внимание на присутствие в катакомбных погребениях цветовой триады: белый – красный – черный (Небрат, 2011. С. 123, 124).
Не вдаваясь в семантику отдельных цветов, можно привести пример триединого смысла их восприятия. Так, в культуре хантов трехчленную мировоззренческую вертикаль, которая является всеобщей универсалией, выражает береза как мировое дерево в целом и ее сферы – Верхний мир, населенный богами и ассоциирующийся с белым цветом, мир людей, или Средний мир, который связывается с красным цветом, и мир мертвых, или Нижний мир, где преобладает черный цвет ( Черемисина , 2009. С. 113). Это важно в том отношении, что такого рода символика отражает определенный тип символической структуры. Б. А. Базыма выделяет три основных типа цветовой символики: цвет сам по себе; цветовое сочетание, составляющее символическое целое; соединение цвета и формы ( Базыма , 2005. С. 13, 14).
Важна также сфера использования символики, и в разных сферах как отдельные цвета, так и их комбинации могут иметь другие значения.
Рассматриваемая здесь проблема связана с погребальной символикой, и поэтому не все варианты значений цвета могут в этом случае быть используемы. Приведенные факты совершения погребений в бронзовом веке создают картину цветового сочетания, объединяемого, как представляется, смыслом «отправки покойного на тот свет» и подтверждаемого последовательностью действий.
В обрядах «перехода», к которым относится похоронный обряд, А. ван Ген-неп выделял предварительные, промежуточные и окончательные стадии, когда умерший достигает своего последнего пристанища. Этот цикл выражается в различных обрядах, среди которых отмечаются обряды отделения от прежнего мира (и в частности – обряд «очищения»), всевозможные промежуточные обряды, обряды приобщения к иному миру, в том числе обряд возрождения ( ван Геннеп , 1999. С. 24, 134–138). С нашей точки зрения, в погребальном процессе рассматриваемого времени есть центральное звено, пиковый момент этого перехода. Это происходит в период совершения погребения, когда осуществляется посыпка дна могилы мелом, положение и укрытие покойного, посыпка охрой. Таким образом, посыпка дна могилы белым порошком (белый цвет) – очищение; обрамление умершего подстилками и покровом (черный цвет) – упокоение; посыпка охрой (красный цвет) – возрождение.
Угасание трех перечисленных цветов погребальной обрядности к финалу бронзового века в известной нам форме не означало их полного исчезновения в обрядности последующих эпох. Эти цвета известны и как символы траура, т. е. связаны с погребением, вплоть до наших дней в разных регионах: черный (Европа), белый (ряд стран Азии), красный (некоторые страны Африки).
Список литературы Цветовая триада в погребальной обрядности бронзового века степей Восточной Европы
- Андреева М. В., 2014. Восточноманычская катакомбная культура: анализ материалов погребальных памятников. М.: Таус. 272 с.
- Археология Украинской ССР Т 1: Первобытная археология/Отв. ред. Д. Я. Телегин. Киев: Наукова думка. 567 с.
- Базыма Б. А., 2007. Психология цвета: теория и практика. СПб.: Речь. 205 с.
- Балабина В. И.,1983. К вопросу об использовании охры в катакомбных погребениях//Древности Дона: Материалы работ Донской экспедиции/Отв. ред. Ю. А. Краснов. М.: Наука. С 188-197
- Балабина В. И., Борисенок Л. А., Яхонтова Л. К., 1990. Исследование охр из погребений эпохи бронзы в низовьях Дона//СА № 1 С 154-166
- Березанская С. С., Отрощенко В. В., Чередниченко Н. Н., Шарафутдинова И. Н., 1986. Культуры эпохи бронзы на территории Украины Киев: Наукова думка 166 с
- Березуцкая Т. Ю., 2003. Среднедонская катакомбная культура и ее локальные варианты. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. 216 с.
- Братченко С. Н., 1976. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев: Наукова думка. 252 с.
- Гаврилов А. В., 1990. О значении охры в погребальном обряде археологических культур эпох палеолита -бронзы//Тезисы докладов всесоюзного семинара «Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической области»/Ред. О. Г Шапошникова. Запорожье: ИА АН УССР. С 12-14
- Геннеп А. ван, 1999. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М.: Восточная литература 198 с
- Городцов В. А., 1915. Культуры бронзовой эпохи в Средней России//Отчет Императорского Российского Исторического музея за 1914 г. М.: Императорский Российский Исторический музей. С.121-224.
- Збенович В. Г., 1974. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка 176 с
- Ковалева И. Ф., 1983. Погребальный обряд и идеология ранних скотоводов (по материалам культур бронзового века левобережной Украины) Днепропетровск: ДГУ 108 с
- Крамарев А. И., 2003. Характеристика погребальных сооружений срубной культуры южного Средневолжья//Вопросы археологии Поволжья. Вып. 3/Отв. ред. И. Б. Васильев. Самара: СНЦ РАН. С. 277-305.
- Марковин В. И., 1960. Культура племен Северного Кавказа в эпоху бронзы (II тыс. до н. э.). М.: АН СССР. 151 с.
- Мезолит СССР/Отв. ред. Л. В. Кольцов. М.: Наука, 1989. 351 с. (Археология СССР).
- Мельник В. И., 2009. Цветовая триада в погребальной обрядности Кубано-Донья//Пятая Кубанская археологическая конференция: материалы конференции Краснодар: Кубанский государственный университет, НИИ археологии КубГУ. С. 246-247.
- Мерперт Н. Я., 1974. Древнейшие скотоводы Волго-Уральского междуречья. М.: Наука. 173 с.
- Небрат С. Г., 2011. Охра в погребальном обряде катакомбных культур Северного Приазовья//Вiсник Марiупольского державного унiверситету. Серiя: Кторiя, полiтологiя. Вип. 2. С. 121-125.
- Неолит Северной Евразии/Отв. ред. С. В. Ошибкина. М.: Наука, 1996. 379 с. (Археология СССР).
- Палеолит СССР/Отв ред П И Борисковский М: Наука, 1984 383 с (Археология СССР)
- Телегiн Д. Я., 1973. Середньостогiвська культура епохи мiдi. Київ: Наукова думка. 172 с.
- Трифонов В. А., 1991. Степное Прикубанье в эпоху энеолита -средней бронзы (периодизация)//Древние культуры Прикубанья/Ред. В. М. Массон. Л.: Наука. С. 92-166.
- Тэрнер В., 1983. Символ и ритуал. М.: Наука. 278 с.
- Федосов М. Ю., 2012. Катакомбные культуры Донецко-Доно-Волжского региона (по материалам погребальных памятников): Автореф. дис.. канд. ист. наук: 07. 00. 06. СПб. 22 с.
- Фещенко Е. Л., 1990. К вопросу об использовании охры в катакомбных погребениях//Тезисы докладов всесоюзного семинара «Проблемы изучения катакомбной культурно-исторической области»/Ред О Г Шапошникова Запорожье: ИА АН УССР С 97-99
- Фисенко В. А., 1970. Племена ямной культуры Юго-Востока. Саратов: Саратовский ун-т. 48 с.
- Черемисина К. П., 2009. Символика основной цветовой триады в соответствии с трехчленным делением Вселенной в хантыйской культуре//ВААЭ. № 10. С. 113-116.
- Шилов В. П.,1975 Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья Л: Наука 208 с
- Яровой Е. В., 1985. Древнейшие скотоводческие племена Юго-Запада СССР (классификация погребального обряда) Кишинев: Штиинца 128 с.