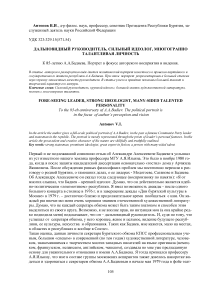Дальновидный руководитель, сильный идеолог, многогранно талантливая личность к 85-летию А. А. Бадиева. Портрет в фокусе авторского восприятия и видения
Автор: Антонов В.и
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Рубрика: Гуманитарные науки
Статья в выпуске: 1 (28), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье автором в развернутом виде дается политический портрет известного в прошлом партийного и государственного деятеля республики А.А.Бадиева. При этом портрет репрезентирован в большей степени через призму личностных качеств руководителя. В статье умело и правдиво показаны большой талант и творческий характер его натуры.
Сильный руководитель, крупный идеолог, большой знаток художественной литературы, человек с многомерным талантом
Короткий адрес: https://sciup.org/142142153
IDR: 142142153 | УДК: 323:329.15(571.54)
Текст научной статьи Дальновидный руководитель, сильный идеолог, многогранно талантливая личность к 85-летию А. А. Бадиева. Портрет в фокусе авторского восприятия и видения
Первый и не подлежавший сомнению отзыв об Александре Алексеевиче Бадиеве я услышал из уст известного нашего земляка профессора МГУ А.Я.Ильина. Это было в ноябре 1980 года, когда я после защиты кандидатской диссертации основательно «гостил» дома у Арчжила Якимовича. После обсуждения разных философских проблем мы постепенно перешли к разговору о родной Бурятии, о тамошних делах, о ее лидерах - Модогоеве, Саганове и Бадиеве. Об Александре Алексеевиче он сказал тогда следующее (воспроизвожу по памяти): «Я от многих слышал, что Бадиев – крепкий идеолог. Думаю, что он действительно является идейно-политическим «локомотивом» республики. Я имел возможность дважды - после одного большого концерта в столице в 1976 г. и в завершение декады «Дни бурятской культуры в Москве» в 1979 г. – достаточно близко и продолжительное время пообщаться с ним. Он каждый раз впечатлял меня очень хорошим знанием отечественной художественной литературы. Думаю, что не каждый секретарь обкома может быть таким знатоком и способен этим выделиться из своего круга. Возможно, я не вполне прав, но интуиция моя (а она крайне редко подводила меня) подсказывает, что он – дальновидный руководитель. И, судя по тому, что услышал от секретаря обкома, у него хорошее, ясное и цельное, видение будущего республики, ее культуры, искусства и образования. Таких как Бадиев, мне кажется, мало на местах, в областях и республиках и вообще в Союзе».
Такая оценка, данная личности секретаря Бурятского обкома КПСС профессиональным ученым, большим «спецом» в современной (по тем годам) художественной литературе, человеком, знакомившимся с творчеством многих западных писателей на языке оригинала (немецком, французском, испанском, английском, чешском), создавала во мне уже предзаданную основу для уважительного отношения к имени А.А.Бадиева. Я тогда признался профессору А.Я.Ильину, что мне в составе группы московских аспирантов также довелось накоротке видеться и здороваться с секретарем обкома А.А.Бадиевым в начале мая 1979 года в фойе теат- ра имени Станиславского и Немировича-Данченко, где проходили как раз «Дни бурятской культуры». Он запомнился нам внешне несколько суровым видом. Но глаза при этом выдавали в нем очень умного человека, а неожиданно появившаяся на его лице в момент встречи с нами улыбка невольно обнажила его доброе сердце.
И менее чем через год, во второй половине мая 1981 года, я, старший преподаватель кафедры философии БГПИ имени Д.Банзарова, ставший уже кандидатом философских наук, был вызван в кабинет секретаря обкома КПСС А.А.Бадиева. Александр Алексеевич, будучи в хорошем расположении духа, много шутил. Вместе с тем «учинил» подробнейший расспрос обо всем, что его интересовало. С дружелюбной тональностью указал на мою внутреннюю амбициозность, заложенную во мне еще со школьных лет. Мотивировал это тем, что я, окончив какую-то сельскую школу даже не уровня районного центра, решил непременно поступить именно в главный вуз страны - МГУ имени М.В.Ломоносова. По его, в общем-то, вполне оправданному замечанию, далеко не каждый и даже очень способный выпускник вряд ли осмелится бросить себя в «пекло» конкурса для поступления в этот университет. Затем высказал свое мнение относительно моего выбора факультета в Московском университете - философского. Александр Алексеевич, не одобрив в принципе мой выбор, стал доказывать правомерность несколько иной последовательности университетского образования: сначала нужно было поступить на юридический факультет МГУ, затем заняться в аспирантуре того же университета философией вообще, а философией права в частности и в особенности. В качестве высокого примера назвал Карла Маркса, который, будучи по первоначальному университетскому образованию юристом, стал великим философом.
Конец того разговора с Александром Алексеевичем запомнился еще двумя моментами. Первый из них был связан с моим партийным билетом. Он, взяв в руки и раскрыв его, неожиданно воскликнул: «Так у тебя же раритетный партийный билет!». Имелось им в виду то, что партийный билет о вступлении в КПСС мне был вручен парткомом МГУ имени М.В.Ломоносова, который пользовался правами райкома КПСС. Это подтверждалось на оборотной стороне первого же листа моего партбилета не только соответствующей записью, но и подписью секретаря парткома, доктора географических наук Юрия Константиновича Бурлина, печатью парткома МГУ. По свидетельству моего однокашника по университетской учебе и позднее ставшего инструктором отдела науки и учебных заведений, а затем гуманитарного отдела ЦК КПСС Бориса Андреевича Шемякина, в аппарате ЦК нередко партийный комитет МГУ называли парткомом «яйцеголовых».
Второй момент той памятной встречи был связан с совершенно неожиданным для меня предложением Александра Алексеевича перейти на новую работу - в отдел науки и учебных заведений обкома КПСС на должность инструктора, курирующего академические институты, вузы и средние специальные образования республики. По откровенному признанию А.А.Бадиева, не ахти какая-то высокая должность, но должность, позволяющая набраться нужного и практического, и политического опыта. Я, естественно, начал всячески отпираться, ссылаясь на необходимость продолжения своих научных изысканий. Но Александр Алексеевич счел все мои доводы несерьезными, неубедительными и дал три дня для размышлений и «правильных» выводов. Однако, успокоившись на следующий день, я начал ставить перед собой этот неожиданно свалившийся на меня проблемный вопрос уже с явным акцентом на практическую плоскость: «А что если попробовать? Ведь не я же первый и последний на такой работе! Не справлюсь, вернусь обратно в вуз. Ведь я имею же опыт вузовской работы». Новая стезя работы меня всегда увлекала своей неизвестностью, своим незнакомым характером, спецификой и функциями. Хотя на прежней работе в БГПИ меня отговаривали от согласия идти в аппарат обкома, убеждая, что инструктор обкома - самая что ни на есть «рабочая лошадка», самая неблагодарная должность, я внутренне все же перестроился и настроился на возможный поворот судьбы. Мое согласие Александр Алексеевич воспринял с удовлетворением и сразу же повел меня на собеседование к первому секретарю обкома КПСС А.У.Модогоеву. И я прошел формальное утверждение на заседании бюро обкома КПСС в конце мая 1981 года. Так я оказался в аппарате обкома КПСС и проработал в нем целых десять лет. И с высоты сегодняшнего времени могу однозначно констатировать, что в обкоме КПСС я прошел серьезную практическую и политическую школу.
Что же касается самого Александра Алексеевича, то под его общим руководством мне довелось проработать более трех лет. И скажу прямо, более требовательного и жесткого, одновременно более компетентного, справедливого и мудрого руководителя в моей непосредственной работе, связанной с аппаратом обкома КПСС, не было. Увы, другие, при всем уважении к ним, не шли ни в какое сравнение с А.А.Бадиевым.
Многоопытный командующий большой армией идеологических работников республики, настоящий зубр в своем деле - такое не только ощущение, но и мнение о нем сложилось у меня уже с первых дней работы в аппарате обкома КПСС. От подчиненных он всегда требовал четкости постановки проблем, познания и знания их изнутри, видения реальных путей их решения. Отсюда для идеологических работников обкома КПСС в те времена считалось непременной нормой внимательное ознакомление и тщательное изучение назревших вопросов идеологического, социально-экономического, культурного и т.д. характера именно на местах. Это давало возможность ответственным лицам разобраться с ними по существу. Потому Александр Алексеевич очень плохо переваривал расплывчатые справки о проделанной работе, пространные отчеты по командировкам в связи с адресным рассмотрением тех или иных проблем. Особенно не выносил в них неточности, фактических разночтений. Мог за это резануть не только суровым, недовольным взглядом, но и резким и неприятным словом. «Ба-диев - мужик конкретный, любит конкретику дел» - такая его характеристика была тогда в ходу среди многих идеологических работников обкома. У него ценились, прежде всего, строгость и лаконизм, доказательность и правдивость в суждениях, выводах подчиненных. Он никогда не приветствовал многословие, словесный пустоцвет, т.е. «перелив» из пустого в порожнее. Поэтому говорильню ненужную пресекал на корню. От него крепко доставалось любителям демагогических выступлений, в том числе нередко и зав.отделом науки и учебных заведений обкома Л.Я.Похосоеву.
В первый же год работы в обкоме КПСС я понял, что Александр Алексеевич, ко всему сказанному, лингвистически хорошо подготовлен, т.е. весьма осведомлен относительно грамматики и лексики русского языка. Прекрасно разбирался в стилистике языка. А.А.Бадиев в моменты ознакомления с различными текстами (справки, письма, проекты постановлений и т.д.), подготовленными мною, также уяснил для себя, что я неплохо владею пером. В этом отношении мы где-то оказались родственными душами.
Было немало случаев, когда Александр Алексеевич давал предпочтение вариантам именно моих текстов. В целях подтверждения сказанного приведу лишь несколько фактов. Дело происходило в конце лета 1981 года, когда я успел проработать в обкоме чуть более двух месяцев. Ввиду выхода в отпуск В.С.Ларченко, курировавшего общеобразовательные школы и профтехучилища республики, мне поручили разобраться с одной очень серьезной жалобой из образовательных учреждений Северобайкальского района. Мне, естественно, полагалось выехать туда и разобраться на месте. По итогам недельной командировки я подготовил подробную справку и текст письма в адрес авторов жалобы, где сообщалось о результатах проверки и принятых мерах в обкоме КПСС. Поскольку на письме-жалобе была серьезная резолюция А.А.Бадиева, снять его с контроля мог только сам Александр Алексеевич. Но подготовленные мною справка и проект письма застопорились на уровне зав.отделом обкома Л.Я.Похосоева. Лев Яковлевич, обвинив меня как автора в «сплошных бурятизмах», перечеркал их и, по сути, переписал заново. С этим, т.е. его, вариантом я зашел к А.А.Бадиеву. Александр Алексеевич, внимательно прочитав похосоевский вариант (а он умел буквально впиваться в тексты и обязательно находить в них какие-нибудь ошибки, из-за чего многие рядовые идеологические работники обкома побаивались напрямую заходить к нему с подготовленными бумагами и даже заведующие отделами не всегда горели желанием подписывать у него «отделовские» материалы), начал беспощадно исправлять его, затем спросил меня грозным, отдававшимся холодной сталью голосом: «Кто готовил эти бумаги?». Я честно признался, что оба текста изначально являются моими, но они существенно исправлены и переделаны Л.Я.Похосоевым. «Принеси свои!» - скомандовал А.А.Бадиев. Я незамедлительно занес к нему второй, напечатанный под копирку, машинописный экземпляр (первый, как известно, был основательно перечеркнут Л.Я.Похосоевым, о компьютерах тогда и речи не могло быть). Александр Алексеевич в течение 4-5 минут каменным видом сконцентрировался на моих бумагах, затем вернул их мне со словами: «Перепечатай на чистовик!». Выйдя в коридор, я испытал полное удовлетворение, увидев, что секретарь обкома в тексте письма сделал всего одно исправление, а в самой справке - две незначительные поправки.
Осенью, точнее говоря, в ноябре 1981 года умер известный ученый-историк, археолог, этнограф академик А.П.Окладников. Мне было поручено срочно подготовить развернутое (не менее 1,5-2 страниц) обращение-соболезнование от секретариата обкома КПСС в адрес Президиума Сибирского Отделения АН СССР, его председателя академика В.А.Коптюга. Я сумел вовремя и, конечно, не без внутреннего напряжения написать текст. Только успел завершить его и напечатать в приемной своего отдела, вызвал А.А.Бадиев и сразу при мне позвонил по внутренней связи Л.Я.Похосоеву: «Ты письмо-соболезнование по Окладникову посмотрел?». Тот, толком не разобравшись, начал оправдываться, что, мол, Антонов, как всегда, не уложился в положенное время, и стал априори, я думаю, на всякий случай охаивать мой текст, за что получил серьезную взбучку по телефону со стороны секретаря обкома КПСС. Написанный мною текст тогда был полностью одобрен Александром Алексеевичем. Как отчетливо помню сейчас, он изменил лишь падежное окончание в выражении «верность делу партии и народа», т.е. вправка оказалась символической: «верность делу партии и народу».
Перед моим выходом из кабинета секретаря обкома Александр Алексеевич неожиданно тогда остановил меня своим повелительным голосом: «Подожди! Вернись!» и ткнул пальцем в стул напротив себя, чтобы я сел туда. Затем, слегка побагровев и показывая в горизонтальном положении свою пятерню, А.А.Бадиев стал выговаривать свои острые замечания в адрес некоторых работников идеологических отделов обкома: «Вот столько, вот такого размера (имелась в виду ширина пятерни - В.А. ) текст на бумаге грамотно не могут сочинить. Мучают себя. Заодно и меня. Настоящий идеологический работник должен уметь не языком без конца трепаться, а ясно мыслить и ясно выражать свою мысль в письме. Кому нужна беспредметная болтовня!»
Такого рода «стилистическое взаимопонимание» между А.А.Бадиевым и мною продолжалось и далее, причем не один раз. И вообще хочу признаться, в этом аспекте с ним контактировать было очень необычно, интересно и даже увлекательно, хотя и непросто.
Конечно же, А.А.Бадиев был лидером авторитарного типа. И это вполне соответствовало духу того времени. Идеологический аппарат обкома он держал под своим жестким контролем. Это, по существу говоря, была единая команда, работе которой - благодаря стилю руководства, в первую очередь, самого Александра Алексеевича - придавался размереннослаженный характер. Но, когда наступали критические периоды в партийной жизни, он не только не щадил себя. Команду свою, собрав в единый кулак, мог загонять так, что люди с ног валились. День, ночь, день, ночь - без отдыха.
Так было, например, после июньского (1983) Пленума ЦК КПСС, рассмотревшего «Актуальные вопросы идеологической, массово-политической работы партии». Пленум, как известно, длился два дня - 14-15 июня. Кстати, он оказался последним Пленумом ЦК КПСС, который непосредственно вел сам Ю.В.Андропов как Генеральный секретарь ЦК. На нем же Юрий Владимирович был рекомендован на последующее (на сессии Верховного Совета СССР) избрание Председателем Президиума Верховного Совета СССР.
Сразу же после Пленума ЦК в идеологических отделах (пропаганды и агитации, культуры, науки и учебных заведений) Бурятского обкома КПСС жизнь буквально забурлила. Началась подготовка к Пленуму обкома партии по аналогичным вопросам, но взятым в масштабах республики. Проблем идеологического характера, требующих своего рассмотрения на областном партийном уровне, к тому времени накопилось в автономной республике немало .
Пленум давал прекрасную возможность для постановки актуальных задач в идеологической работе и их последующей реализации в практической жизни.
Координатором для сбора и систематизации материалов к Пленуму был утвержден первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации обкома КПСС Д.Б.Шагдуров, человек с должным опытом идеологической работы, активный по натуре, но в то же время тщедушный, страдавший слабым здоровьем. И не мудрено, что в один из «бешеных дней» подготовки к пленуму он упал в обморок в кабинете А.А.Бадиева.
Мне к пленуму было поручено подготовить раздел, посвященный науке Бурятии. Но когда передал свой материал Д.Б.Шагдурову, тот с недовольным видом тут же, при мне начал «дорабатывать» его. Затем стал демонстрировать мне «как надо правильно писать». Я вынужден был с ним спорить, так как его вариант мне показался слишком плосковатым, не в меру упрощенным и казенным.
Через день-два зав.отделом науки и учебных заведений прилюдно вернул мне раздел по науке, переделанный Д.Б.Шагдуровым. При этом он с ехидцей заметил: «Антоновский... э-э... твой материал провалился. Бадиев не пропустил. Немедленно нужно переделать. Ты меня понял?». Я не стал оправдываться, поскольку знал: это - не мой материал, а шагдуровский. Поэтому, отбросив его в сторону, я взялся за свой первоначальный текст и попытался улучшить его с точки зрения своего видения. Внес несколько корректив и опять отдал Д.Б.Шагдурову. На этот раз он уже не стал выказывать свое «превосходство» в знании стилистики и текстологии. Даже поблагодарил меня. А в итоге я остался доволен. В окончательном варианте доклада на пленум почти 90 % из раздела по науке состояли из моего текста. Должен признаться, о бдительном оке Александра Алексеевича тогда в обкоме ходили настоящие легенды. И все они имели под собой более чем серьезное основание.
«Он может на ходу, в мгновение ока разглядеть, что хорошо и что плохо. У него не только глаза всевидящие. У него сердце чует плохое, подлое за версту. А сердце у него доброе. Мужик, хоть очень суровый, но добросердечный. Такой вот Бадиев - мой великий джидинский земляк», - неоднократно, помню, говорил мне Валерий Владимирович Кучинский (19422005), работавший в начале 80-х гг. инструктором отдела по вопросам здравоохранения и социального обеспечения, заслуженный врач Бурятской АССР, выросший в Джиде от участкового врача до главного в районной больнице. Он имел основание так утверждать, поскольку знал Александра Алексеевича больше с неформальной стороны, но еще более был наслышан о нем от друзей-джидинцев, которые всегда с благодарностью вспоминали о периоде деятельности А.А.Бадиева на постах секретаря парткома Джидинского производственного колхозно-совхозного управления, первого секретаря Джидинского райкома КПСС (19631968).
О большой принципиальности, смелости и независимом характере секретаря обкома КПСС А.А.Бадиева также много говорилось в ту пору. В подтверждение этого непременно приводился факт его выступления на семинаре-совещании в ЦК КПСС в 1977 г., где он подверг резкой критике работу отдела пропаганды ЦК за увлечение общими, не конкретными местами в идеологии, ненужным теоретизированием, за отсутствие должного внимания насущным идеологическим вопросам в регионах: в областях, краях и республиках.
Александр Алексеевич как руководитель обладал особой чертой человечности. Она, прежде всего, состояла в его объективности и справедливости во взаимоотношениях с людьми по работе, в том числе с подчиненными. Этот момент я дважды испытал, что называется, на своей собственной шкуре.
Так, в мае 1982 года Академия общественных наук при ЦК КПСС совместно с философским факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова проводила интересную научно-практическую конференцию. Мне было прислано персональное приглашение. Но решение вопроса с командировкой на первом этапе уперлось в Л.Я.Похосоева. Лев Яковлевич со словами: «Нечего транжирить партийные деньги на какие-то научные конференции!» - встал в решительную отказную позу. Тогда мне В.В.Кучинский посоветовал зайти к Александру Алексеевичу. А.А.Бадиев, внимательно ознакомившись с пригласительным письмом, наложил на нем сво- ей твердой рукой, своим уверенным и размашистым почерком соответствующую резолюцию со своей подписью «Разрешить. А.Бадиев». Затем, уточнив тему моего выступления на конференции, велел срочно идти к главному бухгалтеру обкома П.Б.Балтаеву для оформления командировки.
Второй случай аналогичного порядка произошел в июне 1984 года. Меня официально пригласили принять участие в работе методологического семинара в Новосибирске, организованного Сибирским отделением АН СССР и отделом науки и учебных заведений Новосибирского обкома КПСС. Мое обращение с пригласительным письмом к Л.Я.Похосоеву, как ожидалось, было опять принято им в штыки. Более того, на письме с какой-то злостью написал: «Отказать. Л.Похосоев». Такая его резолюция сильно меня разозлила, и я решил не сдаваться. Вновь обратился к А.А.Бадиеву. Но на этот раз его успел предупредить Л.Я.Похосоев, причем в том смысле, что я будто постоянно козыряю перед ним своей ученой степенью, которой, как известно, у него не было. Поэтому разговор с Александром Алексеевичем начался с его серьезного замечания по поводу моего «ученого высокомерия». На такое замечание у меня невольно вырвалось: «Это гнусная ложь и клевета с его стороны. Никогда за мной такого не было». Видя, что мое внутреннее кипение от возмущения вылилось наружу, на лицо, А.А.Бадиев спросил: «Где письмо? Подай сюда!». Прочитав его, многозначительно посмотрел на меня. Затем, тяжело вздохнув, взял телефонную трубку внутренней связи. Похосоева не оказалось на месте. Возникла непонятная пауза. Но в следующую минуту произошло то, что можно было бы охарактеризовать как миг психологического ощущения моего, хоть и маленького, триумфа. Александр Алексеевич, решительно вычеркнув резолюцию Похосоева, рядом столь же уверенно надписал: «Разрешить. А.Бадиев». Видя на моем лице с трудом скрываемую радость, он добавил: «Имей в виду, на таких львов как Похосоев в обкоме всегда найдутся настоящие тигры». Этим закончился тот необычный, во многом неповторимый разговор с Александром Алексеевичем, о котором каждый раз вспоминаю не только с интересом, но и с чувством благодарности.
Когда А.А.Бадиев в декабре 1984 года ушел на более высокую по статусу, но являвшую собой все-таки больше представительски-церемониальную должность (лишенную реальной власти, в этом смысле - несколько декоративную), т.е. был избран председателем Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, у меня остались двойственные чувства. С одной стороны, многосложная область идеологической работы в республике оказывалась вне поля основной деятельности такого общепризнанного и мощного куратора как Александр Алексеевич Бадиев. От этого мне стало тогда немного грустно. С другой стороны, он по своему опыту и профессиональному уровню давно перерос пост секретаря обкома и заслуживал выдвижения на более высокую должность. Тем более что новая должность, т.е. председателя Президиума, наряду с постами первого секретаря обкома КПСС, председателя Совета министров автономной республики, входил непосредственно в номенклатуру Политбюро ЦК КПСС, т.е. руководители такого ранга утверждались на заседании Политбюро. И это обстоятельство не могло не вызывать во мне чувство некоторого удовлетворения.
Но если быть честным до конца и, прежде всего, перед собой, тогда больше меня устроил бы несколько иной кадровый расклад в высшем эшелоне власти республики. Оттого, видимо, в то время я мысленно неоднократно конструировал возможность такого расклада. Причем, по моему разумению, он должен был состояться гораздо ранее 84-го... С годами я все больше удостоверяюсь в правоте своей мысли об этом, ставшей сейчас уже моим убеждением. Но, увы, как бывает в жизни почти на уровне какого-то правила, в ней реализуются не самые лучшие возможности.
Суть моей позиции заключалась в следующем. Мне всегда думалось, что на место первого секретаря обкома КПСС после ухода Андрея Урупхеевича Модогоева, многоопытного и уважаемого в народе руководителя, объективно должен был прийти не А.М.Беляков, а А.А.Бадиев. Причем эта смена оказалась бы разумнее и исторически оправданной, если бы она случилась 5-7 годами раньше, т.е. где-то в 1977-79 гг. А на место А.А.Бадиева пришел бы В.Б.Саганов с поста первого заместителя председателя Совмина республики. Придя с большой советской и хозяйственной работы в сферу партийно-идеологической работы и обретя в ней нужный опыт, Владимир Бизьяевич стал бы в перспективе достойной и, главное, реальной кандидатурой на пост первого секретаря обкома КПСС. Ведь в чем была его главная проблема после ухода А.У.Модогоева? Основная «загвоздка» В.Б.Саганова с точки зрения орготдела ЦК КПСС состояла в том, что он ни дня не был на освобожденной партийной работе - ни секретарем райкома, горкома и обкома. Случись на практике, в жизни такой расклад, такой принцип преемственности, Бурятия и ее народ, несомненно, выиграли бы. Проработав на высоком посту председателя Президиума Верховного Совета республики ровно три года, Александр Алексеевич в декабре 1987 года ушел на пенсию. Ему была назначена персональная пенсия союзного значения.
Поскольку документальное оформление представления на персональные пенсии союзного и республиканского (РСФСР) значения осуществлялось по линии обкома КПСС, все первичные документы собирались и готовились инструктором отдела науки и учебных заведений, занимавшимся вопросами здравоохранения и социального обеспечения. Им тогда являлся Марков В.С. Но так как у Валентина Семеновича не все ладилось с пером, с письмом, он частенько по согласованию с зав.отделом обращался ко мне и старался вовлечь меня в свои «пенсионные дела». Мне же не составляло особого труда написать письма-обоснования в виде соответствующих записок от обкома КПСС в адрес ЦК за подписью первого секретаря. Но такой порядок «вспоможения» неожиданно для меня, причем негласно, превратился как бы в нечто должное, обязательное по работе. И это, т.е. функциональная подмена В.С.Маркова с моей стороны, со временем обрело силу привычки не только для коллеги по отделу... Мне стали напрямую «отписывать» различные документы на представление к персональной пенсии. Однажды А.М.Беляков из-за этого даже допустил неприятный для себя прокол. Он как-то на одном из совещаний (в начале 1989 г.) во всеуслышание меня назвал врачом, который занимается вопросами медицины и социального обеспечения. Тем самым обнажил собственный «уровень знания» кадров в аппарате обкома КПСС. Когда же я возразил и назвал вещи своими именами, Анатолий Михайлович испытал настоящий шок, вылившийся в эмоциональный срыв.
В этой связи не без гордости могу признаться, что оформление документов А.А.Бадиева на представление к персональной пенсии союзного значения в конце 1987 г. также было поручено мне. И, как сейчас припоминаю, я готовил их с большим тщанием, с чувством особой ответственности. Затем был рад тому, что подготовленные мною документы прошли все положенные стадии, включая подпись у первого секретаря обкома, как говорится, без сучка и задоринки.
После ухода на пенсию Александр Алексеевич, к моему приятному удивлению, открылся совершенно новыми, причем яркими, гранями своей богатой личности. Об этом с удовольствием хотелось бы поделиться с читателями журнала.
Все началось с неожиданной встречи с ним возле госпиталя для ветеранов войны и труда весной 1988 года. Когда Александр Алексеевич увидел меня, у него на лице появилась неподдельная улыбка радости. Я ответил теми же чувствами - не нарочитыми, а вполне естественными, искренними. Он предложил мне сесть на скамейку и немного поговорить. И это «немного» незаметно для обоих длилось целых полтора часа. Мы даже не ощутили тогда холода, студеного воздуха ранней весны. То, что Александр Алексеевич - прекрасный собеседник, я знал давно. Но, видимо, такой беседы не могло быть раньше в силу статусноиерархической дистанции между нами. И мне вдвойне было приятно оказаться в кругу непосредственной и задушевной беседы со столь многоопытным по жизни и мудрым человеком. Меня тогда поразили глубина и искренность его рассуждений по всему периметру жизненных вопросов. В конце нашей беседы Александр Алексеевич начал подробно расспрашивать обо мне, о моих делах, о семье. До сих пор помню, как я испытал определенную неловкость от его вопроса: «Сколько у тебя детей?». Я тогда с некоторой нерешительностью ответил: «Пока у меня нет детей». На это Александр Алексеевич, по-дружески похлопав мне по плечу, среагировал следующими словами: «Не переживай. Ты еще молодой. У тебя обязательно будут дети. Вот увидишь». И сейчас, глядя на своих двух малышей-мальчуганов, всегда вспоминаю те его провидческие слова. Вспоминаю с чувством благодарности и преклонения перед его светлым именем.
С той поры мы с ним встречались неоднократно. Но все эти встречи носили не специальный, а скорее спорадический характер. И мы искренне радовались именно их спонтанности, неожиданности.
В конце 1990 года во время очередной встречи с Александром Алексеевичем я поделился с ним своей мыслью о том, что я вознамерился ехать в годичную докторантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Он одобрительно отнесся к моим планам. Тогда же он, резко отрицательно отозвавшись о Горбачеве и Ельцине, пророчески заявил: «Дело идет к предательскому концу Советского Союза. Я никогда не отрицал того, что Брежнев был слабым руководителем. Но Горбачев на поверку оказался еще слабее. Народ устал от его говорливости, болтливости. Ельцин нагло напирает на власть, ничем не чураясь, пытается взойти на ее вершину, а Горбачев трусливо отпирается, сдавая позицию за позицией. Боюсь, что вся эта борьба приведет к падению страны». Затем наш разговор пошел в несколько ином русле и сосредоточен был вокруг интересного и содержательного интервью Александра Алексеевича, данного «Правде Бурятии» еще летом того же года под названием «О «Гэсэре», нашем прошлом и настоящем».
Во время последующих встреч мы с ним живо обсуждали наболевшие вопросы «переходного периода» в российском обществе. Александр Алексеевич, как правило, наводил на них острую, нелицеприятную, но, по сути, справедливую критику. В ходе их обсуждения между нами выявлялось много совпадающих или близких точек зрения. Позиционная солидарность обнаруживалась и по другим проблемам.
На одной из встреч после 9 мая 1992 года Александр Алексеевич спросил меня, читал ли я его статью в «Правде Бурятии». Я сразу же признался, что очень внимательно изучил ее, более того, не преминул отметить его публицистический дар. И действительно, статья получилась замечательная. Название «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» (слова взяты из Константина Симонова) получилось настолько органичным и символичным, не говоря уже о самом содержании - емком, правдивом и критичном. Именно так написать имел право только Александр Алексеевич Бадиев - человек, еще в юные годы прошедший страшное горнило Великой Отечественной войны, человек, принимавший непосредственное участие в боевых операциях по освобождению Украины, Белоруссии, Венгрии, Австрии и Чехословакии. Но имел не только право, но и полное моральное основание, если учесть жестокий опыт его военных лет, широту его социального познания, высокий уровень его политической и правовой культуры.
И здесь я не вправе (прошу простить за элемент злоупотребления словом «право») не упомянуть о военных заслугах Александра Алексеевича. В Великую Отечественную ему суждено было выбрать самую опасную для жизни профессию - профессию сапера. Не зря ведь говорят: сапер ошибается только один раз. Но молодой Александр Бадиев быстро наработал профессиональный опыт разминирования. К тому же обладал отменным чутьем. Умел с ювелирной точностью обезвреживать вражеские мины . И все же в самом конце войны в Австрии ему не удалось избежать разрыва мины. Но чудом остался жив. Осколком его ранило. Молодой Александр Бадиев ходил под богом. Видимо, его спасли родовые боги. Однако, как свидетельствует фронтовой друг А.А.Бадиева Алексей Дударев, впоследствии ставший заслуженным юристом РФ, которому как раз в широком смысловом контексте адресована вышеназванная статья, «он (имеется в виду Александр Алексеевич Бадиев - В.А. ). даже лечился недолго, с перевязками ран убежал из госпиталя, чтобы не отстать от своей роты». Таким вот самоотверженным, радеющим за общее, не побоюсь сказать, святое дело еще с молодых лет был Александр Бадиев. За военные подвиги он удостоился орденов Красной Звезды, Славы третьей степени, Отечественной войны I степени.
В начале девяностых годов А.А.Бадиев свои трезвые и аналитические рассуждения посвящал урокам истории. Им в газете «Правда Бурятии» было опубликовано несколько острых пуб- лицистических вещей, в том числе такие как «Рано хоронить социалистическую идею», «Не снилось и Наполеону», «Минное поле беспамятства». Они находили понимание и одобрение со стороны многих читателей. По ключевым вопросам, затронутым в них, взгляды А.А.Бадиева разделял и автор данных строк. А это вызывало у Александра Алексеевича чувство законного удовлетворения.
Со своей стороны А.А.Бадиев при встречах со мною всегда положительно откликался на мои публицистические работы, политические портреты. Для подтверждения сказанного приведу лишь два примера. Весной 1994 года Александру Алексеевичу я как-то показал свою статью «От Ленина-идола к Ленину реальному». При этом поведал ему о том, что данную статью удалось напечатать лишь в отрывочном варианте на бурятском языке в «Буряад Унэн» (20 апреля 1991 г.), т.е. еще в советское время, что тогда редакция газеты, согласившись на публикацию, и то посчитала ее во многих местах антиленинской, направленной против бессмертных идей ленинизма, а сейчас (т.е. в 1994 г.) она, напротив, редакциями многих газет и журналов воспринимается как апологетическая, проленинская, полностью противоречащая духу времени. А.А.Бадиев, внимательно в течение 10-15 минут прочитав статью в фойе большого зала филармонии, назвал ее «сильной и убедительной», выругавшись в адрес названных мною печатных изданий: «Конъюнктурщики! Перевертыши!» (кстати, авторская статья о Ленине в полном объеме опубликована в рубрике «На дискуссионную трибуну» журнала «Вестник ВСГТУ» (2009, № 2)). Другой пример. В июне 1995 года во время предпоследней встречи с ним он с восторгом отозвался о моей статье в «Правде Бурятии» «Кирсан Илюмжинов: человек и политик» от 27 мая того же года: «Молодец! Я всем знакомым сказал: парень попал в точку». Кстати, примерно в это же время (кажется, в начале июня) я случайно встретился с Арсением Алексеевичем Бадиевым, работавшим тогда в редакции «Правды Бурятии». Он сразу же поздравил меня со статьей об Илюмжинове и проинформировал меня о том, что на планерке газеты она признана лучшей .
Последняя встреча (где-то в сентябре 1995 г.) с Александром Алексеевичем также была во многом случайной. Мы оба, увидев друг друга, обрадовались. Но она, увы, не получилась, хотя Александр Алексеевич был настроен на продолжительную беседу. Дело в том, что я спешил на занятия на юрфаке БГУ. В тот день у меня должны были состояться одна лекция и два семинарских занятия по логике. Я объяснился и извинился перед Александром Алексеевичем, затем побежал в сторону БГУ. Но у меня в душе тогда остался какой-то тяжелый осадок. Меня в ту пору не покидало ощущение того, что я где-то допустил элемент бестактности, неуважения. Нет чтобы подбежать к рядом стоящему автомату и позвонить в деканат юрфака: «У меня уважительная причина, я вынужден задержаться на 30 минут». Но не додумался до этого. Позднее старался успокоить себя: «В следующий раз наговорюсь вдоволь с этим умнейшим человеком». К великому сожалению, следующего раза не случилось.
Но справедливости ради все же хочу привести один факт. После октябрьских праздников 1995 года, т.е. после 10 ноября, я случайно встретился со С.В. Цыремпиловой и, зная, что она вхожа в семью Бадиевых, задал ей прямой вопрос: «Вы не знаете, где сейчас может быть Александр Алексеевич? Как мне его лучше найти?». При этом необходимость встречи с ним мотивировал тем, что буквально днем или двумя днями раньше (сейчас точно не могу припомнить) в «Правде Бурятии» вышла его статья «Разгул охлократии» и что есть резон обсудить ее вместе с ним. Ответ Сталины Васильевны оказался категоричным и однозначным: «Вы сейчас вряд ли его найдете в Улан-Удэ. Он - давний и заядлый охотник. Наверняка Александр Алексеевич на охоте, в тайге».
Александр Алексеевич неожиданно для меня ушел из жизни в конце декабря 1995 года. Я воспринял эту весть с большой горечью. Помню: в день прощания с Александром Алексеевичем, когда гроб с его телом установили в зале Правительства республики, пришло много бывших партийцев, которые когда-то работали под его руководством. Рядом со мною стоял В.Л.Кургузов (второй секретарь Октябрьского райкома КПСС, зам.зав.отделом пропаганды и агитации обкома КПСС во времена, когда А.А.Бадиев был секретарем обкома, а ныне - доктор культурологии, профессор, зав.кафедрой ВСГТУ). Он, сдерживая учащенное свое дыха- ние, с грустью тогда сказал мне: «Без преувеличения Бадиев был большим человеком». Другие бывшие партийцы (Н.А.Худугуев, М.А.Жарков, Д-Н.Ц.Шойненов), стоявшие за нами, вслух утверждали: «Бадиев заслуживает большой признательности за свою многолетнюю и плодотворную деятельность ради народа на посту секретаря обкома КПСС».
Да, Бадиев являлся фигурой большого масштаба. Думаю, что значимость этой фигуры для республики все более ясно и выпукло стала видеться и осознаваться по мере нарастания временного расстояния после его ухода из жизни. Особенно осознаваться теми, кто знал его по жизни, по работе.
Но на такой вполне оправданной ноте, на таком объективно выверенном выводе было бы, как мне думается, рановато ставить завершающую точку в авторском повествовании об А.А.Бадиеве. Образ его жизнедеятельности, его политический и жизненный портрет, представленные выше автором, получились бы явно недостаточными, если не будет сказано несколько слов о других гранях таланта этой личности.
Мне на сей счет приходилось слышать многократные отзывы от Валерия Владимировича Кучинского о том, как виртуозно А.А.Бадиев умеет играть на аккордеоне и баяне. По его словам, он вместе с Аржановичем А.А. (бывший первый секретарь Гусинозерского горкома КПСС), оба, вытаращив глаза и раскрыв рты от изумления, каждый раз слушали, как Александр Алексеевич мастерски на баяне подбирал мелодию любой песни. А любовь к баяну у Александра Бадиева восходила еще к студенческим годам. Он тогда выступал в составе студенческого ансамбля аккордеонистов и баянистов Свердловского юридического института, куда поступил в 1947 г. и который успешно закончил в 1951 г.
В этой связи примечательны воспоминания признанного бурятского композитора, яркого представителя художественной интеллигенции нашей республики Базыра Цырендашиева. Он пишет: «Однажды я у Александра Алексеевича дома впервые услышал его игру на аккордеоне. Он поставил перед собой клавир и великолепно сыграл с листа знаменитую музыкальную пьесу - «Вальс-фантазию» М.Глинки и еще кое-что из классической музыки. Я был в восторге».
Еще одно страстное увлечение у А.А.Бадиева было связано с чеканкой. По признанию известного бурятского художника Даши-Нимы Дугарова, он добился очень серьезных высот в мастерстве чеканки. Художник как-то мне говорил на бурятском: «Тумэр тудэгэдэ, зэд гуу-линда, алта мунгэндэ, бэшэшье хуушан буряадай дарханай ажалда Александр Алексеевич уйгаргуй ехэл дурэтэй, шадабаритай, мэргэжэлтэй, уран, алтан гаратай хун байhан юм». Сказано профессионально точно и убедительно .
Выше мною говорилось о публицистическом даре А.А.Бадиева, который у него стал ярко проявляться в 90-е годы. Но Александр Алексеевич публицистом был всегда. По крайней мере, в годы партийной работы, особенно на посту секретаря обкома КПСС, это уже у него имело место. Другое дело, что публицистика А.А.Бадиева тогда шла в рамках официальной печати, в границах системы идеологической и политической работы того времени.
Для подтверждения сказанного выше можно привести один-два примера. Так, в 1976 году им была издана в Москве небольшая - тематически актуальная по тем временам - работа «Гласность соревнования» в рубрике «Идеологическая работа: опыт, проблемы». Она вышла в свет в Издательстве политической литературы (Политиздат), в одном из ведущих, общественно престижных и политически значимых, издательств советской страны. А тираж выпущенной работы составлял 55 тысяч экземпляров, т.е. ее количественный массив по современным меркам уходил в заоблачную высь.
Другой пример связан с газетой «Правда» - главной информационной и идейнополитической трибуной советской страны. Там как раз дважды - в студенческие и аспирантские годы - мне довелось читать статьи секретаря Бурятского обкома КПСС А.Бадиева, посвященные злободневным вопросам идеологической работы.
Да, Александр Алексеевич Бадиев как профессиональный политик, как истинный публицист обладал строгим, точным и острым пером. Но такой характеристики опять-таки будет недостаточно. У него перо, кроме того, было изящным и красивым. И это нашло прекрасное под- тверждение на ниве литературного творчества. Им, к примеру, было написано два больших по объему и великолепных по содержанию рассказа «Зов изюбра», «В отрогах Хамар-Дабана». Если бы я не знал автора, то, ей-богу, подумал бы, что они написаны каким-то известным писателем. Но я их прочитал после того, как имя Александра Бадиева как автора было уже обнародовано. Между тем рассказы А.А.Бадиева первоначально увидели свет под псевдонимом «Данзан Дабаев». И в обоих рассказах, написанных от первого лица, обращаются к нему как к «Дабаичу». Все это, безусловно, говорит о том, что Александр Алексеевич был внутренне скромным, в нравственном отношении тонким и щепетильным человеком, чего, к сожалению, нельзя сказать о некоторых нынешних «борзописцах», норовящих любой ценой выпятить в литературе свое имя, фамильное «я».
Еще один штрих к политическому портрету А.А.Бадиева, подтверждающий его особые природные способности. Это касается бурятского языка.
Известно, что Александр Алексеевич был родом из Нукутского района Иркутской области. С детства он хорошо владел аларско-нукутским диалектом бурятского языка. В 1951 году, в 26летнем возрасте, после окончания Свердловского юридического института приехал в Бурятию. И до 1963 года, т.е. до начала своего выдвижения на партийную работу в Джидинский район, он прошел большую профессиональную и практическую школу, проработав прокурором Селенгинского и Баргузинского районов, председателем Баргузинского райисполкома. За период деятельности в правоохранительных, советских и партийных органах республики Александр Алексеевич в совершенстве овладел литературным бурятским языком, основанным на хоринском диалекте. Кроме того, он свободно изъяснялся на сартул-сонгольском и других диалектах. И это хочется поставить в пример для практического подражания и одновременно в укор тем руководителям республики, которые, десятилетиями прожив в Бурятии, так и не удосужились, не научились правильно сказать на бурятском языке даже два слова в связанном виде.
Вот таким был при жизни Александр Алексеевич Бадиев. Таким же он остался в памяти… Политический деятель, отличавшийся подлинно лидерскими качествами, крупный идеолог, многомерно талантливая личность. Человек с большой буквы.