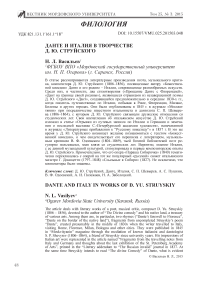Данте и Италия в творчестве Д. Ю. Струйского
Автор: Васильев Николай Леонидович
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются литературные произведения поэта, музыкального критика, композитора Д. Ю. Струйского (1806-1856), посвященные автору «Божествен-ной комедии» Данте и его родине - Италии, сокровищнице разнообразных искусств. Среди них, в частности, два стихотворения («Прощание Данте с Флоренцией», «Дант на границе своей родины»), являющиеся отрывками из незавершенной поэмы Д. Ю. Струйского «Дант», создававшейся предположительно в середине 1830-х гг., когда писатель путешествовал по Италии, побывав в Риме, Флоренции, Милане, Болонье и других городах. Они были опубликованы в 1845 г. в журнале «Москвитянин» при посредничестве известного итальяниста и дантолога С. П. Шевырева (1806-1864), с которым Д. Ю. Струйского связывали дружеские отношения со студенческих лет. Свои впечатления об итальянском искусстве Д. Ю. Струйский изложил в статье «Отрывки из путевых записок по Италии и Германии и замечания о последней выставке С.-Петербургской академии художеств», напечатанной в журнале «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”» в 1837 г. В это же время у Д. Ю. Струйского возникает желание познакомиться с текстом «Божественной комедии», о чем свидетельствует его переписка с литератором, музыкальным критиком В. Ф. Одоевским (1804-1869), чьей богатой библиотекой поэт регулярно пользовался, зная князя со студенческих лет. Вероятно, именно Италия, с ее дивной музыкальной культурой, стимулировала и первые композиторские опыты Д. Ю. Струйского. Примечательно, что его опера «Параша Сибирячка» (1840) тематически перекликалась с оперой на тот же популярный «русский» сюжет итальянского маэстро Г. Доницетти (1797-1848) «Ссыльные в Сибири» (1827). Не исключено, что композиторы были знакомы.
Д. ю. струйский, данте, италия, с. п. шевырев, а. с. пушкин, в. ф. одоевский, а. и. полежаев, н. а. заболоцкий
Короткий адрес: https://sciup.org/14720175
IDR: 14720175 | УДК: 821.131.1?161.1“18” | DOI: 10.15507/VMU.025.201503.048
Текст научной статьи Данте и Италия в творчестве Д. Ю. Струйского
Итальянские мотивы в произведениях русских поэтов нередки. Не остался в стороне от влияния литературы, живописи, скульптуры, музыки, природных красот Италии поэт, критик, композитор Д. Ю. Струйский (1806–1856), что интересно прежде всего в аспекте отечественной дантеаны.
В наследии поэта есть два стихотворения, посвященные Данте, – с примечанием, что они представляют собой отрывки из более обширного сочинения: «Эти два стихотворения взяты из моей поэмы Дант » [29, с. 88–89]. Ко времени их публикации автор почти отошел от литературной деятельности, и указанные произведения являются последними аккордами его лиры. Одной из причин этого явилось, вероятно, прогрессировавшее психическое расстройство, о чем скупо сообщается в мемуарах современников писателя [11, с. 231–233; 15, с. 264, 267–269].
В истории русской поэзии Д. Ю. Струйский был известен преимущественно как байронист [20, с. 339– 342; 24, с. 64], хотя эта характеристика сужает представление о его творчестве [1, с. 108–140; 3; 11; 13–15; 17; 23]. В произведениях писателя можно обнаружить те или иные знаки внимания к сочинениям В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, П. А. Вяземского, Д. В. Веневитинова, С. П. Шевырева, Н. А. Полевого, П. А. Катенина; из западноевропейских авторов – Тассо, Руссо, Шатобриана и др. Тем более примечательно на этом фоне его обращение к образу итальянского классика.
Первое стихотворение из дантов-ского «цикла» поэта («Прощание Данте с Флоренцией») представляет собой внутренний монолог великого флорентийца, корреспондирующий с лирической установкой Д. Ю. Струйского как поэта-романтика и своеобразного изгоя среди более благополучных в жизненном плане современников: «Прощу того, кто для корысти низкой / Подстережет меня в мой злобный рок, / Кто нагло спросит: «жизнь иль кошелек» / И тайный нож приставит к груди близкой. / Но обществу, которое в пирах / Беспечно жизнь презренную проводит, / Где все изящное низринуто во прах, / Где скука с пресыщеньем бродит, / Я не прощу, что пеплом гробовым / Оно посыпало над алтарем святым; / И не прощу, что холодом смертельным / Оно мой дух в пространстве беспредельном / Низвергло, – как в тиранскую тюрьму… / Мое проклятие ему».
Второе стихотворение («Дант на границе своей родины») развивает эпическую тему судьбы Данте: «Как тяжело с отчизною прощаться / И с малодушною привычкою расстаться / К природе, к лицам, к звукам языка… / Но мне еще страшней моя тоска! / В отчизне я был лишний и безродный; / Прощаюсь с ней, как с мачехой холодной; / На рубеже ее в раздумье я стою, / В самом себе похоронивши горе… / В последний раз ей руку подаю… / Душа болит… волнуется, как море!».
Неизвестно, в какой стадии находилась работа Д. Ю. Струйского над поэмой «Дант», была ли она уже завершена им или еще только разворачивалась. Вероятнее всего, первые наброски поэмы были сделаны им под впечатлением от непосредственного знакомства с родиной Данте, то есть еще в 1830-х гг. На это наталкивает и следующее соображение. Среди опубликованных в «Москвитянине» произведений поэта было стихотворение под необычным названием «Литературная заметка»: «Со смертью внезапной твоей / Надолго умолкли на Севере песни! / Без эха, – Русская дремлет пустыня… / Ни женская прелесть, ни предков сказанья, / Ни дружеский кубок, ни подвиг Героя / Не вызовут вещую лиру твою! / Далёко от дивнопрекрасной столицы, / Воспетой тобою, почил ты один / В пустынной могиле; – и сельской травою / Без дружеской тризны зарос твой курган. / Похищен народный Баян! / Оборваны Русские струны!». Очевидно, что речь здесь идет о смерти А. С. Пушкина. Кроме прямых и скрытых указаний на гибель соотечественника, его захоронение в отдаленной от Петербурга псковской провинции (внезапная смерть, Север, столица, пустынная могила, сельская трава и др.), стихотворение содержит фразеологические параллели с поэтическим некрологом А. И. Полежаева «Венок на гроб Пушкина»: «Где же ты, поэт народный, / <…> / Угас и навсегда, мильонами любимый, / Державы северной Баян!». Именно в это время последний в письмах к Л. А. Якубовичу сообщал о своих эпистолярных контактах с Д. Ю. Струй-ским: «Дмитрий написал мне весьма разумное слово в форме эпистолы, желает мне всяких благ и, наконец, заключает тем, что он с фамилией покойника А. Струйского связей не имеет…», «Письмо, приложенное здесь, передай Струйским…» [26, с. 448].
В отличие от своего кузена – заочного ученика и своеобразного литературного оппонента великого современника [4–5; 9–10; 16], Д. Ю. Струйский был хорошо знаком с А. С. Пушкиным, входил в его литературное окружение и в какой-то мере даже являлся его протеже. Так, по свидетельству В. Ф. Одоевского, А. С. Пушкин рекомендовал Д. Ю. Струй-ского в сотрудники журнала И. В. Киреевского «Европеец» [11, с. 105].
Исходя из сказанного, можно предположить, что поэтические произведения Д. Ю. Струйского, опубликованные в «Москвитянине», были написаны в рамках одного хронологического среза, вероятней всего в 1837 г., и отражали его отношение к двум великим поэтическим фигурам, разделенным в Пространстве и во Времени, но актуально оказавшимися в тот момент в едином континууме Вечности.
Одним из побудительных мотивов обращения Д. Ю. Струйского к судьбе создателя «Божественной комедии» могло быть его близкое многолетнее знакомство со С. П. Шевыревым (1806– 1864) – литератором, неравнодушным к творчеству Данте [22; 27]. Обоих связывали московские интеллектуальные корни (учеба в университете, работа в архиве Коллегии иностранных дел), интерес к итальянскому искусству. Примечательно, что Д. Ю. Струйский отправился в свое заграничное путешествие после возвращения из Италии самого С. П. Шевырева, проведшего вне России три года (1829–1832) – и, вероятно, под воздействием итальянских впечатлений друга. В Италии С. П. Шевы-рев работал, в частности, над книгой о Данте; туда же он вернулся в последние годы жизни, поселился во Флоренции, а позже переехал в Париж, по какому-то стечению обстоятельств умерев, как и Д. Ю. Струйский, за пределами родины. В 1840–1850-х гг. С. П. Шевырев нередко печатался в «Москвитянине» и мог способствовать появлению на страницах этого издания подборки лирических произведений Д. Ю. Струйского, два из которых были навеяны судьбой Данте. На эту мысль наталкивает и то обстоятельство, что Д. Ю. Струйский ни до, ни после эттого не публиковался в указанном журнале, несмотря на чрезвычайную печатную ангажированность почти во всех популярных периодических изданиях своего времени.
О «заочной» тяге Д. Ю. Струйского к Италии, его патриотизме, характере отношений между обоими писателями можно судить по посланию «Рим (К Шевыреву)», датированному 30 августа 1831 г.: «Державный Рим, несчастный Рим, / Гигант, твою ли тень мы зрим! / Веков, народов пепелище, / Сатурна мрачное жилище – / Твои святые красоты / Порфирой тления покрыты, / Над пеплом их глумят шуты / Или вздыхают сибариты. // <…> // Поэт с возвышенной душой, / Среди развалины печальной / В себе, как в бездне углублен – / Ты слышишь гимн веков прощальной; / С тобой беседует Катон, / И при лампаде бледнолунной, / Звучит на лире сладкострунной / Торквато Тасс или Марон. // Достоин ты сих песен неба… / Но мне завиден твой удел! / К тебе, под кров лазурный неба, / Не раз душою я летел! / Не раз с родимою Невою / Прощался я… но не солгу – / Прикован мачехой судьбою!.. / (Нет денег – ехать не могу). // Пойду пешком! трудов награда – / Веков пепловая громада / Во всей печальной красоте / Предстанет мне – и не в мечте! / И я развалину измерю, / И взором жадным обниму / Весь ряд могил – проникну тьму – / И звукам Байрона поверю. // Прими ж под свой радушный кров / Родного гостя, Шевырев! / Я знаю, звук октавы нежной / Тебя пленил, тебя увлек: / Но сердцем – Русский человек – / Ты не забыл наш Север снежной! / <…> // Не забывай Москвы родной. / Она наш Рим – и Рим живой! / Покинь развалин мир пустынный; / Его приманчив грустный вид, / Но Кремль Москвы, сей Кремль старинный / Тебя за все вознаградит! / Родные ближе нам преданья… / Прощай, товарищ, до свиданья!».
В середине 1830-х гг. Д. Ю. Струй-ский, оставив службу, в течение двух-трех лет путешествовал по Европе, посетив, в частности, и Флоренцию. Об этом факте колоритно повествует П. А. Вяземский в позднейшей приписке к своей рецензии на книгу Д. Ю. Струйского «Аннибал на развалинах Карфагена: Драматическая поэма» (Санкт-Петербург, 1827 г.), где критик попутно говорил о знаменитом предке поэта – Н. Е. Струйском [6–9; 12]: «Этот второй Струйский африканский, в отличие от первого Струйского рузаевского, может быть тот же Струйский, который после под псевдонимом Трилунного печатал очень порядочные, а иногда и хорошие стихи в разных повременных изданиях. Если так, то винюсь перед ним… что в былое молодое время отозвался я о нем не совсем благоприятно и несколько насмешливо. Дело журнальное. Кажется, напрасно выпущен он вовсе из гостеприимной хрестоматии для всех, изданной г. Гербелем в 1873 году. В русской хрестоматии для всех, пишущих и читающих, Трилун-ный имеет свое законное место… <…> Но вот воспоминание о самом Трилунном, которое крепко врезалось в меня. В 1834 году гулял я во Флоренции по саду, который прозывается Boboli. Сад был совершенно пустынный. Вдруг в одной аллее кажется мне, что идет навстречу кто-то в форменном русском служебном фраке. Это перенесло меня в петербургский Летний сад; не мог я дать себе прямой отчет в видении, рисовавшемся передо мною. Это был молодой Трилунный, то есть Струй-ский. <…> Он кое-как бережливостью своей сколотил из скудного своего жалованья небольшую сумму и отправился путешествовать по Европе: путешествовать в буквальном смысле этого глагола – и едва ли не обходил пешком всю Европу. Везде, где он ни был, осмотрел он все, что достойно внимания, по возможности со всем и со многими ознакомился. В Риме, где я после опять с ним виделся, был он дружелюбно встречен русскими художниками <…>. Одним словом, если не оставил он по себе поэмы, которая передаст имя его уважению грядущих поколений, то он из жизни своей извлек для себя по возможности много поэзии. Около двух лет продолжалась мирная одиссея русского странника и поэта. Много потребно было силы воли и пламени в душе, чтобы совершить такой подвиг. <…> Прошло уже сорок лет, а я и ныне мысленно смотрю с уважением и особенным сочувствием на этот мундирный фрак, встреченный мною в саду Бобо-ли» [19, с. 89–90].
О родине Данте Д. Ю. Струйский рассказывает прежде всего как о сокровищнице классической живописи, почти без упоминания ее историколитературных реалий, что объясняется установкой автора на сравнение увиденного в Западной Европе с рецензируемой им художественной выставкой в Петербурге: «Ты хотел, любезный друг, чтоб я сообщил тебе мои мысли о изящных искусствах, в каком именно положении нашел я их в Германии и Италии. <…> Переход из Тироля в Италию разителен: мне кажется, сам Бетховен не отважился бы на такой контраст модуляции. Чья-то сильная рука передвинула кулисы – и вот, вместо мрачных гор и снегов, предстали светлые озера, каштаны, лимоны и веселый виноградник. <…> Милан прекрасный город, не спорю, но мне не понравился. Не люблю той Италии, где виден чужой отпечаток. <…> Но благодарное воспоминание сохраню о Дрездене. Там <…> видел Мадонну Рафаэля, воспетую Жуковским. Она так величественна и свята, что смотришь на нее, как на отверстое небо. <…> Эта Мадонна есть лучшая из всех дивных Мадонн Рафаэля. Он не был колористом, но здесь всё у места. Никакая радуга не затмит этой бледной и однообразной живописи. <…> Эта Мадонна есть образ нерукотворный, и Жуковский прав: копировать ее не должно. <…> Обращаюсь снова к Италии… прекрасной Италии!.. В Милане все женщины красавицы, и потому иностранец, любящий что-нибудь необыкновенное, должен здесь влюбляться в дурных, как в редкость. – Чтоб не принадлежать к числу тех чудаков, которыми так богата Англия, я переехал в Болонию. Ее простота поразила меня. Она является как нищий в изодранном рубище. Но в чертах сего нищего видна уже апостольская красота. <…> Болония скучна для праздного путешественника; но любитель изящного может здесь провести целые годы в наблюдениях. <…> Под навесом галереи раздается гул посетителей, иногда вырывается беспечный хохот, или насвистывается потихоньку мотив из любимой оперы. Женщины кокетничают как в маскараде, и как прелестны они в это мгновение! сколько поэзии в беспечной их улыбке! <…> Из Болонии чрез Флоренцию прибыл я в Рим. О галерее флорентийской не скажу ни слова, она так известна, столько раз была описана. <…> Мне остается только сказать, что портретная галерея во Флоренции есть чудо <…> – В Риме видел я картон “Страшного суда” Корнелиуса, студию Торвальдсена и выставку французских художников» [28].
В эти же годы у Д. Ю. Струйского возникает желание познакомиться с текстом «Божественной комедии», что видно из его переписки с В. Ф. Одоевским, чьей богатой библиотекой он регулярно пользовался, зная князя со студенческих лет: «…нет ли Дантовой божественной Комедии на франц<узском> языке? Мне бы хотелось иметь о ней хоть какое-нибудь понятие» [25].
Вероятно, именно Италия, с ее дивной музыкальной культурой, стимулировала и первые композиторские опыты Струйского [см. также 18]. Примечательно, что его опера «Параша Сибирячка» (1840) тематически перекликалась с оперой на тот же популярный «русский» сюжет итальянского маэстро Г. Доницетти (1797–1848) «Ссыльные в Сибири» (1827). Не исключено, что композиторы были знакомы.
Опубликованные в «Москвитянине» фрагменты поэмы Д. Ю. Струй-ского могли привлечь внимание его современников и поэтов последующего времени, в какой-то мере содейст- вовать звучанию дантовской «струны» в русской литературе. Так, мы находим интересную образную перекличку с предшественником («Дант на границе своей родины») в лирике Н. А. Заболоцкого («У гробницы Данте», 1958 г.): «Мне мачехой Флоренция была…». Последний, кстати говоря, известен в том числе как лирический интерпретатор живописного образа бабушки Д. Ю. Струйского – А. П. Струй-ской, изображенной на знаменитом портрете кисти Ф. С. Роко-това: «Ты помнишь, как из тьмы былого, / Едва закутана в атлас, / С портрета Рокотова снова / Смотрела Струйская на нас?» («Портрет», 1953 г.).
Таким образом, Д. Ю. Струйский побывал на родине Данте, и его поэтические размышления о судьбе автора «Божественной комедии» подпитывались реальными впечатлениями от увиденного и прочувствованного в Италии. Остается сожалеть, что текст поэмы «Дант» не дошел до нас в целостном виде, поскольку это дополнило бы представление о рецепции творчества Данте в России [2; 21].
СПÈСÎÊ ÈСПÎËЬЗÎВÀÍÍЫХ ÈСТÎЧÍÈÊÎВ
-
1. Бернандт, Г. Б. Статьи и очерки / Г. Б. Бернандт. – Москва : Сов. композитор, 1978. – 418 с.
-
2. Бэлза, С. И. Образ Данте у русских поэтов / С. И. Бэлза // Дантовские чтения : 1968. – Москва : Наука, 1968. – С. 169–186.
-
3. Васильев, Н. Л. Струйский Дмитрий Юрьевич / Н. Л. Васильев // Русские писатели : ХIХ век : биобиблиогр. слов. : в 2 ч. – Мосва : Просвещение, 1996. – Ч. 2. – С. 276–278.
-
4. Васильев, Н. Л. Пушкин и Полежаев : «заговор молчания» или...? (К истории взаимоотношений) / Н. Л. Васильев // Поэзия А. И. Полежаева. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 1989. – С. 40–69.
-
5. Васильев, Н. Л. «Первая ночь брака» : (Опыт историко-литературного комментария) / Н. Л. Васильев // Вопросы онтологической поэтики : Потаенная литература. – Иваново, 1998. – С. 221–236.
-
6. Васильев, Н. Л. «Ты достойный прапрадедов сын!» (А. И. Полежаев и Н. Е. Струйский) / Н. Л. Васильев // Филологические науки. – 2001. – № 2. – С. 104–108.
-
7. Васильев, Н. Л. Г. Р. Державин и Н. Е. Струйский : (Об одном из возможных источников предсмертного стихотворения Державина) / Н. Л. Васильев // Известия РАН (Серия литературы и языка). – 2002. – № 2. – С. 44–50.
-
8. Васильев, Н. Л. Жизнь и деяния Николая Струйского, российского дворянина, поэта и верноподданного / Н. Л. Васильев. – Саранск : Мордов. книжн. изд-во, 2003. – 192 с.
-
9. Васильев, Н. Л. А. С. Пушкин и Струйские: три луны русской поэзии в творческом сознании классика / Н. Л. Васильев // Болдинские чтения. – Нижний Новгород : Тип. Вектор ТиС, 2004. – С. 127–135.
-
10. Васильев, Н. Л. А. С. Пушкин и А. И. Полежаев : диалог судеб и творчества / Н. Л. Васильев // Пушкин и мировая культура : материалы VIII Междунар. науч. конф. – Санкт-Петербург ; Арзамас ; Большое Болдино : Изд-во АГПИ, 2008. – С. 150–164.
-
11. Васильев, Н. Л. Д. Ю. Струйский (Трилунный) : Биография, творчество, библиография / Н. Л. Васильев. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2010. – 284 с.
-
12. Васильев, Н. Л. Издания Н. Е. Струйского в Библиотеке Академии наук / Н. Л. Васильев // Гуманитарные науки и образование. – 2010. – № 3. – С. 59–63.
-
13. Васильев, Н. Л. К биографии поэта, критика, композитора Д. Ю. Струйского (Трилунного) / Н. Л. Васильев // Гуманитарные науки и образование. – 2011. – № 3. – С. 65–69.
-
14. Васильев, Н. Л. Композиторская деятельность Д. Ю. Струйского / Н. Л. Васильев // Вестник Мордов. ун-та. – 2011. – № 1. – С. 89–96.
-
15. Васильев, Н. Л. Д. Ю. Струйский (Трилунный) : Биография, творчество, библиография / Н. Л. Васильев. – 2-е изд., исправ. и доп. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 330 с.
-
16. Васильев, Н. Л. О Пушкине : язык классика, поэтика романа «Евгений Онегин», писатель и его современники / Н. Л. Васильев. – Саранск : Тип. «Красный Октябрь», 2013. – 388 с.
-
17. Васильев, Н. Л. «Слово о полку Игореве» в поэтическом переложении Д. Ю. Струйского / Н. Л. Васильев // Центр и периферия. – 2014. – № 4. – С. 21–27.
-
18. Васильев, Н. Л. Творческие связи Д. Ю. Струйского и М. И. Глинки / Н. Л. Васильев // Гуманитарные науки и образование. – 2014. – № 1. – С. 114–117.
-
19. Вяземский, П. А. Эстетика и литературная критика / П. А. Вяземский. – Москва : Искусство, 1984. – С. 89–90.
-
20. Жирмунский, В. М. Байрон и Пушкин : Пушкин и западные литературы / В. М. Жирмунский. – Ленинград : Наука, 1978. – 423 с.
-
21. Илюшин, А. А. Страницы русской дантеаны / А. А. Илюшин // Данте Алигьери : Божественная комедия. – Москва : Просвещение, 1988. – С. 235–265.
-
22. Илюшин, А. А. Шевырев Степан Петрович / А. А. Илюшин // Русские писатели : XIX век : биобиблиогр. слов. : в 2 ч. – Москва : Просвещение, 1996. – Ч. 2. – С. 410–412.
-
23. Киселев-Сергенин, В. С. Трилунный (Д. Ю. Струйский) / В. С. Киселев-Сергенин // Поэты 1820–1930-х гг. : в 2 т. – Ленинград : Сов. писатель, 1972. – Т. 2. – С. 226–230.
-
24. Маслов, В. И. Начальный период байронизма в России : (Критико-библиографический очерк) / В. И. Маслов. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1915. – 132 с.
-
25. ОР РНБ. Ф. 539 (В. Ф. Одоевский). Оп. 2. № 1033.
-
26. Полежаев, А. И. Сочинения / А. И. Полежаев. – Москва : Худож. лит., 1988. – 511 с.
-
27. Ратников, К. В . Данте в творчестве С. П. Шевырева / К. В. Ратников // Дантовские чтения : 2004. – Москва : Наука, 2005. – С. 69– 94.
-
28. Струйский, Д. Ю. Отрывки из путевых записок по Италии и Германии и замечания о последней выставке С.-Петербургской академии художеств / Д. Ю. Струйский // Лит. прибавления к «Русскому инвалиду». – 1837. – № 7. – С. 65–67 ; № 8. – С. 73–75.
-
29. Струйский, Д. Ю. <Стихи> / Д. Ю. Струйский // Москвитянин. – 1845. – № 5/6. – С. 87–90.
Поступила 13.03.2015 г.
Об авторе :
Submitted 13.03.2015
About the author :
Список литературы Данте и Италия в творчестве Д. Ю. Струйского
- Бернандт, Г. Б. Статьи и очерки/Г. Б. Бернандт. -Москва: Сов. композитор, 1978. -418 с.
- Бэлза, С. И. Образ Данте у русских поэтов/С. И. Бэлза//Дантовские чтения: 1968. -Москва: Наука, 1968. -С. 169-186.
- Васильев, Н. Л. Струйский Дмитрий Юрьевич/Н. Л. Васильев//Русские писатели: ХIХ век: биобиблиогр. слов.: в 2 ч. -Мосва: Просвещение, 1996. -Ч. 2. -С. 276-278.
- Васильев, Н. Л. Пушкин и Полежаев: «заговор молчания» или..? (К истории взаимоотношений)/Н. Л. Васильев//Поэзия А. И. Полежаева. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1989. -С. 40-69.
- Васильев, Н. Л. «Первая ночь брака»: (Опыт историко-литературного комментария)/Н. Л. Васильев//Вопросы онтологической поэтики: Потаенная литература. -Иваново, 1998. -С. 221-236.
- Васильев, Н. Л. «Ты достойный прапрадедов сын!» (А. И. Полежаев и Н. Е. Струйский)/Н. Л. Васильев//Филологические науки. -2001. -№ 2. -С. 104-108.
- Васильев, Н. Л. Г. Р. Державин и Н. Е. Струйский: (Об одном из возможных источников предсмертного стихотворения Державина)/Н. Л. Васильев//Известия РАН (Серия литературы и языка). -2002. -№ 2. -С. 44-50.
- Васильев, Н. Л. Жизнь и деяния Николая Струйского, российского дворянина, поэта и верноподданного/Н. Л. Васильев. -Саранск: Мордов. книжн. изд-во, 2003. -192 с.
- Васильев, Н. Л. А. С. Пушкин и Струйские: три луны русской поэзии в творческом сознании классика/Н. Л. Васильев//Болдинские чтения. -Нижний Новгород: Тип. Вектор ТиС, 2004. -С. 127-135.
- Васильев, Н. Л. А. С. Пушкин и А. И. Полежаев: диалог судеб и творчества/Н. Л. Васильев//Пушкин и мировая культура: материалы VIII Междунар. науч. конф. -Санкт-Петербург; Арзамас; Большое Болдино: Изд-во АГПИ, 2008. -С. 150-164.
- Васильев, Н. Л. Д. Ю. Струйский (Трилунный): Биография, творчество, библиография/Н. Л. Васильев. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2010. -284 с.
- Васильев, Н. Л. Издания Н. Е. Струйского в Библиотеке Академии наук/Н. Л. Васильев//Гуманитарные науки и образование. -2010. -№ 3. -С. 59-63.
- Васильев, Н. Л. К биографии поэта, критика, композитора Д. Ю. Струйского (Трилунного)/Н. Л. Васильев//Гуманитарные науки и образование. -2011. -№ 3. -С. 65-69.
- Васильев, Н. Л. Композиторская деятельность Д. Ю. Струйского/Н. Л. Васильев//Вестник Мордов. ун-та. -2011. -№ 1. -С. 89-96.
- Васильев, Н. Л. Д. Ю. Струйский (Трилунный): Биография, творчество, библиография/Н. Л.Васильев. -2-е изд., исправ. и доп. -Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. -330 с.
- Васильев, Н. Л. О Пушкине: язык классика, поэтика романа «Евгений Онегин», писатель и его современники/Н. Л. Васильев. -Саранск: Тип. «Красный Октябрь», 2013. -388 с.
- Васильев, Н. Л. «Слово о полку Игореве» в поэтическом переложении Д. Ю. Струйского/Н. Л. Васильев//Центр и периферия. -2014. -№ 4. -С. 21-27.
- Васильев, Н. Л. Творческие связи Д. Ю. Струйского и М. И. Глинки/Н. Л. Васильев//Гуманитарные науки и образование. -2014. -№ 1. -С. 114-117.
- Вяземский, П. А. Эстетика и литературная критика/П. А. Вяземский. -Москва: Искусство, 1984. -С. 89-90.
- Жирмунский, В. М. Байрон и Пушкин: Пушкин и западные литературы/В. М. Жирмунский. -Ленинград: Наука, 1978. -423 с.
- Илюшин, А. А. Страницы русской дантеаны/А. А. Илюшин//Данте Алигьери: Божественная комедия. -Москва: Просвещение, 1988. -С. 235-265.
- Илюшин, А. А. Шевырев Степан Петрович/А. А. Илюшин//Русские писатели: XIX век: биобиблиогр. слов.: в 2 ч. -Москва: Просвещение, 1996. -Ч. 2. -С. 410-412.
- Киселев-Сергенин, В. С. Трилунный (Д. Ю. Струйский)/В. С. Киселев-Сергенин//Поэты 1820-1930-х гг.: в 2 т. -Ленинград: Сов. писатель, 1972. -Т. 2. -С. 226-230.
- Маслов, В. И. Начальный период байронизма в России: (Критико-библиографический очерк)/В. И. Маслов. -Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1915. -132 с.
- ОР РНБ. Ф. 539 (В. Ф. Одоевский). Оп. 2. № 1033.
- Полежаев, А. И. Сочинения/А. И. Полежаев. -Москва: Худож. лит., 1988. -511 с.
- Ратников, К. В. Данте в творчестве С. П. Шевырева/К. В. Ратников//Дантовские чтения: 2004. -Москва: Наука, 2005. -С. 69-94.
- Струйский, Д. Ю. Отрывки из путевых записок по Италии и Германии и замечания о последней выставке С.-Петербургской академии художеств/Д. Ю. Струйский//Лит. прибавления к «Русскому инвалиду». -1837. -№ 7. -С. 65-67; № 8. -С. 73-75.
- Струйский, Д. Ю. /Д. Ю. Струйский//Москвитянин. -1845. -№ 5/6. -С. 87-90.