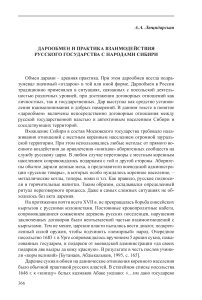Дарообмен и практика взаимодействия русского государства с народами Сибири
Автор: Люцидарская А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521891
IDR: 14521891
Текст статьи Дарообмен и практика взаимодействия русского государства с народами Сибири
Обмен дарами - древняя практика. При этом дарообмен всегда подразумевал значимый «отдарок» в той или иной форме. Дарообмен в России традиционно применялся в ситуациях, связанных с посольской деятельностью различных уровней, при достижении договорных отношений как личностных, так и государственных. Дар выступал как средство установления взаимопонимания и добрых намерений. В данном тексте в понятие «дарообмен» включены непосредственно договорные отношения между русской государственной властью и автохтонным населением Сибири и соседствующих территорий.
Вхождение Сибири в состав Московского государства требовало налаживания отношений с местным коренным населением огромной зауральской территории. При этом использовались любые методы: от прямого военного воздействия до привлечения «князцов» аборигенных сообществ на службу русскому царю. В любом случае переговоры с местным коренным населением сопровождались подарками с той и другой стороны. Аборигены обычно дарили ценные меха, а представители воеводской администрации «русские товары», в которых особо нуждалось коренное население, – металлические котлы, топоры, ножи и т.п. Как правило, русские подносили и горячительные напитки. Таким образом, складывался определенный ритуал переговорного процесса. Даже в самых сложных ситуациях не обходилось без акта дарения.
На протяжении почти всего XVII в. не прекращалась борьба енисейских кыргызов с русскими колонистами. Постоянные кровопролитные набеги, сопровождавшиеся сожжением деревень русских поселенцев, нарушения заключенных договоров были неотъемлемой частью взаимоотношений с кыргызами. Тем не менее, царские власти пытались вести диалог, подкрепленный силой оружия, чтобы подчинить «немирный» народ. Очередное посольство 1683 г. в Урге сопровождалось вручением 5 аршин сукна, пожалованных государем, и подарков от воеводской администрации «да своих подарков две выдры да кожу красную». В результате в честь послов учинили «корм великий» [Бутанаев, Абдыкалыков, 1995, с. 165].
Дарение сукна в обмен на даннические отношения коренного населения было обычной практикой русских властей. В статейном списке посольства 1646 г. к «князцу» белых калмаков Абаке указано: «…им дано государево жалованья сукна за шерть». Шертную запись давали «князцы» и «лучшие улусные люди». В результате «князец» Кутугей получил 3 аршина настро-фильного сукна. Шесть представителей местной знати тоже получили разного сорта сукна. Документ объясняет суть щедрых подарков: «…после шерти, раздав государево жалованье и вино и мед арчаком, говорил, чтоб они, арчаки для ведома, что они государю шерть дали, послов своих послали в Томской…» [Русско-монгольские отношения…, 1974, с. 285–287]. Договоры, подразумевающие установление мирных даннических отношений, часто нарушались. Но русские власти настоятельно продолжали свою политику, используя уговоры, угрозы, посулы и, конечно же, подарки. В данном контексте речь шла о потестарных родоплеменных объединениях, населявших Сибирь и близлежащие территории.
В юго-восточных регионах Сибири, постоянно поддерживавших дипломатические отношения с бурятами (братскими людьми) и монголами, переговоры подкреплялись актами дарения. В 1648 г. роспись подарков царю Алексею Михайловичу состояла из описания серебряной чаши, серебряной стопы и различных восточных тканей [Сборник документов…, 1960, с. 142]. Материально значимые подарки обычно делали инициаторы встреч, а принимавшая сторона зачастую ограничивалась богатым угощением и организацией должного приема.
Территориальные споры и военные стычки длительное время сопровождал переход объединений братских людей в русское подданство, т.к. этому процессу препятствовали монгольские правители, не желавшие терять своих кыштымов . Тактика лавирования и постоянные переговорные процессы между Россией и Монгольским ханством, а также между Россией и бурятскими «князцами», принимавшими подданство русского царя, сопровождались неизменными актами дарения.
Переговоров с представителями соседствующих с Сибирью сложившихся государств происходили, как правило, в торжественной обстановке, с соблюдением установленного ритуала, который включал обмен подарками. Если обсуждались вопросы, связанные с территориальными претензиями или иными негативными моментами, обмен дарами также присутствовал. В непростых переговорах 1684 г. с посланниками из Монгольского ханства диалог в Иркутске закончился следующим образом: выступая как представитель царской власти письменный голова Леонтий Кислян-ский неоднозначно заключил, что «буде де ваши мугальские люди станут впредь ездить мимо Тункинского не объявяся приказному человеку или не дождався провожатых или иными дорогами станут приезжать, а объявятца в их великих государей отчине в ясашных улусах велю имать и садить в тюрьму до их великих государей указу». В результате этой встречи посланцы вручили от имени своего правителя ткань («камчишку соломянку»), а сказали «послана де та камка от их мугальского Очирой Саин гана в Ыр-куцкой к ноену в подарки». Письменной голова принял подаренную ткань и велел «подчивать их вином горячим и сбитнем и пивом енисейскому сыну боярскому Остафью Иванову сыну Перфирьеву по серебряной чарке вина горячего, по стекляному стокану збитня, по серебряному стокану пива» [Сборник документов…, 1960]. Обмен подарками в данном случае можно рассматривать как чисто символический жест непреложных дипломатических правил. Отклонение от установленного дипломатического ритуала (в частности от обмена подарками) расценивалось как серьезное обострение отношений вплоть до возобновления военных действий.
Практика обмена дарами во время посольских встреч рассматривалась как дань уважения к оппоненту. Ответный дар мог состоять из угощения алкогольными напитками, обеспечения пищей на время пребывания послов и «корма» на обратный путь. Так, монгольские послы получили в дорогу вино, пиво, мясо, хлеб, калач, рыбу и тайменя «весом в пуд». Организации дипломатических переговоров придавалось большое значение и тщательно отслеживалось документально в многочисленных отписках местным и московским властям.
В архивных материалах сохранилась отписка иркутского письменного головы томскому воеводе о посланных из Енисейска в Селенгинск подарках для раздачи мунгальским тайшам, чтобы те не препятствовали крещению жителей своего улуса. Тайши получили «добрые сукна желтого, серого, брусничного и алого цветов». За принятие православия людям было предназначено: «…за крещение иноземцом рядовым шесть половинок сукон шиптуги в том числе красные да зеленых по две половинки ж… да сосудов стеклянных для роздачи ж мунгальским законником или кому доведетца…» [Сборник документов…, 1960, с. 282–283]. Подобные подношения считались подарком за службу и крещение. Русские власти мало обращали внимание на искренность перемены веры, крещение «за сапоги и сукна» было обыденным явлением в сибирской действительности. С самого начала колонизационного процесса тактика привлечения коренного населения «под высокую царскую руку» не претерпевала существенных изменений. В грамоте 1603 г. приводятся сведения о том, как «крестился на Верхотурье, Верхотурского уезда Часовские вагуличи… да тагильский ва-гулятин… а нашего жалованья тем новокрещенам дано на Верхотурье для крещения по два сукна средних, да по рубашке, да по сапогам» [Гемуев, Люцидарская, 1994]. Таким образом, от приуральских территорий до восточных границ Сибири на протяжении длительного времени существовал принцип дарообмена между представителями царской власти и автохтонным населением – «русские товары в обмен на подданство и государеву службу».
В 1630-е гг. в Москве побывали представители угорского ясачного населения из Верхотурского уезда и Березова. Березовские «лучшие люди» удостоились «государевой руки на красном крыльце». Ясачные люди прибыли с ясачной казной, своими просьбами и подношениями. Верхотурские манси, например, поднесли 20 соболей от всего населения уезда. В столице ясачные люди получали полное обеспечение: деньги на пищу и питье с сытного двора (вино, пиво и мед). В качестве царских подарков «лучшие люди» своих волостей получили «по сукну доброму на человека» (РГАДА. СП. №172. Л. 12–19).
Подоплека подобных встреч «на высшим уровне» была достаточна проста, но она приносила необходимые результаты. Во время путешествия в Москву сибирские угры знакомились с масштабами государства и транслировали свои впечатления соотечественникам. «Ласковый» прием в Москве обеспечивал в дальнейшем сохранение мирных отношений с этими угорскими народами и своевременное поступление ясака. Для самих же угорских этносов поддержка царской власти способствовала прекращению междоусобных столкновений местных «князцов» и гарантировала товарообмен с русскими купцами. Товары из центральных областей России (изделия из металла, сукна и т.п.) становились все более необходимыми для народов севера Западной Сибири.
В сущности, все действия, связанные с дарообменом при заключении договоров или подразумевавшие договорные отношения, сводились к выражению уважения к оппонентам или являлись попыткой смягчить поставленные условия. В качестве «дара» с одной стороны подразумевалась защита многочисленных народов, населявших Сибири, от междоусобных конфликтов и открытый путь для торговли и использования промышленного потенциала России. Ответный «дар» подразумевал новые территории и природные ресурсы Сибири. В сибирской дипломатической деятельности дарообмен служил методом достижения компромиссов, ведших, в конечном счете, к мирному сосуществованию этносов.