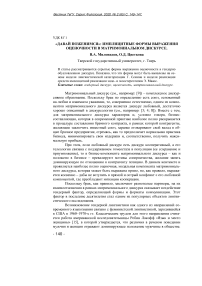"Давай поженимся": имплицитные формы выражения оценочности в матримониальном дискурсе
Автор: Миловидов Виктор Александрович, Цветкова Ольга Дмитриевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования текста и дискурса
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются скрытые формы выражения оценочности в гендерно обусловленном дискурсе. Показано, что эти формы могут быть выявлены на основе модели лингвистической категоризации Г. Семина и модели реализации средств имплицитной реализации эндо- и экзостереотипов Э. Маасс.
Гендерный дискурс, оценочность, матримониальный дискурс
Короткий адрес: https://sciup.org/146281671
IDR: 146281671 | УДК: 81'1
Текст научной статьи "Давай поженимся": имплицитные формы выражения оценочности в матримониальном дискурсе
Матримониальный дискурс (см., например: [9]) – комплексное дискурсивное образование. Поскольку брак по определению есть союз, основанный на любви и взаимном уважении, то, совершенно естественно, одним из компонентов матримониального дискурса является дискурс любовный, достаточно хорошо описанный в дискурсологии (см., например: [3; 4; 8]). Вместе с тем, для матримониального дискурса характерна и, условно говоря, бизнес-составляющая, которая в современной практике наиболее полно раскрывается в процедуре составления брачного контракта, в рамках которой контрагенты, желающие заключить известный союз, заранее оговаривают свой вклад в общее брачное предприятие, стремясь, как то предполагает нормальная практика бизнеса, минимизировать свои издержки и, соответственно, получить максимальную прибыль.
При этом, если любовный дискурс есть дискурс кооперативный, а его телеология связана с поддержанием гомеостаза в популяции (ее сохранение и приумножение), то в бизнес-компоненте матримониального дискурса – как и положено в бизнесе – превалируют мотивы соперничества, желание занять доминирующую по отношению к контрагенту позицию. В данном контексте и проявляется наиболее полно оценочная, модальная компонента матримониального дискурса, которая может быть выражена прямо, но, как правило, выражается косвенно – дабы не вступить в прямой и острый конфликт с его любовной компонентой, где преобладают интенции кооперации.
Поскольку брак, как правило, заключают разнополые партнеры, на их взаимоотношения в рамках матримониального дискурса оказывает воздействие гендерный фактор, определяющий формы и форматы коммуникации. Этот фактор в последние десятилетия стал одним из популярных объектов лингвистического исследования.
Возникновение гендерной лингвистики как одного из направлений современного языкознания связано с феминистской лингвистикой, зародившейся в США в 1960–1970-х гг. Классическим трудом для этого направления считается работа американской исследовательницы Робин Лакофф «Язык и место женщины» [15], в которой утверждается, что различия в речевом поведении мужчин и женщин отражают доминирующее положение мужчины в обществе.
В своей работе Лакофф выделяет ряд особенностей женской речи: например, риторические вопросы как проявление неуверенности, уклончивые выражения, отсутствие чувства юмора – по причине неумения хорошо шутить, и т.д.
Описание женского речевого поведения у Лакофф было подвергнуто критике в работе О’Барра и Аткинса «Язык женщин или язык не обладающих властью» [17]. Исследователи показали, что некоторые черты, присущие женской речи, согласно Лакофф, не являются показателями чисто женской речи. Согласно представленному исследованию свидетельских показаний в суде, эти черты присущи речи не обладающим властью представителям социума, что, кстати, не опровергает, а лишний раз подтверждает базовую идею Р. Лакофф.
Господствующая ныне в гендерной лингвистике модель доминирования подчеркивает, что отличия в стиле общения мужчин и женщин возникают по причине доминирования мужчин в обществе. Эта модель описывается в работах таких ученых, как Дейл Спендер [19], Дебора Кемерон [11; 12] и Памела Фишман [13; 14]. В своем выступлении «Мужчины с Земли, женщины с Земли» Дебора Кемерон утверждает, что «любые различия в речевом поведении мужчин и женщин не естественны, а связаны с культурой и политическим настроением» [12: 45]. В своей статье она подчеркивает, что «в межгендерной коммуникации женщины стараются уменьшить потенциальную угрозу путем подчинения, в то время как в моногендерном общении женщины выражают солидарность и согласие» [ibid.: 48]. Кемерон считает, что стиль общения мужчин имеет соревновательный характер, в то время как у женщин – сотруднический.
Очень часто новые идеи в науке – это хорошо забытые старые. О том, что язык как объективно существующее общественное явление бесстрастно отражает сложившееся на протяжении многих веков «гендерное неравенство», одним из первых в лингвистике говорил Бодуэн де Куртене: «Это проявляющееся в языке мировоззрение, рассматривая мужской элемент как первичный, женский – как производный, противоречит логике и чувству справедливости» [2: 37]. Приведенное высказывание выдающегося лингвиста рассматривается сторонниками феминистской лингвистики как методологическое обоснование необходимости поиска и исправления «языковых несправедливостей».
Русскую традицию в гендерной лингвистике продолжает и выводит на новый уровень в конце 1990-х годов А.В. Кирилина, которая выдвинула некоторые общетеоретические вопросы феминистической лингвистики и была одной из первых, кто поднял вопрос о разграничении феминистского и научного подходов к изучению гендера [6]. Она предложила модель, состоящую из общечеловеческого и гендерного уровней. Вместо термина «гендер», не имеющего соответствующего эквивалента в русском языке, А.В. Кирилина предлагает «социальный пол» [7: 11].
Также значительный вклад в гендерную лингвистику внесли такие исследователи, как В.Н. Телия, И.И. Халеева, М.Д. Городникова, И.Г. Ольшанский и другие исследователи.
Гендерно обусловленная оценочность, как мы полагаем, и является одним из средств снятия языковых и прочих «несправедливостей» – там, где условия коммуникации предполагают реализацию (как явную, так и скрытую) гендерно-ориентированных позиций, а также их столкновение. Ситуации, мо- билизующие гендерный потенциал участников дискурсивного взаимодействия, чаще всего и возникают в матримониальном дискурсе.
Поскольку дискурс есть «речь, погруженная в жизнь» [1: 136], а жизнь есть, преимущественно, коммуникация, важно определить и достаточно подробно описать коммуникативные роли участников матримониального дискурса. Помимо непосредственных субъектов брачных отношений, жениха и невесты, непременными участниками дискурса являются родственники и – в традиционных формах – сваха. Последней (последним) субъекты брачных отношений, как правило, делегируют свои полномочия в рамках бизнес-составляющей матримониального дискурса.
Именно здесь наиболее явно реализуется оценочная компонента матримониального дискурса, которая – в традиционно ориентированных культурах, к которым относится русская – связана с необходимостью обеспечить, прежде всего, невесте, достаточную степень безопасности и комфорта в браке – особенно тогда, когда сваха выступает, прежде всего, представительницей её интересов и оценивает состояние и состоятельность претендентов на руку, сердце и имущество невесты.
Поскольку, как мы показали выше, прямая оценочность в рамках матримониального дискурса разрушительна для самого дискурса, огромную роль начинает играть оценочность скрытая, имплицируемая. В лингвистике наработаны принципы и методы анализа такого рода оценочности.
К ним можно отнести достаточно популярную в мировой психо- и социолингвистике модель лингвистической категоризации Гюна Р. Семина и Клауса Филдера, а также модель средств имплицитной реализации эндо- и экзостереотипов Энн Маасс, Дэниэлы Салви, Лучиано Арчури и Гюна Семина.
Суть первой сводится к следующим положениям. Исходя из того, что о любом факте или действии можно, при сохранении неизменного пропозиционального содержания, говорить и писать по-разному, что не окажет влияние на семантику пропозиции, Семин и Филдер полагают, что степень конкретности или, наоборот, абстрактности лексических средств, используемых в описании факта или действия, напрямую обусловливает то, насколько контекстуальносвязанным или, наоборот, обобщенно-независимым предстанет этот факт или это событие в восприятии читателя (слушателя).
Данных уровней абстракции – четыре, и, по степени нарастания обобщенности, эти уровни реализуют свои семантические потенции с помощью:
-
- описательных глаголов действия ( Descriptive-action verbs ), описывающих единичный, наблюдаемый факт или событие и сохраняющих наблюдаемые черты последнего, например: Джон ударил Дэвида кулаком ;
-
- интерпретирующих глаголов действия ( Interpretive-action verbs ), которые также описывают действия, но относятся к более широкому классу форм поведения и не несут в себе перцептуальных характеристик, например: Джон причинил Дэвиду боль ;
-
- глаголов состояния ( State verbs ), описывающих эмоциональное состояние и не относящихся к конкретному событию, например: Джон ненавидит Дэвида ;
-
- прилагательных, которые имеют отношение к классу событий и характеризуют субъект действия ( Джон агрессивен ); члены данного класса де - 142 -
- монстрируют минимальную зависимость от контекста и, соответственно, предельную обобщенность в описании факта или события [18: 16].
К последнему классу мы бы, дополняя классификацию Семина и Филдера, отнесли и иные адъективные в своей семантике предикаты, выполняющие сходные функции категоризации, например – конструкции с неличными формами глагола, существительными, причастными оборотами и так далее.
При этом, чем более абстрактными являются средства категоризации, тем более ожидаемыми будут действия, свойства и качества субъекта, чьи поступки или состояния описываются данными средствами.
Модель лингвистической категоризации, шкалируя лексические средства на основе оппозиции конкретное-абстрактное, может быть отличным инструментом описания оценочности – как это показали в своих работах Энн Маасс, Дэниэла Салви, Лучиано Арчури и Гюн Семин. Ими было найдено соответствие между уровнем лингвистической абстракции и интенсивностью оценки, причем, в ситуации межгруппового общения, на которое влияние оказывают межгрупповые стереотипы (так называемый LIB, the linguistic intergroup bias, средства имплицитной реализации эндо- и экзостереотипов).
Так, ими было показано, что позитивно оцениваемое внутригрупповое поведение (как и негативно оцениваемое поведение члена «чужой» группы) описывается с использованием лексических средств более высокого уровня абстракции, чем – наоборот – негативно оцениваемое поведение члена «своей» группы и позитивно оцениваемое внегрупповое поведение («член моей группы умен», «член чужой группы глуп», но – «член моей группы дал неверный ответ на вопрос» и «член чужой группы дал правильный ответ на вопрос» [16: 981].
Данные модели вполне могут быть экстраполированы на ситуации выражения срытой оценочности в матримониальном дискурсе, где, как мы показали выше, прямая оценка невозможна, а скрытая мотивирована необходимостью максимально обеспечить безопасность одной из сторон (в традиционной, патриархальной культуре – женщины). Источником этой оценки, тем агентом матримониального дискурса, который формирует и выражает эту оценку, является сваха (или её функциональный аналог в лице родителей, родственников или опекунов невесты).
По вполне понятным причинам исследователь (если только он не анализирует данный дискурс в режиме интроспекции, будучи его непосредственным участником) лишен возможности быть свидетелем реальных фрагментов такого дискурса, но художественная литература, а также современная медийная среда предоставляет возможность анализировать различные квази-формы матримониального дискурса.
Образ свахи – один из проходных образов русской литературы позапрошлого века – достаточно вспомнить сваху из трилогии А.Н. Островского о Бальзаминове или Феклу из «Женитьбы» Н.В. Гоголя. В последней пьесе сваха как раз и пользуется имплицитными средствами оценки, рассказывая своей доверительнице, Агафье Тихоновне, о претендующих на её руку и сердце женихах. При этом следует учесть, так сказать, двойную интенциональность оценок, даваемых Феклой. Как профессиональная сваха, рассчитывающая на получения гонорара, она в любом случае хочет сосватать Агафье Тихоновне жениха (даже если он не относится к «самолучшим»), но, с другой стороны, бу дучи доверенным лицом невесты, она, конечно же, озабочена и её последующим благополучием.
Поэтому положительные качества того или иного жениха описываются Феклой на высшем уровне абстракции:
Фекла: Первый Балтазар Балтазарович Жевакин, такой славный…
Фекла: Акинф Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник, не множко заикается только, зато уж такой скромный... зато такой тихий, как шелк
Обратим внимание: адъективные конструкции, которые Феклой используются для положительной характеристики женихов, в последнем случае контрастируют с глаголом действия заикается в форме несовершенного вида, предполагающем регулярность, повторяемость действия. Впрочем, заикание – не столь большой недостаток, если сравнить его с пьянством:
Агафья Тихоновна: Ну нет, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница.
Но и этот недостаток, гораздо более существенный для жениха, сваха минимизирует за счет выхода в своей оценке Акинфа Степановича Пантелеева на низший уровень системы средств лингвистической абстракции, превращая пагубную привычку чиновника в дискретную цепь единичных случаев, за которыми не просматривается закономерность:
Фекла. Твоя воля, мать моя!... Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее , – ведь не всю же неделю бывает пьян: иной день выберется и трез вый.
Те же самые механизмы используются Феклой и тогда, когда она оценивает далеко не блестящее материальное положение претендентов на руку своей доверительницы. Так, про отставного морского лейтенанта Жевакина она не говорит прямо, что он беден. Обобщающая характеристика, выражаемая, в соответствии с нормами модели лингвистической абстракции адъективно, вытесняется средствами, обращенными к конкретным, единичным фактам:
Фекла: … Только не погневайся: уж на квартире одна только трубка и стоит, больше ничего нет – никакой мебели.
Сваха Фекла у Гоголя – лицо заинтересованное, а потому на выражение ею имплицитных оценок женихам оказывает воздействие двойная интенциональность её дискурса. Там же, где сваха не зависит материально от невесты или жениха, оценочность выступает в более чистом виде. Правда, здесь мы можем говорить не столько о матримониальном, сколько о квази-матримониальном дискурсе.
К такого рода формам относится, мы смеем предположить, весьма популярная у современного массового телезрителя программа «Давай поженимся», о популярности которой говорят те факты, что передача идет ежедневно, в середине дня, со значительным по объему рекламным компонентом, а всего с 2008 года вышло более двух тысяч передач программы). Ведущая программы – известная по фильму Э. Рязанова «Жестокий романс» актриса Л. Гузеева, которой помогают астролог В. Володина и «профессиональная сваха» Р. Сябито-ва. Поскольку модерируют матримониальный дискурс женщины, то, есте- ственно, в оценке возможных жениха и невесты (квази-жениха и квазиневесты) как раз и реализуются явные и скрытые формы гендерно ориентированной оценочности – тем более, что, в отличие от ситуаций реального сватовства, теле-свахи не связаны необходимостью добиться выгодной для доверительницы (или доверителя) партии в целях получения гонорара – гонорар здесь платят другие люди и за другие достижения. В силу этого ведущая и сваха (в меньшей степени астролог, поскольку в своих оценках та связана расположением звезд, которое, как известно, гендерно нейтрально) тяготеют к негативной оценке мужчин – даже в том случае, если сами мужчины кажутся невестам вполне достойными претендентами. В этой ситуации негативная оценочность реализуется исключительно за счет эксплуатации потенциала модели лингвистической категоризации и, соответственно, средств имплицитной реализации эндо- и экзостереотипов.
Так, в выпуске передачи от 27.03.2020 [URL] сваха, справедливо полагая, что возможный жених приглянулся невесте (Ведущая: А он вам понравился? Здоровый, молодой… Невеста: Да, да… Какая-то надежность от него чувствуется), в целом, придерживается положительной оценки жениха, но переводит эту оценку с уровня, где позитивная оценочность реализуется через адъективные конструкции, на уровень, где средством оценки является глагол действия (с последующим отказом от позитивной оценки в сторону оценки негативной, причем, выраженной инфинитивной конструкцией, обозначающей, как известно, не единичное действие, а действие типовое):
Сваха: То, что они дите зажгут – это я нисколько не сомневаюсь. А вот то, что они как это всё разгребать потом будут – вот это меня сомнения берут.
В той же передаче ведущая, не желая разрушать благоприятное впечатление, которое очередной жених произвел на невесту (сваха указала на «романтический» характер жениха), высказала сомнения о перспективах финансового благополучия будущей семьи, но реализовала их не эксплицитно, но через каскад глаголов действия, указывающих на единичность и даже случайность матриальных бонусов для невесты.
Ведущая: Сочинский наперсточник… С Серегой было бы клево, в Сочи… де нег нет, сходил на пляж – кручу-верчу, пришел с баблом, понимаешь… Без куска хлеба не останетесь …
Глаголы действия – при позитивной денотативной семантике (сходил… пришел… не останетесь…) реализуют негативную коннотацию, отрицательную оценочность – исключительно за счет того, что описывают единичное действие, не предполагающее, что подобное (сходил… пришел… не останетесь…) повторится, и что рассчитывать на то, что сочинский романтик-наперсточник станет надеждой и опорой для девушки, ищущей спутника жизни, не приходится.
Модель лингвистической категоризции и модель средств имплицитной реализации эндо- и экзостереотипов может быть обращена и к иным типам гендерно-ориентированного дискурса – дискурса СМИ, медицинского дискурса, литературно-художественного дискурса (где также явно и, главное, неявно присутствуют формы «мужского» и «женского» письма и, соответственно, реализуются феминные и маскулинные ценности и, соответственно, выражаются оценки), иных форм речепроизводства. Во всех этих типах дискурса, как предполагают авторы, данные модели могут стать средством анализа и, соответственно, преодоления тех языковых и прочих «несправедливостей» о которых писали классики отечественной лингвистики.
Список литературы "Давай поженимся": имплицитные формы выражения оценочности в матримониальном дискурсе
- Арутюнова Н.Д. Дискурс // ЛЭС. М.: Советская энциклопедия, 1990. C. 136-137. С. 136.
- Бодуэн де Куртенэ И.А. Общее языкознание. Избранные труды. М.: Юрайт, 2017. 344 с.
- Васильев Л.Г., Котелевская Э.И. Любовный дискурс и топология // Вестник Удмурдского университета. Том 25. Вып. 2 Лингвистика. 2015. С. 9-14.
- Велюго О.А. Дискурс любви или любовный дискурс? Комментарий к терминологическому аппарату // Весник БДУ. Серыя 4. Фшалопя. № 1. Журналютыка. Педа-гопка. Минск: Белорусский гос. университет. 2016. С. 8-12.
- "Давай поженимся" [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=IodyqcOrbrY (дата обращения 01.04.2020)
- Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Ин-т социологии РАН, 1999. 189 с.
- Кирилина А.В. Гендерные исследования в отечественной лингвистике: проблемы, связанные с бурным развитием // Гендер: язык, культура, коммуникация: материалы Второй Международной конференции, 22-23 ноября 2001 г. Москва. М., 2002. С. 5-14.
- Котелевская Э.И. Монологический аспект любовного дискурса: опыт содержательного анализа. 10.02.19 - теория языка Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Тверь: Тверской гос. университет. 2016. 21 с.
- Осовская И.Н. Концептосистема немецкого матримониального дискурса // Инновации в науке. Новосибирск: Ассоциация научных сотрудников "Сибирская академическая книга", 2015. С. 89-99.
- Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 141 с.
- Cameron D. Feminism and Linguistic Theory. London: Macmillan Press, 1992. 247 p.
- Cameron D. The Myths of Mars and Venus. Oxford: OUP, 2007. 196 p.
- Fishman P. Interaction: the Work Women Do // Social problems, 1978. P. 397-406
- Fishman P.M. Conversation Insecurity // Language: Social Psychological Perspective. Oxford: Pergamon Press, 1980. P. 127-132.
- Lakoff R.T. Language and Women's Place. New York: Harper and Row, 1975. 83 p.
- Maass, A., Salvi, D., Arcuri, L., & Semin, G. R. Language use in intergroup contexts: The linguistic intergroup bias // Journal of Personality and Social Psychology, 1989, Vol. 57, № 6, P. 981-993.
- O'Barr W., Atkins B. Women's Language or Powerless Language? // A Reader for Writers. New York: Oxford University Press, 1980. P. 401-407.
- Semin Gun R. Stereotypes in the Wild // Stereotypes Dynamics. Language-Based Approaches to the Formation, Maintenance and Transformation of Stereotypes. Ed. Yoshi-hisa Kashima, Klaus Fiedler, Peter Freytag. NY, London: Lawrence Erlbaum Associates. 2008. pp. 11-28.
- Spender D. Man Made Language. New York: Pandora Books, 1981. 272 p.