De anima: предмет психологии и границы его постижения
Автор: Мазилов Владимир Александрович
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 6, 2019 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается проблема предмета психологии. Показано, что концепт «душа» хотя и способствовал становлению психологии как самостоятельной области знания, но в конечном счете перестал играть конструктивную роль. Расплывчатость, неопределенность этого понятия привели к элиминации собственно психического из поля зрения исследователей и подмене его отдельными психическими функциями и явлениями либо к сведению к физиологическим процессам. Раскрыты требования к функциям и характеристикам предмета науки, необходимые для создания философско-методологических предпосылок развития соответствующей области знаний. Обосновано, что применительно к психологии этим функциям и характеристикам отвечает понимание ее предмета как мира внутренней жизни человека. Очерчены преимущества и перспективные аспекты использования этого концепта, затронуты вопросы специфики психологии как научной области, где необходимо применение инструментов познания, характерных как для гуманитарных, так и для естественных наук.
Психология, наука, предмет науки, методология, теоретический анализ, функции предмета науки, характеристики предмета, объяснение
Короткий адрес: https://sciup.org/148321251
IDR: 148321251 | УДК: 378.4 | DOI: 10.25586/RNU.HET.19.06.P.70
Текст научной статьи De anima: предмет психологии и границы его постижения
совсем иной научной области; оно похищено так основательно, что, когда теперь размышляешь о природе души, о мире внутренней реальности человеческой жизни как таковой, то занимаешься делом, которому суждено оставаться безымянным или для которого надо придумать какое-нибудь новое обозначение. И даже если примириться с новейшим, искаженным смыслом этого слова, нужно признать, что, по крайней мере, три четверти так называемой эмпирической психологии и еще большая часть так называемой „экспериментальной” психологии есть не чистая психология, а либо психофизика и психофизиология, либо же – что точнее уяснится ниже – исследование явлений хотя и не физических, но вместе с тем и не психических» [15, с. 423].
Кстати сказать, соавтор Франка по схеме изучения личности, замечательный русский психолог А.Ф. Лазурский написал очень хороший учебник психологии, в котором, естественно, было упоминание о душе. Можно в качестве иллюстрации к рассматриваемому вопросу привести пример именно с этим учебником. Третье издание оказалось уже «бездушным». В 1924 году, переиздавая учебник Лазурского (по второму изданию 1915 года), Л.С. Выготский как редактор выбрасывает упоминания о душе (студенты должны по какому-то учебнику учиться, а новых пока что нет). Выготский поясняет в своем предисловии, перечисляя купюры и вставки в труд Лазурско-го: «еще выпущена одна страница из главы I –„Предмет и задачи”, где автор вразрез с общей своей точкой зрения защищает право науки на введение гипотез и утверждает, что в этом смысле понятие души как основы наблю- даемых нами психических процессов имеет полное право на существование. Это отбрасывает нас так далеко назад в прошлое даже по сравнению с эмпирической психологией, этой психологией без души, что прозвучало бы несомненным и резким диссонансом в курсе научной психологии» [3, с. 65].
Хочется подчеркнуть, что отказ от «души» был результатом самоопределения психологов. Никакого внешнего, или идеологического, давления первоначально не было. Они посчитали, что так будет удобнее. И их можно понять: успехи естественной науки вызвали у психологов чувство сродни зависти. Они захотели быть «как все» (представители естественных наук). У. Джеймс, который писал о современной психологии как о естественнонаучной дисциплине (этого мы ниже коснемся), мудро и прозорливо заметил, что «Бог может простить нам грехи наши, но нервная система – никогда».
Не будем прослеживать историю души в ХХ столетии. Скажем только, что в настоящее время в научных текстах по психологии про душу по-прежнему вспоминают не часто. Из современников отметим, что о душе писал замечательный психолог В.П. Зинченко. Классик психологии, в частности, отмечал: «У меня хватает чувства юмора, чтобы не определять душу. Более того, едва ли возможно ее определение. Это не столько понятие, сколько некоторый культурный концепт» [7, с. 34]. Про душу и духовные способности писал другой известный российский психолог, В.Д. Шадриков.
Впрочем, хочу пояснить, что настоящая статья написана не для того, чтобы попытаться найти виноватых или, не дай Бог, возложить на кого-то ответственность…
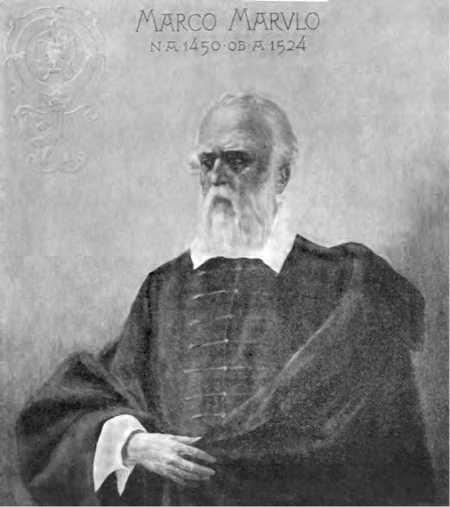
Марко Марулич
Речь совсем о другом. Прежде попытаемся понять, что мы достоверно знаем о душе? Конечно, что она включает познание, чувства и волю… Что в душе существует духовный компонент… А в чем ее сущность? Ответить сложно…
Еще раз повторим, не влияние идеологии, а собственное стремление психологов к обновлению заставило отказаться от души и заменить древний термин другим словом. Попробуем представить себе, что такое душа. В лучшем случае размытое представление о двойнике человека (или двойнике некоей надчеловеческой сущности, что в принципе то же, только еще более неопределенно).
Немного отвлечемся и обратимся к истории психологии. Иногда исторические размышления бывают полезны. Они наводят на определенные выводы, которые могут показаться весьма странными. Сама идея истории науки неразрывно связана с понятием прогресса: только продвижение человеческого познания и его углубление придает смысл научным изысканиям. История любой нау- ки это наглядно подтверждает, ибо прогресс там совершенно очевиден. Даже сомнение в его наличии выглядит слегка неуместным и заставляет усомниться в умственном здоровье сомневающегося субъекта. Как ни парадоксально, даже изыскания философов науки ХХ столетия (К. Поппер, И. Лакатос, Т. Кун и др.), опровергающие кумулятивную модель развития науки, не смогли поколебать общее представление о прогрессивном поступательном развитии науки.
Однако не будем забывать, что психология – наука особая, там многое не так, как в других дисциплинах, в психологии все по-другому. В психологии сам прогресс немного иной. Ставшее стереотипом сознания современного человека представление о постепенном (пусть даже противоречивом и скачкообразном) развитии вступает в явный конфликт с картиной, открывающейся взору непредубежденного историка психологической мысли. Возникает впечатление, что в области психологической науки идеи «прогресса» оказываются «недействительными»: последующие теории вовсе не обязательно оказываются лучше предшествующих. Более того, сам прогресс оказывается очень неравномерным. Размышления же приводят к парадоксальному выводу: если психология действительно является наукой о душе, то приходится признать, что в понимании собственно этого предмета мы продвинулись со времен Платона и Аристотеля не так уж далеко. Можно представить себе разгневанного психолога-сциентиста, приводящего убедительный перечень примеров того, что Аристотель и помыслить не мог, скажем, о нейропсихологии, ибо наивно полагал, будто мозг является «железой для охлаждения разгоряченной крови», а также и о множестве иных вещей (к примеру, об авиационной и космической психологии). Нельзя отрицать очевидное, разгневанный оппонент, безусловно, прав. Но хочется обратить внимание на одну деталь – довольно существенную, на наш взгляд. Во всех этих примерах (их перечень может быть практически бесконечным, достаточно заглянуть в психологический справочник – достижения психологии велики и значимы) речь идет преимущественно именно о «вещах» (то есть не о собственно «псюхе»).
Действительно, нам немало известно о закономерностях поведения, разнообразных «деятельностях», но по-прежнему очень мало о «псюхе». Наше пристрастие к термину «психологический» не должно вводить в заблуждение: очень часто психологическое оказывается «проекцией» на неопределенный, «размытый» предмет психологической науки реальных,
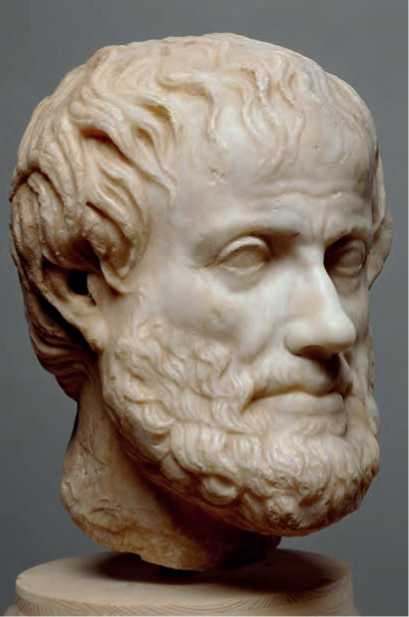
Аристотель
действительных наработок и расчленений в других научных дисциплинах – от анатомии и физиологии мозга, через социологию и лингвистику до информатики и вычислительной техники. «Расчленения», реально произведенные в других научных дисциплинах, «спроецированные» в психологию и «облеченные» в психологическую терминологию, могут создать иллюзию благополучия. Но это всего лишь иллюзия... Таким образом, психологическая теория неизбежно приобретает характер метафоры: теории именуются психологическими, но реальный предмет исследования в этом случае отличен от декларируемого.
Уместно заметить, что подобную перспективу предвидел уже сам Аристотель – первый абзац его знаменитого сочинения «Περὶ Ψυχῆς» (De anima) заканчивается следующими словами: «Ведь душа есть как бы начало живых существ. Так вот, мы хотим исследовать и познать ее природу и сущность, затем ее проявления, из которых одни, надо полагать, составляют ее собственные состояния, другие же присущи – через посредство души – и живым существам» [2, с. 371]. То есть речь здесь идет о наличии собственно психологических, психофизиологических и биологических проявлений деятельности души (как поясняет автор комментариев к тексту Аристотеля А.В. Сагадеев) [2, с. 499].
Теперь более понятно становится, что такое прогресс в психологии: «отсутствие» его относится к «собственно психологическому» аспекту. Если в области «несобственно» психологической (психобиологической и психофизиологической) прогресс очевиден, то «природа и сущность» психики по-прежнему полны тайн... Будем различать, согласно му- дрому Аристотелю, эти аспекты. В понимании того, что такое психика, какова ее природа и сущность, мы продвинулись пока мало.
Впрочем, нам пора вспомнить, что живем мы в XXI столетии. И нам привычнее объясняться на языке науки, то есть используя термины научно-психологической методологии.
Обратимся к опыту методологических исследований, проведенных нами и посвященных рассмотрению этих вопросов. Остановимся вкратце на некоторых результатах, оставив систематическое изложение для более подходящего случая.
Рассуждая о предмете психологии, мы очень хорошо понимаем: все, что может выступать в качестве такового, неизбежно является абстракцией высокого уровня. Человеческому уму очень трудно ее просто представить (и еще труднее ею оперировать). Поэтому на помощь приходит функция понимания, которая связана с тем, что мы пытаемся преобразовать непонятную абстракцию, замкнув ее на образ материального объекта. Иными словами, происходит то, что было в свое время описано Н.Г. Алексеевым как моделирующие представления [1]. Или, если угодно, как говорил один из персонажей произведений братьев Стругацких, понимание есть упрощение.
Как показывают наши исследования, в процессе упрощающего понимания психологических явлений происходит следующее. Этот феномен был обнаружен, когда исследовались процессы, происходящие у исследователя в процессе планирования научного исследования, представляющие собой формирование «предтеории» [10]. Позднее оказалось, что эти феномены являются универсальными и имеют место практически всегда, когда необходимо иметь дело с пониманием психических явлений.
В целом происходит трансформация первоначальной абстракции по трем направлениям.
-
1. Известно, что психическое явление может проявляться либо в самосознании, либо в поведении. В процессе уточнения выбирается один из трех возможных вариантов, определяющих «идею» предмета и метода: либо субъективный вариант, от самосознания, предполагающий ориентацию на субъективный метод, либо объективный – от поведения, предполагающий объективный метод, либо комплексный – моделирующие представления таковы, что предполагают использование сочетания этих возможностей.
-
2. Выбирается базовая категория, задающая общую стратегию понимания рассматриваемого явления. Основные базовые категории: структура, функция, процесс, уровень, генезис или их сочетание.
-
3. Собственно моделирующие представления. Моделирующие представления всегда являются искусственной конструкцией, привлекаемой для понимания и объяснения. Согласно Н.Г. Алексееву, моделирующие представления «обеспечивают целостность последовательности процедур и могут содержать некоторые обоснования на этот счет. Подобные схемы, как правило, замыкаются на некоторый образ материальных предметов и связей между ними, задают объект исследования» [1, c. 324].
Здесь лишь хочется обратить внимание на то, что роль моделирующих представлений в понимании теории чрезвычайно велика. Если сильно упростить, можно сказать, что моделирующие представления – это та модель изучаемого явления, которую принимает исследователь и на которой верифицируют-

Семен Людвигович Франк (1877–1950)
ся (получают подтверждения) сведения об изучаемом объекте.
Итак, будем помнить, что разговор о психике предполагает замену исходной абстракции в силу ее труднопостижимости и сложности для понимания: происходит замена непостижимого объекта другим, более доступным для понимания.
Поэтому, когда мы говорим о психике, в действительности рано или поздно в нашем рассуждении появляются такие понятия, как отражение, деятельность, поведение, адаптация, личность, ориентировка и пр. Таким образом, понятно, что предмет психологии имеет достаточно сложную структуру, включающую в себя различные компоненты.
Можно говорить о декларируемом предмете. В настоящее время под декларируемым предметом обычно имеется в виду «психика», поскольку именно она заявляется в качестве предмета психологической науки. О сложностях исследования психики как таковой уже упомина- лось. Поэтому в действительности используется «заместитель» декларируемого предмета – отражение, деятельность, поведение и тому подобное, который уместно именовать рационализированным предметом. И, наконец, тот конструкт, который порождается при участии моделирующих представлений, вполне заслуживает наименование реального предмета.
Это необходимо для того, чтобы не запутаться, что имеется в виду в том или ином случае.
Далее отметим, что психологам свойственно легкомысленно относиться к проблеме предмета. В настоящее время в особенности. Как хорошо известно, Высшая аттестационная комиссия настаивает на том, чтобы в диссертации четко указывался как объект, так и предмет исследования, и совершенно очевидно, что диссертанты не испытывают в этом интеллектуальном упражнении никаких проблем (заметим: вопрос о том, что такое психика, их обычно не посещает – впрочем, оно и понятно, так как у диссертанта много других забот). Создается впечатление, что предмет исследования определяется относительно независимо от предмета науки в целом.
Отсюда обычно следует вывод: проблема предмета психологии существует в сознании психологов, склонных к философствованию. Обычных исследователей проблема предмета, если перефразировать известное выражение, «волнует, но не тревожит». Отсюда же, кстати, происходит крайне легкомысленное отношение (иногда переходящее в безразличие) к процедуре определения того, что выступает в качестве предмета психологии. При такого рода отношении начинает казаться, что про предмет достаточно лишь «приговаривать», а перейти от одного предмета к другому можно очень просто путем соответствующей декларации: «Пред- метом психологии мы сделаем душу (или что-то другое)». Очень хорошо, на наш взгляд, эту ситуацию описал еще в 1994 году патриарх отечественной психологии М.Г. Ярошевский: «Когда ныне рушится вся привычная система ценностей, захлестываемая грозной волной бездуховности, возвращение к душе представляется якорем спасения. Но наука, в отличие от мифологии, религии, искусства, имеет свои выстраданные веками критерии знания, которое в основе своей является детерминистским, то есть знанием причин, знанием закономерной зависимости явлений от порождающих их факторов, доступных рациональному анализу и объективному контролю» [20, с. 96]. Поэтому ошибаются те, кто полагают, что достаточно заменить «психику» на «душу» (или что-то иное), а все остальное разрешится само собой: проблема состоит в том, чтобы обеспечить возможности «рационального анализа» и «объективного контроля» (если, конечно, мы хотим, чтобы психология оставалась наукой). А это куда сложнее, чем декларировать иное понимание предмета.
Еще одно уточнение, касающееся собственно души. Душа есть единственный и неизменный подлинный предмет психологии с древних времен и до наших дней. И, по-видимому, таковой она и должна оставаться, особенно учитывая, что предмет имеет, как мы видели, сложную структуру. Как можно полагать, душа должна оставаться «недостижимым» (по крайней мере в настоящее время) идеалом психологии, ибо это предмет психологии во всей его сложности и полноте. Для души отсутствуют в настоящее время адекватные моделирующие представления (во всяком случае такие, которые выдерживали бы критику). И правы те, кто настаивают на том, что есть дух, наличие которого в структуре души несомненно.
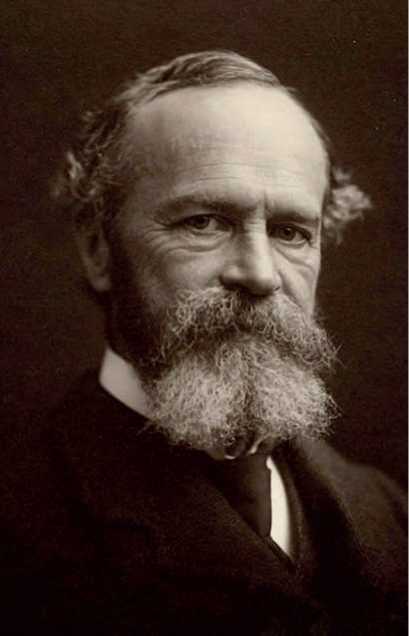
Уильям Джеймс (1842–1910)
Не развивая эту мысль далее, скажем лишь, что понятие души для отечественной психологии важно, потому что в нем содержится огромный потенциал. Приведем цитату: «одно лишь несомненно: живой, целостный внутренний мир человека, человеческая личность, то, что мы вне всяких теорий называем нашей „душой”, нашим „духовным миром”, в них совершенно отсутствует. Они заняты чем-то другим, а никак не им. Кто когда-либо лучше понял себя самого, свой характер, тревоги и страсти, мечты и страдания своей жизни из учебников современной психологии, из трудов психологических лабораторий? Кто научился из них понимать своих ближних, правильнее строить свои отношения к ним?» [15, с. 423].
Как понятно из приведенной цитаты, мы полагаем, что то, что презрела психофизиология, – живой, целостный внутренний мир человека – на самом деле, возможно, и является настоящим предметом психологической науки в том высоком смысле слова, о котором писал С.Л. Франк в цитате, которая была приведена в начале статьи. Такой – идеальной – позиции противостоит доминирующая в западной науке (главным образом, американской, задающей мейнстрим в мировой психологии) сциентистская, корнями уходящая в позитивизм: изучать надо то, что доступно изучению. В качестве идеала (куда же без него!) там используется «идол»: стандарт современной американской психологической науки. Не будем здесь развивать эту тему, оставим ее для специального случая. Зададим только себе вопрос: «Что мы должны делать сегодня, когда поставленные высокие идеалы пока недостижимы?».
Попробуем ответить, хотя прежде стоит понять, что именно мы не знаем или не понимаем? Конечно, это тоже специальная тема. Поэтому здесь в качестве предварительного ответа лишь сошлемся на высказывания авторитетов. Карл Юнг, один из величайших психологов, прямо говорил о том, что психика является «неизвестным фактором» и «мы еще очень далеки от того, чтобы даже приблизительно понять его сущность» [21, с. 418]. Это очень важный момент. Если мы далеки от понимания сущности психического, то важно не принимать неоправданных ограничений.
Можно привести высказывания великого У. Джеймса: «Мы должны сознавать, какой мрак облекает область душевных явлений, и никогда не забывать, что принятые нами на веру положения, на которые опирается все естественно-историческое исследование психических явлений, имеют временное, условное значение и требуют критической проверки» [6, с. 408]. В другом месте Джеймс воз- вращается к этому вопросу и с присущим ему блеском пишет: «Итак, толкуя все время о психологии как естественной науке, мы не должны думать, что речь идет о науке, установленной на прочном, незыблемом основании. Наоборот, называя психологию естественной наукой, мы хотим сказать, что она в настоящее время представляет простую совокупность отрывочных эмпирических данных; что в ее пределы отовсюду неудержимо вторгается философский критицизм и что коренные основы этой психологии, ее первичные данные должны быть обследованы с более широкой точки зрения и представлены в совершенно новом свете. Короче говоря, название естественной науки указывает на то, что психология обладает всеми несовершенствами чисто эмпирической науки, и не должно вызывать в психологах наивной уверенности в цветущем состоянии изучаемой ими научной области [6, с. 363].
Обратим внимание на то, что Джеймс, рассуждая о будущем психологии, мечтал о появлении Галилея от психологии: «Когда в психологии явится свой Галилей или Лавуазье, то это, наверное, будет величайший гений; можно надеяться, что настанет время, когда такой гений явится и в психологии, если только на основании прошлого науки можно делать догадки о ее будущем. Такой гений по необходимости будет „метафизиком”» [6, с. 408].
Что мы должны делать, пока «пси»-фактор остается неизвестным, а гений-метафизик пока не прибыл? На наш взгляд, движение в правильном направлении задает теоретическая разработка проблемы предмета. Как представляется, положение в психологии не является исключением. Можно полагать, что физикам тоже не вполне ясно, в чем состоит сущность силы, но это, по-видимому, не мешает впол-
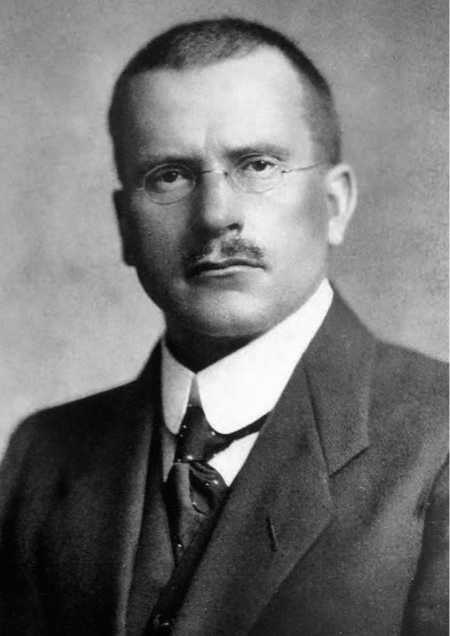
Карл Густав Юнг (1865–1961)
не успешно двигаться и разрабатывать дальше эту в высшей степени респектабельную научную дисциплину.
Ниже мы остановимся на некоторых результатах проведенного теоретического исследования, посвященного проблеме предмета психологической науки. Таким образом, мы должны хорошо понимать, что в действительности никогда не исследуем душу как таковую, но всегда нечто более простое, доступное нашему пониманию. То, что доступно нашему пониманию, представляет собой метафору. Относительно этой метафоры выстраиваются наши рассуждения. Мы исследуем отражение, деятельность, адаптацию, регуляцию, ориентировку и тому подобное. Полезно помнить, что это, согласно Аристотелю, другие уровни. В этой сфере – прогресс налицо. Нами построено множество теорий, концепций, обобщений, гипотез, схем и т.п., которые имеют характер метафор. Л.С. Выгот- ский очень точно отметил, что все слова психологии суть метафоры, взятые из пространств мира [3]. Не развивая более данную тему, отметим, что далеко не каждое общее понятие может выступить в качестве предмета психологии. В другой работе мы излагали наше представление о внутреннем мире человека и его содержании [12, с. 11].
Остановимся на результатах проведенного нами теоретического анализа, чтобы продемонстрировать: трактовка предмета психологии как внутреннего мира человека 1) позволяет «предмету» реализовать свои функции; 2) соответствует основным требованиям к «предмету».
Назовем основные функции предмета.
Первая функция : конституирование науки. Внутренний мир человека конституирует дисциплину «психология человека», понятие «внутренний мир человека» является центральным [12]. Внутренний мир отражает бытие человека и формируется в процессах жизнедеятельности [16]. Развиваясь в деятельности и поступках, он характеризуется функциональностью и оперативностью. Все психические процессы во внутреннем мире протекают одновременно на двух уровнях: сознательном и бессознательном. Внутренний мир, с одной стороны, един с внешним миром, с другой – независим от него. Внутренний мир, порождаемый как функциональное отражение внешнего мира, представляет собой целостный идеальный мир. Это живой мир, так как он порождается потребностями человека и пронизан переживаниями. С позиции внутреннего мира хорошо объясняются многие проблемы, которые решает психология [16].
Вторая функция: обеспечение работы «машины предмета».
Это одна из основных функций. Имеется в виду то, что за счет внутрипредметных отношений в рамках предмета возможно построение моделей, увеличивающих объем психологического знания. Поскольку в состав внутреннего мира человека входят психические образования, имеющие разное происхождение и различную обусловленность, возникает перспектива разрабатывать психологию, руководствуясь известным положением Э. Шпрангера «объяснять психическое через психическое».
Третья функция: определение предмета исследования (главная роль в конституировании предмета исследования).
Эта функция позволяет конструировать предмет конкретного научного психологического исследования . Многие психологи сегодня искренне полагают, что трактовка предмета психологии не имеет существенного влияния на жизнь науки: те или иные конкретные исследования проводятся, исходя из понимания предмета данного конкретного исследования. Предмет исследования и предмет науки не совпадают. Поэтому изменение понимания предмета науки, полагают они, не оказывает реального влияния на предмет конкретного исследования. Кстати, можно увидеть большое количество учебников по психологии, где о предмете определенно говорится только в первой главе, а содержание всех остальных с трактовкой предмета практически никак не связано. Выбор адекватного предмета имеет решающее значение как для успешности конкретного исследования, так и для самоопределения науки в целом. С нашей точки зрения, это важный шаг, имеющий большие последствия, существенно перестраивающий представление об общей психологии.
Использование в качестве предмета такого широкого понятия, как внутренний мир человека, позволяет конструировать предмет научного исследования, оставаясь в границах психологии, и тем самым соблюдать предметность психологического исследования. Как было показано в предыдущих работах, соотнесение с реальным предметом при организации психологического исследования происходит в любом случае независимо от того, осознается это самим ученым или нет.
Четвертая функция: роль предметного стола. Предметный (операционный) стол (М. Фуко) – необходимый атрибут как предметной дисциплины, так и научного исследования. Сопоставление понятий, их сравнение возможно только в том случае, если они находятся в одной плоскости психологического исследования. Если предмет задан слишком узко, конструктивное сопоставление становится невозможным. В этом случае невозможно эффективно использовать коммуникативную методологию. Поскольку предмет, понимаемый как внутренний мир человека, трактуется максимально широко, он используется как основа сопоставления и выполняет функцию операционного стола.
Пятая функция: определение границы науки, то есть предмет должен охватывать все пространство дисциплины.
Как уже отмечалось, внутренний мир человека трактуется максимально широко, в него включены и сознательные, и бессознательные психические явления. Более того, такая широкая трактовка позволяет включить в архитектонику внутреннего мира такие разные механизмы (и показать их роль и значение), как отражение и конструирование. Внутренний мир человека, как мы уже отмечали, сложен. И вряд ли един, как, впрочем, и внешний мир. Поэ- тому стоит быть готовым к тому, что в рамках внутреннего мира представлены разные механизмы. Вряд ли мы поймем ощущения без использования понятия «отражение». Но это никоим образом не означает, что вся остальная психическая жизнь – тоже отражение.
Вспомним, что уже Аристотель отмечал, что «мыслить – это во власти самого мыслящего, когда бы оно ни захотело помыслить; ощущение же не во власти ощущающего, ибо необходимо, чтобы было налицо ощущаемое» [2, с. 407]. Надо полагать, что и механизмы этих процессов различны. Вряд ли стоит распространять принцип отражения на все. Отражение, несомненно, имеет место в области чувственного познания, создавая чувственную ткань, но мы знаем, что уже на уровне восприятий сталкиваемся с заметным «обратным влиянием», когда внутренний мир фактически организует перцепцию. И самое последнее. Внутренний мир сложен, поэтому естественно, что для его исследования требуются разные методы. В общем виде – несомненно, что необходимо сочетание различных методов.
Такое использование категории «внутренний мир» позволяет рассматривать псюхе как трансперсональный феномен, то есть соответствует всем современным психологическим подходам, позволяя определить сферу их применения.
Шестая функция: дидактическая. Дидактическая функция означает, что в соответствии с трактовкой предмета может быть организован учебный процесс. Подготовлен учебник, в котором эта функция реализована [16]. Подчеркнем специально, что она реализована последовательно: внутренний мир человека заявлен как предмет психологической науки, все рассматриваемые разделы представлены как составляющие внутренней архитектоники внутреннего мира человека.
Теперь назовем основные характеристики предмета.
-
А) Предмет должен существовать реально, он не может быть «искусственно» сконструированным (для того чтобы быть предметом науки в подлинном смысле слова), то есть он должен быть не свойством каких-то других предметов, а исследоваться должна психическая реальность (иными словами, предмет должен иметь онтологический статус).
Cогласно В.Д. Шадрикову, внутренний мир человека представляет собой потребностно-эмо-ционально-информационную субстанцию, которую можно рассматривать как душу человека в ее научном понимании. Как уже упоминалось, внутренний мир человека представляет собой психическую реальность, имеющую внутреннюю архитектонику. Это естественный объект, являющийся системой. Исследование такого объекта представляет собой классический вариант системного подхода, точнее содержательного системного подхода. Известно, что различные совокупные предметы имеют различный потенциал и перспективы в плане психологического исследования. Совокупный предмет определяет собой рамки и границы психологии.
Следует специально подчеркнуть, что это важнейший для психологии вопрос. Дело в том, что предметное пространство психологии должно представлять собой целостность, позволяющую организовать конструктивную исследовательскую работу, и далеко не каждое широкое психологическое понятие может претендовать на то, чтобы представить собой совокупный предмет. Известный советский психолог П.Я. Гальперин видел истоки методологического кризиса психологии в том, что сама психология не смогла преодолеть дуализм: «Подлинным источником “открытого кризиса психологии”
был и остается онтологический дуализм – признание материи и психики двумя мирами, абсолютно отличными друг от друга. Характерно, что ни одно из воинствующих направлений периода кризиса не подвергало сомнению этот дуализм. Для этих направлений материальный процесс и ощущение, материальное тело и субъект оставались абсолютно – toto genere – разными, несовместимыми, и никакая эволюция не может объяснить переход от одного к другому, хотя и демонстрирует его как факт. И в самом деле, если мыслить их как абсолютно противоположные виды бытия, то этот переход действительно понять нельзя» [8, с. 3].
П.Я. Гальперин полагал, что «с точки зрения диалектического материализма все обстоит иначе» [8, с. 3]. Диалектическому материализму, как сейчас понятно, тоже не удалось решить главные методологические вопросы психологии. Описываемый подход, при котором мир психических явлений обретает надежную нейрологическую основу, как представляется, позитивен, поскольку в этом случае, по крайней мере, удается избежать редукционизма и фи-зиологизма.
Б) Предмет должен быть внутренне достаточно сложным, чтобы содержать в себе сущностное, позволяющее выявлять собственные законы существования и развития, а не сводить внутренне простое психическое к чему-то внеположному, обеспечивая тем самым редукцию психического.
Трактовка совокупного предмета как внутреннего мира человека подчеркивает его целостность, но утверждает наличие во внутреннем мире различных гетерогенных структур. Таким образом, утверждается принципиальный тезис, что внутренний мир человека – это сложное образование. В этом моменте формулируемый подход означает категорический разрыв с той традицией, которая, по крайней мере, со Средних веков утверждает, что душа (психика) есть простая вещь, познающая себя и другие вещи. Удивительно, но психологические школы и направления, включая современные, следовали этому древнему, но весьма спорному учению. Отсюда, кстати, следует, что неявно предполагается, что метод изучения тоже должен быть простым.
Нам это также представляется недоразумением и анахронизмом: очевидно, что мир сложен, поэтому и методы его исследования используются разные – в зависимости от того, какая часть мира исследуется. Поэтому, говоря о методах, стоит подчеркнуть, что чаще всего речь идет о комплексе методов, их сочетании. Иными словами, используются методы как из арсенала естественнонаучной психологии, так и из обоймы герменевтических методов.
-
В) Понимание предмета должно быть таково, чтобы позволить разрабатывать науку психологию по собственной логике, не сводя развертывание психологических содержаний к чуждой психологии логике естественного или герменевтического знания.
В ряде наших работ было показано, что психология представляет собой специфическую дисциплину, которую нельзя отнести ни к естественным, ни к гуманитарным наукам. Понятно, что это обеспечивает ее особое положение среди других наук. Поэтому стандарты и подходы естественных и гуманитарных наук в психологии, во всяком случае сегодня, без необходимой адаптации неприменимы. Существуют законы функционирования и развития внутреннего мира [16]. Это важно понимать сегодня, когда мы знаем, что психика по-прежнему является, повторим здесь слова Джеймса, «неизвестным фактором» и «мы еще очень далеки от того, чтобы даже приблизительно понять его сущность».

Лев Семенович Выготский (1896–1934)
Г) Понимание предмета должно быть таким, чтобы обеспечить возможность психологического объяснения (нередуктивного).
Не имея возможности в рамках настоящей статьи обсуждать проблему объяснения в целом, обратимся к редукции в объяснении. Обычно редукцию, то есть сведение психологического к непсихологическому, рассматривают как неизбежность. Редукцию в той или иной форме предполагает Пиаже, автор известной теории объяснения [14]. Неизбежность и, более того, пользу редукции видит А.В. Юревич [18].
Как представляется, новое понимание предмета психологии позволяет преодолеть неразрешимые трудности в объяснении психического. Этот тезис нуждается в пояснении. Дело в том, что традиционная трактовка предмета делает практически неизбежной редукцию психического к непсихическому в той или иной форме.
Почему так происходит? Ответ прост. Трактовка предмета как внутренне простого предполагает использование именно причинно-следственного объяснения. Специфика причинного объяснения прекрасно показана в работах замечательного отечественного философа Е.П. Никитина. Существенно, что редукция, или сведение, предполагает причинноследственные отношения. Представляется полезным вспомнить гносеологическую характеристику причинного объяснения.
Е.П. Никитин характеризует специфику причинного объяснения следующим образом: «Причинное объяснение является относительно простым видом объяснения. Оно раскрывает сущность как нечто „пассивное”, „страдательное”, произведенное другим объектом. А такое исследование объекта всегда оказывается более простым, нежели анализ его собственного активного функционирования. Причинное объяснение часто исследует объект не имманентно, а „со стороны”, посредством указания другого, внешнего объекта. Это происходит в тех случаях, когда объясняемый объект произведен так называемой внешней причиной. Исследование же объекта „извне”, через его внешние соотношения с другими объектами, как показывает история науки, является более простым, нежели имманентное познание внутренних связей и структуры. Все эти факторы обусловливают относительно большую простоту причинного и вообще генетического объяснения…» [13, с. 88–89].
Таким образом, «активное функционирование объекта» не раскрывается и «имманентное познание внутренних связей и структуры» не осуществляется (что, заметим, является важнейшей задачей, в частности, психологической науки). Отсюда становится понятным, что источник активности психики «обнаруживается» в физиологии, социологии, логике и пр. – в зависимости от склонности использовать тот или иной тип редукции. По нашему глубокому убеждению, продуктивен тот подход, который видит источник активности психики в ней самой.
Д) Понимание предмета должно быть целостным и не допускать замены целостного предмета на нечто иное: в качестве «подмены» обычно используют единицу, замещающую реальный предмет (почему-то считается, что единицу легче изучить).
Обычно при определении предмета используют (история психологии изобилует примерами такой технологии) следующий ход: объявляя тот или иной предмет, в дальнейшем рассмотрении осторожно заменяют его на «единицу», данный предмет представляющую. Эта традиция – наследие прежней методологии, когда полагали, что из единицы (клеточки) можно будет получить целое. До тех пор, пока мы не поймем сущности психического фактора, предпочтительнее иметь дело с целым. Подчеркнем, что такая логика появляется в результате неоправданного перенесения на психологию чуждых методологических идей.
Важнее другое. Обратим внимание, что в итоге из психологии фактически исчезает совокупный предмет. В рассматриваемом случае внутренний мир человека представляет собой совокупный предмет – псюхе как целое, который в процессе рассмотрения подвергается анализу. Обратим внимание на то, что в этом случае психология впервые обретает перспективу нередук-тивного объяснения, ибо впервые пожелание Шпрангера становится реальным – объяснять психическое через психическое. Можно сказать, что в настоящем методологическом подходе скорее реализован научный идеал, выраженный Вильгельмом Дильте-ем, о психологии описательной, понимающей и расчленяющей [10]. Во всяком случае, характе- ризуя внутренний мир человека, авторы, эксплицируя структуру внутреннего мира [16], пытались не разрушать одушевляющие связи.
-
Е) Понимание предмета должно быть экологичным, он должен органично вписываться в окружающий мир, гармонировать с биосферой и ноосферой.
В нашем представлении понятие «внутренний мир человека» является наиболее экологичным из всех возможных вариантов. Достаточно вспомнить древних греков, которые рассматривали гармонию космоса и человека и его внутреннего мира как макро-, мезо- и микрокосм. В греческой культуре соответствие между микро- и макрокосмом было общепринятым и очевидным. Не исключено, что современной психологии стоит прислушаться к идеям, высказанным еще в Античности, тем более что для возрождения этих идей могут найтись основания.
В этой связи можно вспомнить мудрого У. Джеймса, который говорил, что наша психика «заранее приноровлена» к миру, в котором человек живет. И, конечно, Карла Юнга: «Каждый выхватывает свой собственный фрагмент мира и сооружает для своего частного мира собственную частную же систему, зачастую с герметическими стенами, так что через некоторое время ему кажется, будто он познал смысл и структуру мира. Конечное никогда не обоймет бесконечное. Мир психических явлений есть лишь часть мира в целом, и кое-кому может показаться, что как раз в силу своей частности он более познаваем, чем весь мир целиком. Однако при этом не принимается во внимание, что душа является единственным непосредственным явлением мира, а следовательно, и необходимым условием всего мирового опыта» [17, c. 111].
И уже самое последнее. Наивно было бы полагать, что психология близка к своему финальному состоянию. В этой статье мы уже приво- дили слова Юнга, что мы пока далеки, чтобы приблизительно понять сущность психологического фактора: «мы еще очень далеки от того, чтобы даже приблизительно понять его сущность» [21, с. 418]. Представляется, что мы медленно движемся в нужном направлении.
Список литературы De anima: предмет психологии и границы его постижения
- Алексеев Н.Г., Юдин Э.Г. О психологических методах изучения творчества//Проблемы научного творчества в современной психологии/под ред. М.Г. Ярошевского. М.: Наука, 1971.
- Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976.
- Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1982.
- Выготский Л.С. Предисловие к книге А.Ф. Лазурского «Психология общая и экспериментальная»//Выготский Л.С. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1982.
- Джеймс У. (Джемс В.) Многообразие религиозного опыта. СПб: Андреев и сыновья, 1992. 418 с.
- Джеймс У. (Джемс В.) Психология. Изд.5-е. С.Пб.: Изд. К.Л. Риккера, 1905.
- Зинченко В.П., Подорога В.А. О человеческой душе и плоти//Знание. Понимание. Умение. 2005. № 1. С. 34-43.
- История психологии: период открытого кризиса: Тексты/под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М.: МГУ, 1992. 364 с.
- Лазурский А.Ф. Психология общая и экспериментальная. 2-е изд. Петроград: Кн. скл. «Земля», 1915. 346 с.
- Мазилов В.А. Теория и метод в психологии. Ярославль: МАПН, 1998. 359 с.
- Мазилов В.А. Психология академическая и практическая: Актуальное сосуществование и перспективы//Психологический журнал. 2015. Т. 36, № 3. С. 81-90.
- Мазилов В.А. Психология: будущее науки//Высшее образование сегодня. 2017. № 10. С. 53-59.
- Никитин Е. П. Объяснение -функция науки. М.: Наука, 1970. 280 с.
- Пиаже Ж. Характер объяснения в психологии и психофизиологический параллелизм//Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. 1, 2. М.: Прогресс, 1966. 430 с.
- Франк С.Л. Душа человека: Опыт введения в философскую психологию//Франк С.Л. Предмет знания. Душа человека. СПб.: Наука, 1995. С. 417-632.
- Шадриков, В.Д., Мазилов, В.А. Общая психология. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. 411 с.
- Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс/Универс, 1994. 149 с.
- Юревич А.В. Объяснение в психологии//Психологический журнал. 2006. № 1. С. 97-106.
- Ярошевский М.Г. Наука о поведении: Русский путь. М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО «Модэк», 1996. 380 с.
- Ярошевский М.Г. Новаторство И.М. Сеченова: историческая реальность или «сталинская фикция»//Вопросы психологии. 1994. № 6. С. 87-98.
- Jung K.G. Die Bedeutung von Konstitution und Vererbung fur die Psychologie//Ges.Werke. Bd. 8, 1967.


