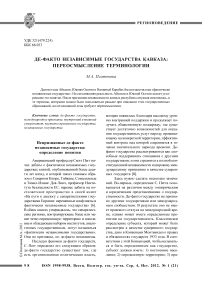Де-факто независимые государства Кавказа: переосмысление терминологии
Автор: Платонова Мария Анатольевна
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Регионоведение
Статья в выпуске: 1 (21), 2012 года.
Бесплатный доступ
Долгие годы Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах были известны как «фактически независимые государства». Но сегодняшняя реальность Абхазии и Южной Осетии делает устаревшим это понятие. После признания независимости данных республик ситуация изменилась, и те термины, которыми можно было пользоваться раньше при описании этих государственных образований, на сегодняшний день требуют переосмысления.
Де-факто государство, международное признание, внутренний и внешний суверенитет, частично признанные государства, независимые государства
Короткий адрес: https://sciup.org/14971832
IDR: 14971832 | УДК: 321(479.224)
Текст научной статьи Де-факто независимые государства Кавказа: переосмысление терминологии
Непризнанные де-факто независимые государства: определение понятия
Американский профессор Скотт Пегг начал дебаты о фактически независимых государствах книгой, опубликованной более десяти лет назад, в которой писал главным образом о Северном Кипре, Тайване, Сомалиленде и Тамил-Иламе. Дов Линч, профессор Института безопасности ЕС, перенес дебаты на постсоветское пространство в своей книге «На пути к диалогу с сепаратистскими государствами Евразии: нерешенные конфликты и фактически независимые государства» [6]. В обеих книгах утверждалось, что сепаратистские регионы, контролирующие более или менее четко определенную территорию и население и обладающие набором институтов, аналогичных государственным, могут называться «фактически независимыми государствами». Они не признаны, но де-факто независимы.
Исследуя феномен де-факто государств, С. Пегг определил его следующим образом: де-факто государство существует там, где есть организованная политическая власть, которая появилась благодаря высокому уровню внутренней поддержки и продолжает получать общественную поддержку; где существует достаточно возможностей для оказания государственных услуг народу, проживающему на конкретной территории, эффективный контроль над которой сохраняется в течение значительного периода времени. Де-факто государства рассматриваются как способные поддерживать отношения с другими государствами, и они стремятся к полной конституционной независимости и широкому международному признанию в качестве суверенных государств [8].
Здесь нужно сделать несколько замечаний. Во-первых, определение С. Пегга основывается на различии между эмпирическим и юридическим представлениями о государственности. Де-факто государство не признано другими государствами или международным сообществом. В результате оно не имеет правового статуса на международной арене, однако может иметь определенные претензии на государственность. Классическое определение субъекта, который может быть рассмотрен в качестве суверенного государства, дано в Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств 1933 года. В соответствии с этой Конвенцией, чтобы называться и быть определенным как государство, субъект должен иметь: 1) постоянное население; 2) определенную территорию; 3) пра- вительство; 4) способность вступать в отношения с другими государствами. Де-факто государства удовлетворяют первым трем из этих критериев и утверждают, что смогут выполнить и четвертый. Однако сам факт того, что государство вполне соответствует эмпирическому представлению о нем, не может сделать его законным и легитимным в международном сообществе. Как утверждал С. Пегг, де-факто государства «нелегитимны независимо от того, насколько эффективными они являются», то есть де-факто независимость и наличие определенных признаков государственности не значит, что государство будет признано международным сообществом.
Во-вторых, необходимо проводить различие между внутренним и внешним суверенитетом. Внутренний суверенитет относится к верховной власти государства на определенной территории. Внешний суверенитет, с другой стороны, может быть определен как «конституционная независимость от других государств, при одновременной включенности в более широкие конституционные схемы (межгосударственные отношения)» [7, p. 835]. Де-факто государство претендует на оба: то есть, быть сувереном на определенной территории для людей, проживающих на ней, и быть конституционно независимым от какого-либо другого государства. Таким образом, основной отличительной чертой де-факто государств является то, что отсутствие признания внешнего суверенитета не позволяет такому государству стать полноправным членом международного сообщества.
Частично признанные де-факто зависимые государства
Разумеется, в действительности все сложнее, потому что большинство фактически независимых государств в той или иной мере всегда полагалось на поддержку извне для обеспечения своей безопасности и/или экономического развития (достаточно вспомнить о Тайване, Северном Кипре или Абхазии), и поэтому данное понятие всегда было относительным. Абхазия и Южная Осетия передали значительную часть своей фактической независимости России: их границы фак- тически охраняются российскими миротворцами (а после 2009 г. – пограничниками), российский рубль является официальной валютой Абхазии и Южной Осетии, некоторые функции фактических правительств (особенно в Южной Осетии) переданы России. Всегда существовала высокая степень «фактической интеграции» Абхазии и Южной Осетии с Россией, что ограничивало их притязания на «фактическую независимость». И все же большинство аналитиков считало их де-факто государствами [1; 2; 4; 9]. Однако признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии ускоряет потерю ими «фактической независимости», хотят они того или нет.
Парадокс состоит в том, что до августа 2008 г. Абхазия и Южная Осетия были непризнанными, но фактически независимыми государствами; после августа 2008 г. они стали частично признанными, но фактически независимыми больше считаться не могут. Если войны в начале 1990-х были их «войнами за независимость», то война августа 2008 г. становится войной, положившей конец их, пусть даже ограниченной, «де-факто независимости». В войне 2008 г. победила Россия, а не эти республики. И сам факт формального признания независимости этих государств далеко не свидетельствует о том, что фактически они независимы. Пол Колсто, профессор, занимающийся исследованием России и Центральной Европы в Университете Осло, в своей статье «Устойчивость и будущее непризнанных квазигосударств» [5], подробно описывая вероятные исходы существования квазигосударств, акцентирует внимание на том, что, если международное признание распространится на любые нынешние квазигосударства, это не превратит их автоматически в функционирующие, «нормальные» государства. П. Колсто пишет, что «экономика и институциональные структуры многих квазигосударств сильно напоминают те, которые есть у несостоявшихся государств, и есть все основания полагать, что, если эти государства получают международное признание просто в награду за упорство в освободительной борьбе или из-за симпатии к их страданиям в руках государства-захватчика, многие из них будут в конечном итоге не функционирующими или сильными государствами, но вместо этого могут стать несостоявшимися государствами. Если после признания не последовало массированной финансовой поддержки и строгого контроля в течение длительного периода времени, они могут повторить печальный опыт бывших европейских колоний в Африке» [5, p. 737].
О том, что формальное признание независимости не только не гарантирует де-факто независимости, но и в некоторых случаях ограничивает ее, свидетельствует множество факторов, как политических, так и экономических. И Абхазия, и Южная Осетия быстро превращаются из «фактически независимых государств» в «фактически регионы России». И если большинство жителей Южной Осетии если и не рады, то по крайней мере не против этого, то абхазы настроены не столь однозначно. Абхазские оппозиционеры неоднократно поднимали вопрос о том, что многие функции, которые должны обеспечивать суверенитет и независимость государства, переданы под внешнее управление [3]. С этим заявлением можно соглашаться или нет, но, тем не менее, в Абхазии на эту тему идут острые дебаты. В любом случае (и с этим соглашаются как российские, так и абхазские эксперты) тенденция на фактическую интеграцию с Россией практически неизбежна и практически необратима, по крайней мере в ближайшие пару десятилетий. Этому способствуют все региональные акторы, в том числе и Грузия. Если России удобно быть единственным окном в мир для этих республик, то насколько такое положение дел выгодно Абхазии – большой вопрос. Россия наложила вето на продление полномочий миссии ОБСЕ в Южной Осетии и миссии ЕС в Абхазии и настояла на уходе представителей этих организаций из обоих регионов, что способствует усилению их изоляции. В свою очередь, Грузия, приняв Закон об оккупированных территориях, также способствует усилению изоляции Абхазии и Южной Осетии. При этом Грузия проводит политику «дружбы» с Северо-Кавказскими республиками – что еще сильнее может усилить изоляцию. И недавнее признание грузинским парламентом геноцида черкесов лишнее тому подтверждение. Несмотря на определенные попытки Грузии сблизиться с Абхазией и Южной Осетией (например, разработка Ми- нистерством реинтеграции Государственной стратегии в отношении оккупированных территорий; неформальные встречи представителей Абхазии с грузинскими общественниками по вопросам беженцев, развития Гальского района), в целом политика Грузии лишь укрепляет их зависимость от России. Что касается ЕС, то его государства-члены все чаще отказывают жителям Абхазии в визах (достаточно вспомнить недавнюю историю с абхазской командой КВН, которой отказали выдать латвийские визы в июле 2011 года). Но Абхазия и Южная Осетия также способствуют своей самоизоляции, отвергая многие международные контакты по символическим причинам (например, отказываясь допустить на свою территорию Наблюдательную миссию ЕС или встречаться с послами стран ЕС в Грузии, потому что они послы «в Грузии»). Вряд ли такие тенденции соответствуют долгосрочным интересам какого-либо из участников конфликта, но они вызваны политическими решениями, ранее принятыми каждым из них.
Список литературы Де-факто независимые государства Кавказа: переосмысление терминологии
- Лакоба, С. Абхазия де-факто или Грузия де-юре?/C. Лакоба//Slavic Research Center. -2001. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.abkhaziya.org/books/lakoba_deyure.html. -Загл. с экрана.
- Маркедонов, С. Государства de facto/С. Маркедонов//Агентство политических новостей. -2006. -14 дек. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.apn.ru/publications/comments10896.htm. -Загл. с экрана.
- Полный текст заявления Политсовета республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» и Высшего совета общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа». -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.regnum.ru/news/1164898.html. -Загл. с экрана.
- Попеску, Н. Абхазия и Южная Осетия: независимость или выживание?/Н. Попеску//Pro et Contra. -2006. -15 сент. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/2006/5-6/ProEtContra_2006_5-6_05.pdf. -Загл. с экрана.
- Kolsto, P. The Sustainability and Future of Unrecognized Quasi-States/P. Kolsto//Journal of Peace Research. -2006. -Vol. 43, № 6 (Nov.). -P. 723-740.
- Lynch, D. Engaging Eurasia's Separatist States: Unresolved Conflicts and De Facto States/D. Lynch. -Washington: United States Institute of Peace Press, 2004. -175 p.
- Lynch, D. Separatist States and Post-Soviet Conflicts/D. Lynch//International Affairs (Royal Institute of International Affairs). -2002. -Vol. 78, № 4 (Oct.). -P. 831-848.
- Pegg, S. International society and the de -facto state/S. Pegg//Ashgate: Aldershot, 1998. -308 p.
- Waal, T. de. The Caucasus: an Introduction/T. de Waal. -Oxford University Press, 2010. -259 p.