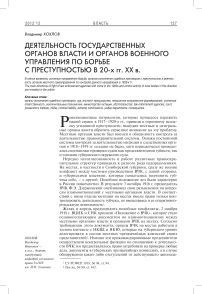Деятельность государственных органов власти и органов военного управления по борьбе с преступностью в 20-х гг. XX в
Автор: Хохлов Владимир Иванович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 12, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье выявлены основные направления борьбы органов исполнения судебных приговоров с преступностью и деятельность органов местного самоуправления по контролю данного направления в 1920-х гг.
Органы исполнения судебных приговоров, суд, институт прокурорства
Короткий адрес: https://sciup.org/170166207
IDR: 170166207
Текст научной статьи Деятельность государственных органов власти и органов военного управления по борьбе с преступностью в 20-х гг. XX в
Р еволюционные потрясения, которые пришлось пережить нашей стране в 1917—1920-е гг., привели к огромному вспле-ску уголовной преступности, вынудив местные и централь -ные органы власти обратить серьезное внимание на эту проблему. Местным органам власти был вменен в обязанность контроль за деятельностью правоохранительной системы. Однако постоянной системы контроля за деятельностью милиции и следственных орга нов в 1918—1919 гг. создано не было, хотя периодически проводи -лись спонтанные проверки судов как представителями губюста, так и членами губернского окружного суда.
Нередко несогласованность в работе различных правоохра-нительных структур приводила к разного рода недоразумениям. На местах, в частности в Симбирской губернии, сразу же возник конфликт между местным руководством ВЧК, с одной стороны, и губернскими властями, которые попытались подчинить губ чека себе, — с другой. Подобное положение дел было характерно в России повсеместно. В результате 3 октября 1918 г. председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский опубликовал свои разъяснения по вопро-сам взаимоотношений с местными органами власти. В соответ ствии с ними отделы юстиции на местах имели право только кон тролировать деятельность губчека, не вмешиваясь в ее оперативно розыскную деятельность1.
ХОХЛОВ Владимир Иванович – к.ю.н., доцент; заведующий кафедрой угол овного права УлГПУ им. И.Н. Ульянова
Желая и впредь предупредить подобные конфликты, 2 ноября 1918 г. ВЦИК и СНК приняли «Положение о ВЧК», которое стало основополагающим документом во взаимоотношениях между местными органами власти и органами ВЧК на местах. Согласно требованиям этого документа, органы ВЧК на местах работали в тесном контакте с НКВД и НКЮ, которые на губернском уровне делегировали в состав местных чрезвычайных комиссий своих представителей2. Именно эти прикомандированные представители осуществляли контрольные функции по отношению к деятельно сти ВЧК: им предоставлялось право затребовать на проверку любые дела, документы в губернских чрезвычайных комиссиях, а в случае обнаружения каких либо отступлений от действующего законода тельства представители от НКВД и губ-юста обжаловали неправомочные дей-ствия руководства губчека через свое непосредственное начальство.
Губюст информировал о допущенном нарушении законодательства губиспол-ком, а тот, в свою очередь, докладывал во ВЦИК для принятия мер против неправо -мочной деятельности губчека. Губернская чрезвычайная комиссия ежемесячно отчитывалась о своей деятельности перед губернским отделом юстиции в письмен -ном виде, а копии отчетов направлялись также в губернский комитет РКП(б)1.
Практически это положение отстраняло губернский отдел юстиции от контроля за деятельностью губернской чрезвычайной комиссии, что вылилось в массовые нару шения работниками ВЧК действующего за -конодательства (например, в г. Симбирске и в уездах). Это положение подтвердили инспекторские проверки мест заключе ния. Так, при проверке в январе 1921 г. Симбирской следственной тюрьмы чле нами смешанной комиссии, куда вошли представители губюста, губернской комис сии НК РКИ и губсуда, были выявлены вопиющие факты нарушения действую щего законодательства губернской ЧК. Это выразилось в незаконном заключении под стражу, отказе от проведения в отношении подследственных каких либо следствен ных действий в течение длительного вре мени, значительном превышении установ ленных законом сроков предварительного задержания и пр.2
Несмотря на то что контроль за дея тельностью губернской ЧК был затруд нен, тем не менее губернскому отд елу юстиции совместно с губернской комис сией РКИ приходилось участвовать в разборе жалоб, связанных с деятельно стью губернской чрезвычайной комис сии. Местные органы власти постоянно осуществли надзор за следственными органами. Работа народного следователя в губернии и уездах была очень напря женной и ответственной. Если, напри -мер, проанализировать статистику дея тельности народных следователей по Сенгилеевскому уезду в период с 1 января по 1 октября 1922 г., то можно увидеть, что в уезде было совершено 16 убийств,
2 покушения на убийство, 4 разбойных нападения и другие преступления.
В Симбирском уезде, например, было 2 следственных участка, где работали 4 народных следователя. Ревизия в уезде, проведенная представителями губерн ского отдела юстиции и уездного бюро юстиции, показала, что следователи с трудом справляются с возложенной на них нагрузкой. На момент проверки из имеющихся в уезде 157 дел было окончено 110. Из них окончено по существу — 15, препровождено в судебные органы — 77, направлено в другие учреждения — 18. Серьезных нарушений в работе следовате лей выявлено не было3.
Определенные функции контроля за деятельностью милиции и следствен ного аппарата были возложены на так называемые революционные трибуналы. Согласно Положению о революционных трибуналах, принятому 18 марта 1920 г., на трибуналы была возложена обязан ность проверки следственных действий. На уездные и губернские отделы и бюро юстиции этим решением также была воз ложена обязанность проверять следствен ную деятельность на всех этапах проведе ния следствия4.
Кроме того, при губернских отделах юстиции для расследования наиболее важных и громких дел создавались след ственные комиссии, в городах и уездах — следственные участки. Их деятельность контролировали следственные отделы губернских отделов юстиции, котор ые также при рассмотрении наиболее важ ных дел выполняли обязанности под держки государственного обвинения в суде.
Губернский отдел юстиции руководил не только всей работой по контролю за деятельностью следователей но и разби рал жалобы, поступающие в его адрес от самих следователей. В ходе проверок, про веденных в марте 1922 г., выяснилось, что некоторые следователи к порученному делу относятся халатно. Так, например, следователь 5 го участка г. Сызрани допу скал грубые нарушения законодательства, санкционировал неправомочные аресты должностных лиц. Соответственно, реше нием уездного бюро юстиции данный сле дователь был отстранен от должности и впоследствии уволен1.
Интересен в этой связи опыт Карсунского уездного бюро юстиции. Для того чтобы конкретизировать надзор и направить в практическое русло работу народных следователей, здесь проводили ежемесячные рабочие совместные сове -щания народных следователей и народных судей. В результате совместной работы в борьбе с преступностью были достигнуты определенные успехи. Из 192 дел, которые находились в производстве у следователей в 1921 г., к сентябрю этого года были окон -чены 137 2 .
Важнейшие контрольные функции по надзору за следствием были возложены на местных народных судей. Именно они наблюдали за проведением дознания в органах милиции, утверждали меры пре сечения, предлагаемые следователями, проводили проверку следственных дей ствий органов милиции. На них также был возложен надзор за проведением предва рительного следствия3.
Проводились и внезапные проверки. Так, в ходе одной из проверок, прове-денных комиссией, было выявлено, что участковые следователи Симбирского уезда редко выезжали на места для рассле дования преступлений в уезде, предпочи тали отсиживаться в городе, что наносило серьезный ущерб делу и не способство вало раскрываемости преступлений. По решению комиссии народные следователи Симбирского уезда были срочно откоман дированы на свои участки4.
С целью надзора за органами предва рительного следствия губернский отдел юстиции, как и уездные бюро, поручали народным судьям проверку следственных участков, для чего давали им соответству ющие предписания. Значительный вклад в совершенствование системы надзора народных судей за милицией, угрозыском и следственными органами внесли реше ния Второго губернского съезда народных судей, состоявшегося в октябре 1921 г. В принятом решении подчеркивалось, что народные суды слабо контролируют де ятельность милиции и следственных орга нов, представителей обвинения и защиты, были намечены пути улучшения этой работы. Съезд также обратился к губерн-ским органам власти с просьбой обязать органы милиции и ОГПУ унифицировать следственную деятельность, сверять ее с основными требованиями судопроизвод ства, не чинить препятствий народным судьям в ходе проведения ими своих над зорных функций5.
Как прав ило, камеры следователей (следственные отделы) состояли из 3 чел.: следователя, его секретаря и курьера. В результате проверки было выявлено сле дующее. Если по состоянию на 1 января 1922 г. в производстве оставалось с 1921 г. 36 дел, то с 1 по 5 мая 1922 г. прибавилось еще 29. За 4 прошедших месяца все дела, кроме четырех, были отправлены в суд. Из этих дел 2 были не закрыты по причине бегства подозреваемых. Еще одно дело было про -срочено по причине большого числа обви няемых и свидетелей по делу. Следователь работал в целом результативно, об этом, в частности, говорит тот факт, что из 29 поступивших в 1929 г. дел 4 были закон чены. Ревизор отмечал, что в 1922 г. в 3 раза возросла следственная нагрузка. Так, если по состоянию на 1 января 1921 г. в производстве было 34 дела, то за 1921 г. поступило 132 дела. В ходе проверки судья главное внимание обращал на пра вильность применения мер пресечения, сроки, в течение которых дела находились в производстве, а также на правильность выносимых следователями решений6. Народному судье 2 го судебного участка г. Симбирска В. Вишневскому было также поручено провер ить 1 й следственный участок. О том, какие вопросы в боль шей степени интересовали руководство губюста, можно судить по предписанию, полученному народным судьей. В числе главных вопросов были выделены про блемы, связанные с движением дел, нахо дящихся в производстве у следователей, особое внимание рекомендовалось уде лить делам, срок ведения которых превы шает 3 месяца.
В ходе проводимой ревизии данного следственного участка было выявлено следующее. Во первых, имелись отдель ные нарушения по ведению следственной документации, необходимых журналов. Во - вторых, неправильно велась книга вещественных доказательств. В - третьих, отмечена медлительность в проведении следственных действий по 52 делам, нача-тым в предыдущем году. В четвертых, хотя меры пресечения были избраны пра вильно, было отмечено, что следователи данного участка не всегда работали с долж ной оперативностью и добивались полу чения ответов на посланные в различные учреждения запросы. В ходе ревизии все высказанные замечания были устранены1.
Многие нарушения в работе следова-телей были во многом обусловлены их низкой квалификацией. Проведенная в Ардатовском уезде проверка показала, что в 4 следственных участках уезда ни один из народных следователей не имел специ ального юридического образования, хотя в уезде имелись опытные следователи, работавшие до революции, однако взять их на работу по ничем не обоснованным «классовым основаниям» запрещал уезд -ный исполком2. При проверке губернской следственной тюрьмы в январе 1922 г. комиссия выявила вопиющие факты, когда следователи, не предъявляя конкрет-ных обвинений, держали под арестом под -следственных, нарушая все сроки предва рительного заключения. Был установлен факт содержания под стражей гражданина Анкеулова в течение 10 месяцев! По всем этим вскрытым фактам были сделаны серьезные организационные выводы3.
Приведем некоторые другие факты противозаконной деятельности след ственных органов, выявленные в ходе проверок органами юстиции. Имели место факты репрессий по отношению к крестьянам со стороны органов милиции в ходе сбора продразверстки и так назы ваемого «чрезвычайного революционного налога». Методы, которые использовали для их сбора некоторые работники мили ции, были квалифицированы как «самые варварские». Имела место негодная прак тика, когда некоторые начальники мили ции в Симбирской и Самарской губерниях набивали небольшие помещения людьми и держали их там сутками, пока они не выполнят норму сдачи продовольствия.
По этим фактам приходилось применять незамедлительные жесткие меры, при влекать к ответственности зарвавшихся «блюстителей порядка»4.
К 1922 г. в основном был наведен поря -док в деятельности органов милиции, были пресечены случаи массовых бесчинств и преступлений, творимых в 1919—1920 гг. милиционерами, большинству выявлен ных фактов была дана принципиальная оценка. Однако в ходе проводимого над -зора за деятельностью органов милиции органам юстиции и НК РКИ приходилось сталкиваться и бороться с многочислен ными отступлениями от норм и буквы закона. Надзор осуществлялся как в ходе плановых ревизий, так и внезапных про верок5.
Проверка Ардатовского арестного дома, проведенная в феврале 1922 г. губернским отделом юстиции совместно с губернским отделом НК РКИ показала, что в уезде процветала незаконная практика помеще ния в арестные дома людей просто по уст ному приказу милицейских чинов. В дан ном учреждении было обнаружено трое незаконно содержащихся лиц, решение об освобождении которых из под стражи было принято незамедлительно6.
Таким образом, можно заключить, чо контрольная деятельность судов по отношению к следственным органам и милиции, направленная на соблюдение ими законности, была сильно затруднена рядом негативных факторов, среди кото рых можно назвать:
-
— несогласованность действий много -численных проверяющих структур;
-
— недостаточную квалификацию кадро-вого состава поднадзорных структур;
-
— низкий уровень проводимых ревизий;
-
— недостаточную требовательность к руководителям следственных органов и милицейским чиновникам, допускающим правонарушения.
Все это приводило к многочисленным нарушениям законности в этих органах.
Статья опубликована на средства гранта УлГПУ им. И.Н. Ульянова.