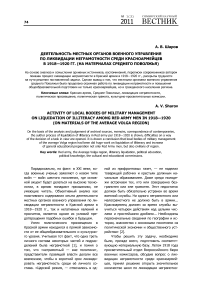Деятельность местных органов военного управления по ликвидации неграмотности среди красноармейцев в 1918-1920 гг. (на материалах Среднего Поволжья)
Автор: Шаров Александр Валерьевич
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (3), 2011 года.
Бесплатный доступ
На основе анализа и осмысления архивных источников, воспоминаний, переписки современников автором показан процесс ликвидации неграмотности в Красной армии в 1918-1920 гг., раскрыты трудности на пути решения поставленной задачи. Сделан вывод о том, что местными органами военного управления среднего Поволжья была проделана огромная работа по ликвидации неграмотности и повышения общеобразовательной подготовки не только красноармейцев, но и гражданского населения региона.
Красная армия, среднее поволжье, ликвидация неграмотности, политическое просвещение, политическая грамота, культурно-просветительные комиссии
Короткий адрес: https://sciup.org/14113587
IDR: 14113587
Текст научной статьи Деятельность местных органов военного управления по ликвидации неграмотности среди красноармейцев в 1918-1920 гг. (на материалах Среднего Поволжья)
Парадоксально, но факт: в XXI веке, когда военные ученые заявляют о новом типе войн — войн шестого поколения, где основной акцент будет делаться на высокие технологии, в армию попадают призывники, не умеющие читать. Объективный анализ как позитивного содержания опыта деятельности местных органов военного управления по ликвидации неграмотности в Красной армии в 1918—1920 гг., так и негативных явлений и просчетов, является одним из условий предотвращения подобных ошибок в будущем.
Успех политического просвещения в Красной армии находился в прямой зависимости от ее общеобразовательного и культурного уровня. Учитывая тот факт, что одна треть личного состава некоторых частей и подразделений была неграмотной [1], и помня о том, что «неграмотный — вне политики», представители правящей власти делали все возможное, чтобы в короткий срок ликвидировать неграмотность среди её личного состава. «Царский режим, — отмечалось в од- ной из прифронтовых газет, — не наделил товарищей рабочих и крестьян должным начальным образованием. Даже среди молодежи встречаем тех, кто или совершенно безграмотен или еле грамотен. Этот недостаток должен быть обязательно устранен во время военной службы. Ни одного неграмотного или малограмотного не должно быть в армии... Красноармеец должен за время службы выучиться четырем действиям над целыми числами и простейшими дробями... Необходимы первоначальные сведения по географии и истории, знакомство с основными понятиями из политической экономии и общественного устройства» [2].
Чтобы решить эту задачу, необходимо было, прежде всего, подготовить соответствующую материальную базу. Летом 1918 года просветительный отдел Всероссийского бюро военных комиссаров, обсудив вопрос о ликвидации неграмотности среди красноармейцев, принял решение открыть значительное количество школ по ликвидации неграмотно- сти в Красной армии [3]. В изданном «Временном положении о школах грамотности для красноармейцев» указывалось: «…школы для красноармейцев, содействуя общему культурному развитию, должны также вызывать стремление к самообразованию и самовоспитанию и способствовать: накоплению запаса знаний и навыков, необходимых как основание для самодеятельности в этом направлении; пробуждению личного классового и общественного миросозерцания; поднятию общего культурного уровня...» [4].
Несмотря на трудности, работа по открытию школ и ликвидации неграмотности в Красной армии постепенно приобретала более последовательный характер. Она охватила не только тыл, но и фронт. По числу вновь открытых в это время школ Приволжский военный округ шел на первом месте (103 школы) [3]. К работе в школах грамоты, которые осенью 1918 года стали создаваться при войсковых частях, госпиталях, в гарнизонах Поволжья, судя по докладам губернских органов военного управления, «привлекались педагогические силы городских Советов и агитационно-организационных отделов партии коммунистов» [5]. К концу года в Симбирском гарнизоне было создано 7 таких школ [6], а в Пензенском гарнизоне зимой 1919 года функционировали 8 солдатских школ [7].
В Симбирске, кроме того, при отделе просвещения губвоенкомата была открыта также и школа политической грамоты для солдат Красной армии с очень хорошими, по мнению губернского руководства, преподавателями. Размещалась она в Гончаровском доме (на Венце). Лекторами в школе состояли: председатель губсовета Варейкис, военком Гольман, комиссар народного просвещения Измайлов, редактор «Известий» Швер [8].
В целом, к концу 1918 года в Красной армии насчитывалось уже 566 школ по ликвидации неграмотности [9].
В одном из воззваний Политуправления РККА отмечалось: «Борьба с неграмотностью в Красной армии началась с момента ее зарождения. Еще в 1918 году и в начале 1919 года, несмотря на напряженную боевую обстановку, неграмотный красноармеец одновременно держал в своих руках и винтовку и букварь. Во время боев он действовал винтовкой, в перерывах между боями сидел за букварем» [9, с. 76].
По докладам с мест, «солдаты с удовольствием и большим интересом посещали школы в свободное от занятий время» [11]. Однако это мало соответствовало действительности. Так, зимой 1919 года в 7 солдатских школах Симбирского гарнизона было всего 39 слушателей [12], а в 8 школах Пензенского гарнизона — 27 обучаемых [13]. Кроме того, сама работа в них была не на высоте: неудовлетворительный состав преподавателей, отсутствие плана работы и программы. Позже преподаватели стали подбираться из инструкторского отдела Пензенского губернского военного комиссариата (бывшие офицеры). Из существовавших только одна школа третьей ступени (повышенного типа) при гарнизонном клубе (Интернациональная) была с очень хорошими, по мнению губернского руководства, преподавателями, обучавшими 100 слушателей [14].
Особенно интенсивный рост армейских пунктов ликбеза начался в 1919 году, после Декрета Совнаркома «О мобилизации грамотных и организации пропаганды советского строя» от 10 декабря 1918 года и принятого (примерно в те же дни) Всероссийским бюро военных комиссаров положения о школах грамотности в Красной армии. Согласно последнему положению организация и непосредственное руководство школами в армии возлагалось на культурно-просветительные комиссии воинских частей и подразделений.
Всероссийским бюро военных комиссаров была разработана и в декабре 1918 года рекомендована для реализации на местах схема организации культурно-просветительного дела в красноармейских частях, находящихся на фронте. В ней, в частности, отмечалось: «Работники культурно-просветительной комиссии, приступая к осуществлению своих задач, вначале выясняют число и составляют списки неграмотных красноармейцев, затем подыскивают помещение для занятий и, получив ассигновку на школу от политического отдела, заботятся о приглашении учителей и о снабжении школы всем необходимым», — отмечалось в приказе [15]. В соответствии с этим документом культурно-просветительными комиссиями могли быть открыты общеобразовательные курсы или школы повышенного типа для тех красноармейцев, которые захотят освежить и пополнить свои отрывочные знания.
Сами школы делились на три ступени: первая — для неграмотных, вторая — для малограмотных, третья — для грамотных. Каждая из этих ступеней, в зависимости от количества обучающихся, делилась на отделения по 10-15 человек. Соответствующими документами [16] предписывалось организовывать обучение грамоте в каждой роте. Ротные школы, если позволяли местные условия, объединялись в батальонные и полковые. Возглавлял школу совет из 3-х лиц: по одному представителю от учителей, обучающихся и представителя школьных секций культурнопросветительных комиссий [17]. Так, при отделе просвещения Пензенского губвоенкома-та функционировали объединенные школы грамоты в 1-м конном запасе и караульном батальоне. Кроме этого, были организованы школы при Доме просвещения, в 6-м запасном батальоне и 177-м госпитале, где занятия проводились с тремя группами: неграмотные, малограмотные и грамотные [18].
С целью регламентации всей системы по ликвидации безграмотности наряду с «Временным положением о школах грамотности для красноармейцев» была разработана «Инструкция об учреждении школ грамоты», в которой содержались программы для школ по русскому языку, литературе, математике, истории и географии [19].
Политическими органами воинских соединений, дислоцирующихся на территории Среднего Поволжья, сообразуясь с вышеуказанными документами, были изданы свои приказы и инструкции о работе школ. Так, политотделом Запасной армии Республики (штаб армии вначале находился в Симбирске, а затем в Казани) разработал «Инструкцию для учителей красноармейских школ и групп грамотности в частях». «Инструкцией» определялись задачи школы: «…а) дать красноармейцам основные элементы и грамоты родного языка, и начального счета; б) воспитать классовое сознание борца за социализм (подчеркнуто авт. — А. Ш. ) путем преподавания «Грамоты красноармейца» [20].
Инструкция предусматривала продолжительность занятий (3 недели) и обязательность посещения школ всеми неграмотными. Она давала также примерное «расписание уроков» [21].
Всего же за два месяца (к 1 марта) 1919 года в армиях Восточного фронта было соз- дано 150 культурно-просветительных комиссий, 76 школ грамотности, из них 3 мусульманских [10].
Новая, более качественная ступень в деле организации борьбы с безграмотностью в Красной армии намечалась приказом РВСР № 1415 от 4 сентября 1919 года «О ликвидации неграмотности среди красноармейцев» [22], в соответствии с которым, в целях скорейшей ликвидации неграмотности среди красноармейцев и для руководства по ведению занятий, в каждую часть должен был быть назначен или прикомандирован культурный работник (культурник [23]), по возможности из числа образованных красноармейцев данной части. Если их было недостаточно, то, по просьбе культурно-просветительной комиссии и политкома нуждающейся части, культурника прикомандировывали из другой части либо приглашали подходящих специалистов, не состоящих в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии. Документ предписывал всем культурно-просветительным комиссиям, политкомам и партячейкам в двухнедельный срок учесть всех безграмотных и организовать при каждой роте, батарее, эскадроне и команде занятия по ликвидации безграмотности [24].
В документе было определено также и время для занятий с неграмотными: 2—3 часа в неделю.
Применительно к способностям и развитию обучаемых, политическая грамота должна была вестись с неграмотными и малограмотными по особой программе. «Усилия всех культурно-просветительных комиссий полит-просветотделов и политических управлений, — подчеркивалось в приказе, — должны быть направлены к постепенной ликвидации безграмотности в Красной армии, для чего в обязанность каждой высшей просветительной инстанции, кроме руководства и содействия делу обучения, вменяется контроль за проведение в жизнь настоящего приказа» [25].
Из нижестоящих в вышестоящие инстанции политпросветотделов подавались соответствующие донесения, в которых имелись сведения, характеризующие ход и успешность занятий грамотностью в красноармейских частях.
Состоявшийся в декабре 1919 года Всероссийский съезд работников Красной армии обсудил проблемы ликвидации неграмотности. В его резолюции подчеркивалось, что
«неграмотность является серьезным препятствием к успешному осуществлению задач, поставленных Советской властью, с одной стороны, и к поднятию политического уровня широких красноармейских масс, с другой стороны» [26].
Особое значение в деле ликвидации безграмотности сыграл Декрет СНК от 26 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». Данным документом предписывалось привлечь к обучению все население Республики в возрасте от 8 до 50 лет.
На решение этих задач нацеливал и приказ по Запасной армии Республики № 334 от 29 февраля 1920 года. В нем, в частности, говорилось:
«1. Предписать всем ротным командирам частей под личную их ответственность совместно с культурно-просветительной комиссией в трехдневный срок произвести учет неграмотных в своих ротах…
-
3. Привлечь для обучения неграмотных всех красноармейцев, имеющих звание или опыт учителей и тех красноармейцев и комсостав, которые по своему образованию могут вести дело преподавания…
-
6. Занятия грамотой должны производиться ежедневно от 16 до 18 часов.
-
7. Предписать ротным командирам следить за тем, чтобы все неграмотные из них рот аккуратно посещали школьные занятия...» [27].
Ликвидация неграмотности проводилась с красноармейцами буквально везде: на работах по восстановлению железнодорожного транспорта, на лесозаготовках, в эшелонах при отправке на фронт. Так, военком 53 стрелкового полка Запасной армии Республики 28 октября 1920 года телеграфировал командиру: «...эшелон 53 стрелкового полка следует спокойно, дезертиров нет, настроение революционное, ликвидация неграмотности ведется усиленно...» [28].
Для удобства ведения работы по обучению красноармейцев политотдел Запасной армии Республики рекомендовал маршевые роты формировать из бойцов, сообразуясь со степенью грамотности [29].
В частях, где было несколько национальностей, создавались национальные школы. В среднем, ежемесячно в 1920 году в Запасной армии Республики функционировало: мусуль- манских школ — 37, чувашских — 19, венгерских — 3 и т. д. [30].
В течение 1920 года школьная работа оставалась основной в деятельности школьнокурсовой секции. По неполным данным, только в школах 1 ступени Запасной армии Республики в 1920 году был обучен 22 451 красноармеец [31].
Однако на пути к быстрому решению поставленной задачи стояли большие трудности.
В первую очередь, это политика большевистского правительства по отношению к старой интеллигенции, к которой В. И. Ленин относился крайне негативно [32]. Последняя, в свою очередь, не проявляла особого энтузиазма в решении рассматриваемой проблемы.
Вместе с тем сложившаяся ситуация, несмотря на открыто высказываемое недоверие к интеллигенции, заставляла советскую власть привлекать ее для решения вопроса ликвидации безграмотности.
Целый ряд обстоятельств, мешавших ликвидации неграмотности среди красноармейцев, носил объективный характер. Главным из них была нехватка опытных преподавателей. Об этом, в частности, свидетельствуют итоги ревизионной проверки воинских частей, находящихся в ведении Симбирского губернского агитпросветотдела Приволжского военного округа. В докладе окружной военной инспекции, ревизовавшей части, в частности по Сызранскому уезду отмечалось, что «…школ грамотности фактически нет, по причине отсутствия учителей…» [33].
Для восполнения преподавательских кадров органами военного управления изыскивались различные способы и возможности. Так, например, политотдел запасных частей 1 армии в июне 1919 года обратился к съезду учителей Пензенской губернии с просьбой выделить учителей для армии. Учительский съезд, собравшийся 14 июня 1919 года, постановил мобилизовать 10 % учителей в возрасте до 40 лет для работы в армии. Были мобилизованы 17 человек, 5 из которых командированы в распоряжение политотдела запасных частей [10]. Часть учителей для Запасной армии была прислана Саранским профсоюзом учителей.
Представляется принципиальным подчеркнуть, что мобилизация учителей в Пензенской губернии для обучения красноармейцев была проведена значительно раньше аналогичного постановления СНК (7 февраля 1920 года) и явилась показателем не только изменившихся взглядов учительства, но и ценной инициативой на местах.
В некоторых местах для ликвидации неграмотности красноармейцев учителя приглашались на время каникул. Такая инициатива была проявлена Сызранским уездным военным комиссариатом Симбирской губернии, которым было «…получено соглашение городского и уездного отделов народного образования о предоставлении в распоряжение агитпросвета до 100 учителей на время каникул для организации школ грамоты и школ политической грамоты…» [34].
Однако учителей всё равно не хватало. Это подтверждает тот факт, что даже к концу Гражданской войны, в 1920 году, в среднем в месяц в пределах Запасной армии Республики функционировало до 200 школ грамоты, а учителей в них было лишь 230 человек [35].
С целью подготовки учителей при политотделе Запасной армии Республики были открыты трехмесячные педагогические курсы, которые 1 июня 1920 года начали свою работу. Политотделом армии для курсов была разработана специальная программа, состоящая из теоретической и практической части, на которые отводилось 675 часов учебного времени.
В ряде случаев в дело обучения своих безграмотных товарищей вовлекались достаточно грамотные красноармейцы [19].
Также тормозила процесс обучения плохая учебно-материальная база. Отсутствие канцелярских принадлежностей, учебных пособий носило повсеместный характер. Командующий первой Конной армией С. М. Буденный в своих мемуарах пишет: «Обучение неграмотных было делом трудным. Не хватало учителей, бумаги, времени» [36]. О невозможности открытия школ грамотности из-за отсутствия пособий говорилось и в докладе военной инспекции Приволжского военного округа, ревизовавшей части, находящиеся в ведении Симбирского ГВК. «Школы грамоты и школы политической грамоты будут открыты, — отмечалось проверяющими, — как только будут получены бумага, перья, чернила, карандаши и учебные пособия» [37].
Приказ РВСР № 1415 от 4 сентября 1919 года «О ликвидации неграмотности среди красноармейцев» [38] обязывал политпро- светотделы и культурно-просветительные комиссии позаботиться о снабжении частей необходимым количеством учебных пособий, руководствами по обучению грамоте взрослых, а также письменными учебными принадлежностями. В приказе подчеркивалось, что «…их недостаток не должен был являться препятствием к началу организации занятий» [39], для проведения которых предлагалось использовать любую печатную продукцию. «Поступающие в часть газеты, воззвания и плакаты, — говорилось в приказе, — представляя в целом кратковременный интерес, должны быть, по миновании надобности, использованы с учебной целью — для разрезания азбуки и как материал при обучении чтению» [39].
Четвертая трудность — постоянное отсутствие личного состава из-за болезни, командировок или несения службы в карауле. Данные обстоятельства накладывали свой отпечаток на процесс ликвидации неграмотности среди красноармейцев.
Школьно-курсовое отделение политуправления Приволжского военного округа (ПриВО) упорно стремилось наладить положение дел с посещаемостью, привлечь в школы абсолютно всех неграмотных. Необходимо отметить, что, несмотря на отсутствие помещений для занятий и света, занятость красноармейцев караульной службой, страшную эпидемию тифа, пронесшуюся в 1919— 1920 годах, посещаемость в школах ПриВО к концу Гражданской войны выросла и была довольно высокой для военного времени (70—90 %) [9].
Важным событием в деле политического просвещения красноармейцев стал собранный по инициативе просветительного управления ПриВО в июле 1920 года окружной съезд политических и просветительных работников Красной армии. Наряду с организационными вопросами (учетно-статистического и финансово-снабженческого характера) окружной съезд обсудил ряд проблем культурнопросветительной работы, среди которых важнейшее место занял вопрос ликвидации неграмотности в Красной армии в мирных условиях. Особое внимание съездом было обращено на вопросы учета, организации массового обучения красноармейцев. Лучшей формой массового обучения съезд считал организацию отдельных рот и батальонов неграмот- ных. Для решения этой задачи необходимо было подготовить достаточное количество учителей. Съезд рекомендовал планомерную работу с учительством, организацию гарнизонных и районных собраний учителей; проведение пробных и показательных уроков, создание кратких методических курсов для учителей.
На съезде были четко определены цели школ всех трех ступеней, основная задача которых состояла не только в том, чтобы дать элементарную грамотность, но и «пробудить стремление к саморазвитию» [40].
Необходимо заметить, что материалы этого «большого мероприятия», впрочем, как и других, были подвергнуты «идеологической раскраске». Наряду с ликвидацией неграмотности, вышестоящие органы требовали от учителей «заложить основы классового и общественного миросозерцания» у обучаемых [40].
Учитывая тот факт, что в 1918—1920 гг. масштабы школьного дела в армейских условиях непрерывно росли (к осени 1920 года число пунктов по ликвидации неграмотности в Красной армии достигло приблизительно 3 700) [9], вышеуказанный съезд утвердил основную группу, готовящую работников для политико-просветительных организаций армии, которая, по мнению делегатов съезда, «поможет избежать распыленности сил на местах» [41].
Всего же, по имеющимся данным, в армейских пунктах ликвидации неграмотности только с января по осень 1920 года овладели грамотой более 107,5 тыс. бойцов. На каждую тысячу военнослужащих в Красной армии число грамотных увеличилось до 826 человек [9].
Вместе с тем не стоит забывать, что условия Гражданской войны не позволяли в полной мере выполнить требования Реввоенсовета относительно соблюдения принципа обязательности обучения: не было достаточного количества преподавателей, условий для последовательного осуществления программ обучения, да и сами школы нередко имели полевой, временный характер.
В заключение считаем исключительно принципиальным подчеркнуть следующее: ликвидация безграмотности среди личного состава Красной армии проводилась параллельно с политическим воспитанием в духе большевистской идеологии и являлась частью системы партийно-политической работы. Дан- ное обстоятельство предопределяло построение всей системы ликбеза в строгом соответствии с принципами классового подхода, который в результате проводимой политики большевистских идеологов стал универсальным способом поиска ответов на любые вопросы. Безусловно, при такой постановке решения проблемы ликбеза резко девальвировалась её гуманитарная составляющая. В результате, в Красной армии была создана не только единая система по обучению неграмотных и малограмотных красноармейцев, но и четкая структура руководства этим процессом под жестким контролем партии большевиков. Но, поскольку РКП (б) была правящей партией в Советском государстве, по-другому быть и не могло. Вместе с тем, постоянное пополнение армии коммунистами сыграло большую роль в ликвидации неграмотности среди личного состава. Так, если в 1919 году в рядах Красной армии воевало 120 тыс. коммунистов, то к 1920 году их насчитывалось уже более 300 тыс. человек [42]. Таковы исторические реалии. И не совсем уместно, на наш взгляд, ставить под сомнение положительный потенциал коммунистов, как это было модным в историографии начала 1990-х годов.
Можно по-разному относиться к деятельности органов государственной власти и военного управления в рассматриваемый период, но мы не можем отрицать огромной проделанной работы в деле решения вопросов ликвидации неграмотности и повышения общеобразовательной подготовки не только красноармейцев, но и гражданского населения региона.
-
1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 1426. Оп. 1. Д. 35. Л. 160; Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.
-
2. Известия Пензенского Совета. 1918. 26 июля.
-
3. Вырвич А. Красная армия в борьбе с неграмотностью. М., 1925. С. 18.
-
4. Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 9. Оп. 12. Д. 3. Л. 1.
-
5. ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.
-
6. ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 3. Л. 21.
-
7. Отдел фондов общественно-политических организаций Государственного архива Пензенской области (ОФОПО). Ф. 37. Оп. 1. Д. 76. Л. 31.
-
8. ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 2. Д. 4. Л. 35.
-
9. Гражданская война в Поволжье. 1918—1920. Казань, 1974. С. 410.
-
10. ОФОПО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 76. Л. 31.
-
11. ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.
-
12. ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.
-
13. ОФОПО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 76. Л. 31.
-
14. ОФОПО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 76. Л. 47.
-
15. РГВА. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 386.
-
16. РГВА. Ф. 212. Оп. 2. Д. 377. Л. 8.
-
17. РГВА. Ф. 9. Оп. 12. Д. 3. Л. 2.
-
18. ОФОПО. Ф.132. Оп. 1. Д. 13. Л. 9.
-
19. Партийно-политическая работа в Красной армии (апрель 1918 — февраль 1919 гг.): Документы. М., 1961. С. 71.
-
20. РГВА. Ф. 212. Оп. 2. Д. 8. Л. 38.
-
21. РГВА. Ф. 212. Оп. 2. Д. 8. Л. 39.
-
22. РГВА. Ф. 9. Оп. 12. Д. 3. Л. 1; Ф. 212. Оп. 2. Д. 377. Л. 8.
-
23. Так в тексте архивного документа ( Примеч. авт. ).
-
24. РГВА. Ф. 212. Оп. 2. Д. 377. Л. 8.
-
25. РГВА. Ф. 4. Оп. 3. Д. 57а. Л. 155 об.—156 об.
-
26. Политработник. 1920. № 1. С. 16.
-
27. РГВА. Ф. 212. Оп. 2. Д. 377. С. 9.
-
28. РГВА. Ф. 212. Оп. 2. Д. 70. Л. 92.
-
29. Бюллетени политотдела Запасной армии и Приволжского военного округа. 1920. № 7. С. 1.
-
30. РГВА. Ф. 212. Оп. 1. Д. 51. Л. 138—139.
-
31. Сагарев Л. П. Запасная армия Республики — источник формирования людских резервов для Красной Армии в годы Гражданской войны (1918—1920 гг.). Ульяновск, 1976. С. 72.
-
32. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 48.
-
33. ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 3с. Д. 1. Л. 110 об.
-
34. ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 3с. Д. 1. Л. 110 об.
-
35. РГВА. Ф. 212. Оп. 1. Д. 51. Л. 138—139.
-
36. Буденный С. М. Пройденный путь. Кн. 2. М., 1965. С. 46.
-
37. ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 3с. Д. 1. Л. 110 об.
-
38. РГВА. Ф. 9. Оп. 12. Д. 3. Л. 1; Ф. 212. Оп. 2. Д. 377. Л. 8.
-
39. РГВА. Ф. 9. Оп. 12. Д. 3. Л. 1.
-
40. Бюллетень ПриВО. 1920. № 6. С. 14; Гражданская война в Поволжье. 1918—1920. Казань, 1974. С. 414.
-
41. ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 5. Д. 11. Л. 34.
-
42. См.: Ворошилов К. Е. ХХ лет Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морского флота. М., 1938. С. 10.
Список литературы Деятельность местных органов военного управления по ликвидации неграмотности среди красноармейцев в 1918-1920 гг. (на материалах Среднего Поволжья)
- Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 1426. Оп. 1. Д. 35. Л. 160;
- Государственный архив Ульяновской области (ГАУО). Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.
- Известия Пензенского Совета. 1918. 26 июля.
- Вырвич А. Красная армия в борьбе с неграмотностью. М., 1925. С. 18.
- Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 9. Оп. 12. Д. 3. Л. 1.
- ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.
- ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 3. Л. 21.
- Отдел фондов общественно-политических организаций Государственного архива Пензенской области (ОФОПО). Ф. 37. Оп. 1. Д. 76. Л. 31.
- ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 2. Д. 4. Л. 35.
- Гражданская война в Поволжье. 1918-1920. Казань, 1974. С. 410.
- ОФОПО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 76. Л. 31.
- ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.
- ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.
- ОФОПО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 76. Л. 31.
- ОФОПО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 76. Л. 47.
- РГВА. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 386.
- РГВА. Ф. 212. Оп. 2. Д. 377. Л. 8.
- РГВА. Ф. 9. Оп. 12. Д. 3. Л. 2.
- ОФОПО. Ф.132. Оп. 1. Д. 13. Л. 9.
- Партийно-политическая работа в Красной армии (апрель 1918 -февраль 1919 гг.): Документы. М., 1961. С. 71.
- РГВА. Ф. 212. Оп. 2. Д. 8. Л. 38.
- РГВА. Ф. 212. Оп. 2. Д. 8. Л. 39.
- РГВА. Ф. 9. Оп. 12. Д. 3. Л. 1; Ф. 212. Оп. 2. Д. 377. Л. 8.
- РГВА. Ф. 212. Оп. 2. Д. 377. Л. 8.
- РГВА. Ф. 4. Оп. 3. Д. 57а. Л. 155 об.-156 об.
- Политработник. 1920. № 1. С. 16.
- РГВА. Ф. 212. Оп. 2. Д. 377. С. 9.
- РГВА. Ф. 212. Оп. 2. Д. 70. Л. 92.
- Бюллетени политотдела Запасной армии и Приволжского военного округа. 1920. № 7. С. 1.
- РГВА. Ф. 212. Оп. 1. Д. 51. Л. 138-139.
- Сагарев Л. П. Запасная армия Республики -источник формирования людских резервов для Красной Армии в годы Гражданской войны (1918-1920 гг.). Ульяновск, 1976. С. 72.
- Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 48.
- ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 3с. Д. 1. Л. 110 об.
- ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 3с. Д. 1. Л. 110 об.
- РГВА. Ф. 212. Оп. 1. Д. 51. Л. 138-139.
- Буденный С. М. Пройденный путь. Кн. 2. М., 1965. С. 46.
- ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 3с. Д. 1. Л. 110 об.
- РГВА. Ф. 9. Оп. 12. Д. 3. Л. 1; Ф. 212. Оп. 2. Д. 377. Л. 8.
- РГВА. Ф. 9. Оп. 12. Д. 3. Л. 1.
- Бюллетень ПриВО. 1920. № 6. С. 14;
- Гражданская война в Поволжье. 1918-1920. Казань, 1974. С. 414.
- ГАУО. Ф. Р-212. Оп. 5. Д. 11. Л. 34.
- Ворошилов К. Е. ХХ лет Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морского флота. М., 1938. С. 10.