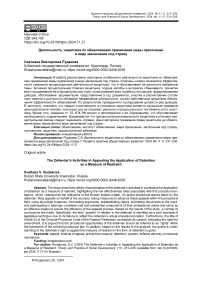Деятельность защитника по обжалованию применения меры пресечения в виде заключения под стражу
Автор: Рудакова С.В.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
В работе рассмотрены некоторые особенности деятельности защитника по обжалованию применения меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечены низкие показатели эффективности указанной процессуальной деятельности защитника, что и обуславливает актуальность выбранной темы. Активная процессуальная позиция защитника, подача жалобы в интересах обвиняемого, принятие мер к продвижению ее в процессуальном поле, использование всех судебных инстанций, формулирование доводов, обоснование, аргументация, представление в суд документов, участие в рассмотрении составляют важное и достаточно объемное направление деятельности, служат действенным средством обеспечения эффективности обжалования. По результатам проведенного исследования делается ряд выводов. В частности, отмечено, что термин «полномочия» в отношении защитника является неудачным примером законодательной техники, поскольку она не отражает реального процессуального положения этого участника. Кроме того, название ст. 53 УПК РФ входит в противоречие с ее содержанием, что обуславливает необходимость корректировки. Доказывается, что процессуальные возможности защитника в уголовно-процессуальном законе следует именовать «права». Дано авторское понимание права защитника на обжалование меры пресечения в виде заключения под стражу.
Обжалование, институт обжалования, мера пресечения, заключение под стражу, полномочия, защитник, процессуальный механизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149146603
IDR: 149146603 | УДК: 343.155 | DOI: 10.24158/tipor.2024.11.27
Текст научной статьи Деятельность защитника по обжалованию применения меры пресечения в виде заключения под стражу
,
,
В теории уголовного процесса вопросам участия защитника в процедуре обжалования посвящено значительное количество работ1 (Артамонов, 2019; Кронов, 2008). Вместе с тем комплексных и современных исследований в части рассмотрения деятельности защитника по обжалованию применения меры пресечения в виде заключения под стражу не осуществлялось.
В уголовном процессе избрание любой меры пресечения, том числе в виде заключения под стражу, всегда сопряжено с реализацией основополагающих принципов законности и обоснованности. По верному замечанию В.А. Семенцова, основная задача досудебной стадии – обеспечение законности и защита прав и свобод человека (Семенцов, 2013: 432). Деятельность защитника по обжалованию заключения под стражу в интересах обвиняемого (подозреваемого) направлена, в том числе, на решение обозначенной задачи.
Очевидно, что специфика процессуальной деятельности должностных лиц стороны обвинения предусматривает возможность ограничения конституционных прав, которое, как замечает О.В. Гладышева, возможно в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в том объеме, в каком это требуется для защиты конституционного строя, прав и законных интересов субъектов правоотношения, а также в целом для обеспечения безопасности страны (Гладышева, 2012: 123).
На необходимость неукоснительного и точного соблюдения и выполнения установленных законом условий и процедур избрания органами предварительного расследования, прокуратуры и суда мер пресечения указывает С.Б. Россинский (Россинский, 2024: 31).
О.А. Максимов заявляет, что институт ходатайств и жалоб сформирован именно из положений, связанных с обжалованием решений о заключении под стражу (Максимов, 2021).
В уголовно-процессуальной доктрине справедливо отмечается, что анализируемая мера пресечения является самой суровой по отношению к другим, которая в большей степени ограничивает в правах и свободах человека (Смирнов, 2017: 71). Помимо этого, обращено внимание на некоторые проблемы реализации такой меры пресечения, которые заключаются в излишней бюрократизации процедуры избрания, длительности рассмотрения уголовного дела, формализме при мотивировании решения, а также в гипертрофированности роли предварительного расследования перед судебным разбирательством (Калиновский, 2017: 37).
Положения уголовно-процессуального законодательства, а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ обязывают суды выбирать системный, пропорциональный и соразмерный подход к избранию меры пресечения, в том числе заключения под стражу, который будет обеспечивать баланс как публичных, так и частных интересов2. Однако практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев суды по ходатайству представителей обвинения применяют меры пресечения формально.
В целом, за последние 20 лет отмечается тенденция к снижению общего числа лиц, в отношении которых применяется самая строгая мера пресечения, вместе с тем за этот период процент несогласия суда с ходатайствами, обосновывающими необходимость избрания указанной меры пресечения, остается постоянным – 10 % (Каретников, Коретников, 2024: 49).
По статистическим данным, за 2023 г. судами удовлетворено 90 % ходатайств стороны обвинения об избрании заключения под стражу (82 480 из 93 357) и 98 % ходатайств о продлении указанной меры (175 259 из 179 259). Одна треть таких судебных решений обжалуется в апелляционном порядке, из них 98 % жалоб (86 494) и 2 % представлений (1 794)3.
Информационные показатели работы судов общей юрисдикции свидетельствуют о значительном проценте согласия суда с версией обвинения о применении рассматриваемой меры; о подавляющем количественном перевесе жалоб заинтересованных лиц (чаще всего защитника) на судебные решения об избрании меры пресечения в виде заключения (продление сроков стражи), а не представлений прокуроров.
Обращение к материалам правоприменительной практики позволяет констатировать неудовлетворительную ситуацию с обоснованием в мотивировочной части судебных решений необходимости избрания заключения под стражу и невозможности избрать менее строгую меру пресечения.
Формальный подход судов при принятии решения, существенно ограничивающего конституционные права обвиняемых (подозреваемых), противоречит правовым позициям Конституционного Суда РФ. В частности, Конституционным Судом РФ неоднократно указывается на необходимость осуществления судебного контроля при избрании рассматриваемой меры1, а при рассмотрении такой меры пресечения – на необходимость соблюдать требования справедливости и адекватности ограничения прав и свобод, баланса частных и публичных интересов2. Таким образом, именно суд, разрешая вопрос об избрании или продлении меры пресечения, должен основываться на анализе всех обстоятельств, имеющихся в материалах уголовного дела, осуществлять исследования как фактических, так и правовых оснований, которые исключают формальное принятия решения3.
Как указано выше, одной из проблем принятия незаконного решения в части избрания меры пресечения является формализм, который заключается в уклонении от изучения всех фактических обстоятельств, использовании стереотипных формулировок в обосновании принятого решения, которые не подтверждены предположениями о том, что лицо может скрыться в будущем от правосудия.
В подтверждение обозначенного тезиса приведем ряд примеров. В частности, в рамках уголовного дела адвокатом в апелляционной жалобе на постановление суда первой инстанции указывалось, что среди представленных в суд материалов отсутствовали те, которые бы подтверждали наличие оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В данной жалобе также изложено, что в нарушение п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 судом не проверены сведения, подтверждающие причастность подозреваемого к совершению преступления, а основанием для избрания меры пресечения являлось ничем не подтвержденное предположение обвинения о том, то лицо может скрыться от предварительного следствия. Суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу адвоката, указав в своем решении на замену меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест4.
Другой пример иллюстрирует эффективность обжалования адвокатом судебного решения, постановленного по результатам рассмотрения ходатайства следователя. Так, суд апелляционной инстанции, отменяя постановление районного суда о продлении срока содержания под стражей и удовлетворяя жалобу адвоката, указал, что суд первой инстанции, принимая решение о необходимости продления меры пресечения, не указал, какие именно данные о личности обвиняемого свидетельствуют о необходимости продления в отношении него срока содержания под стражей. Помимо этого, судом не было учтено, что с момента регистрации сообщения о преступлении и до задержания подозреваемый не совершал действий, которые бы были связаны с сокрытием от органов следствия, он находился по месту своего жительства и регистрации и не предпринимал попыток каким-либо образом воспрепятствовать производству по уголовному делу5.
Вышеуказанные примеры показывают квалифицированную работу защитников, которые способны объективно представить суду апелляционной инстанции аргументированную позицию, включающую фактические сведения, свидетельствующие о незаконности постановлений судов первой инстанции.
Требуется обратить внимание на то, что статистические данные свидетельствуют о низких показателях эффективности обжалования как применения, так и продления рассматриваемой меры пресечения. Так, за 2023 г. из 32 152 судебных постановлений отменено 942 и изменено 1 979 (с избранием менее строгой меры пресечения) постановления – около 9 %6. Считаем необходимым подчеркнуть, что дальнейшая процессуальная активность по обжалованию решений судов апелляционной инстанции имеет большое значение в вопросе повышения эффективности обжалования.
Основные процессуальные возможности защитника, реализуемые в целях защиты прав и законных интересов доверителя, – право на принесение жалобы, участие в судебном заседании по ее рассмотрению, предусмотрены п. 10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ1. Процессуальная деятельность адвоката в досудебном производстве, в том числе по обжалованию, осуществляется им от своего имени, на профессиональной основе2.
Нестандартное положение защитника обусловлено тем, что он защищает интересы представляемого им лица, действует по согласованию с подозреваемым или обвиняемым, не является должностным лицом, но, в отличие от участников с личным интересом, реализует профессиональные функции.
Защитник реализует полномочия или осуществляет права? Некоторые конструкции уголовно-процессуального закона допускают смешение этих неоднородных понятий. Так, наименование статьи 53 УПК РФ – «полномочия защитника», а часть первая указанной статьи сразу начинается со слов «защитник вправе». Иные законодательные конструкции имеются в статьях уголовно-процессуального закона применительно к должностным лицам, например: прокурор, следователь «уполномочен» (ч. 2 ст. 37, ч. 2 ст. 38). Кроме того, при осуществлении производства по делу, полномочия соответствующих должностных лиц обеспечиваются принудительной силой, особыми процессуальными возможностями, которых нет у защитника. Поэтому реализация защитником полномочий, а не прав в высокой степени сомнительна. Считаем, что смешение категорий в статье 53 УПК РФ, не тождественных по смыслу, нуждается в корректировке. Наименование статьи 53 УПК РФ противоречит ее содержанию, поэтому процессуальные возможности адвоката-защитника надлежит именовать «права».
Процессуальная деятельность защитника урегулирована не только Уголовно-процессуальным кодексом, но и соответствующим федеральным законом, а также актами органов адвокатского самоуправления. Так, п. 2 ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре3 предусматривает составление жалоб в качестве вида юридической помощи; ч. 4 с. 13 Кодекса профессиональной этики адвоката обязывает адвоката обжаловать приговор по просьбе подзащитного, а также если суд не разделил позицию защиты (ч. 4 ст. 13)4. Об обязанности подавать жалобу, за исключением письменного отказа подзащитного, говорит и п. 16 Стандарта оказания адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве5.
По общему правилу, вышеуказанная обязанность относится к обжалованию приговора как итогового процессуального решения. Учитывая значимость промежуточных процессуальных решений, которые способны существенно ограничить конституционные права доверителей, ряд адвокатских палат субъектов обязывает адвокатов обжаловать такие решения6. Пункт 1 Разъяснения № 02/20 Комиссии по этике и стандартам о некоторых вопросах полномочий адвоката при осуществлении защиты на стадии предварительного расследования указывает на обязательное обжалование защитником постановлений об избрании меры пресечения при наличии просьбы подзащитного или по собственной инициативе при наличии оснований7.
Обязанность, как правило, предписывает точное поведение и предусматривает негативные последствия за ее невыполнение или ненадлежащее выполнение. В случае обращения доверителя в органы адвокатского самоуправления с жалобой на бездействие адвоката по обжалованию приговора в апелляционном порядке адвокат привлекается к дисциплинарной ответственности, если указанные в обращении обстоятельства будут установлены в порядке дисциплинарного про-изводства8. Бездействие адвоката по обжалованию промежуточных судебных решений не во всех случаях является основанием привлечения его к ответственности. Так, например, адвокатская палата Ставропольского края разъяснила адвокату, что в случае назначения адвоката для участия в судебно-контрольном производстве (для рассмотрения ходатайства следователя о продлении меры пресечения) участие адвоката в деле ограничено рамками данной процедуры1.
Используемые в актах органов адвокатского самоуправления формулировки, думается, нуждаются в некоторых комментариях. Право предоставляет известную свободу процессуального поведения, включая инициативность, самостоятельность реализации. Соответствующими должны быть и процессуальные механизмы, которые законодательно определяют порядок осуществления права. Обязанность оставляет мало пространства для реализации самостоятельной деятельности. Обязанность означает предписание определенного правового поведения, исключая при этом альтернативность, какую-либо вариативность, возможность изменить правило.
Кроме того, ответ на вопрос, обязан ли адвокат обжаловать процессуальные решения в досудебном производстве по уголовным делам, в том числе при избрании меры пресечения судом, позволяет существенно скорректировать регулирование многих уголовно-процессуальных механизмов, предназначенных для реализации процессуального статуса защитника.
Различие между нормативными актами и актами органов адвокатского самоуправления отражается на определении содержания процессуального статуса защитника в институте обжалования. Полагаем, освободить защитника от обязанности подачи жалобы, в том числе в досудебном производстве, может только сам подзащитный в форме письменного заявления об отказе от обжалования.
По итогам изучения проблемных вопросов обжалования защитником применения самой строгой меры пресечения отметим главное.
-
1. Результаты проведенного исследования, данные судебной статистики свидетельствуют о низких показателях результативности обжалования защитником применения самой строгой меры пресечения. Вместе с тем активная процессуальная позиция защитника, подача жалобы в интересах своих подзащитных, принятие мер к продвижению ее в процессуальном пространстве, использование всех судебных инстанций, формулирование доводов, обоснование, аргументация, представление в суд документов, участие в рассмотрении являются важным и достаточно объемным направлением деятельности, который, несомненно, выступает эффективным средством обеспечения института обжалования.
-
2. Адвокат-защитник занимает особое положение среди участников уголовного судопроизводства. Он не наделен властными полномочиями, но является профессиональным участником; действует не в собственных интересах, его процессуальная деятельность направлена на защиту прав и интересов доверителя, кроме того, эта деятельность урегулирована не только уголовнопроцессуальным законом, но и соответствующим федеральным законом, а также актами органов адвокатского самоуправления, налагающими на защитника дополнительные обязанности; за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, в том числе по обжалованию, адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
-
3. Полагаем, использование разных по смысловой нагрузке терминов «полномочия» и «права» в статье 53 УПК РФ является некорректным, так как процессуальное положение защитника существенно отличается от положения должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование. Защитник не наделен властными полномочиями, подтверждением тому служат соответствующие статьи закона, где применительно, например, к прокурору, следователю, дознавателю используется понятие «уполномочен» (ст. 37, 38, 41 УПК РФ и др.). Наименование статьи 53 УПК РФ противоречит ее содержанию, поэтому процессуальные возможности адвоката-защитника надлежит именовать «права».
Список литературы Деятельность защитника по обжалованию применения меры пресечения в виде заключения под стражу
- Артамонов А.Н. Обжалование действий (бездействия) и решений органов расследования, прокурора в суд // Законодательство и практика. 2019. № 2 (43). С. 60-68. EDN: FWQUVH
- Гладышева О.В. Компетенция следователя по обеспечению законных интересов личности в досудебном производстве // Российский юридический журнал. 2012. № 6 (87). С. 122-132. EDN: PJWESL
- Калиновский К.Б. Обеспечение прав подозреваемого, обвиняемого при избрании и применении меры пресечения в виде заключения под стражу: проблемы совершенствования уголовно-процессуального закона и практики его применения // Применение меры пресечения в виде заключения под стражу: соблюдение прав и свобод человека и гражданина. СПб., 2017. С. 36-57.
- Каретников А.С., Коретников С.А. Причины сокращения практики использования ареста в качестве меры пресечения // Российский следователь. 2024. № 4. С. 44-49. DOI: 10.18572/1812-3783-2024-4-44-49 EDN: HJVQEE
- Кронов Е.В. Обжалование защитником действий и решений органа предварительного расследования как способ участия в доказывании по уголовному делу // Адвокат. 2008. № 11. С. 12-24. EDN: JVQWUB
- Максимов О.А. Место ходатайств и жалоб в современном уголовном процессе // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. № 52. С. 372-393. DOI: 10.17072/1995-4190-2021-52-372-393 EDN: TCTDYB
- Россинский С.Б. Требование об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого - причина скоропалительных и необоснованных обвинений // Российский следователь. 2024. № 2. С. 30-34. DOI: 10.18572/1812-3783-2024-2-30-34 EDN: IXVJEK
- Семенцов В.А. Избранные статьи по уголовному процессу. Краснодар, 2013. 593 с.
- Смирнов Д.Ю. Применение меры пресечения в виде заключения под стражу: соблюдение прав и свобод человека и гражданина // Применение меры пресечения в виде заключения под стражу: соблюдение прав и свобод человека и гражданина. СПб., 2017. С. 71-75.