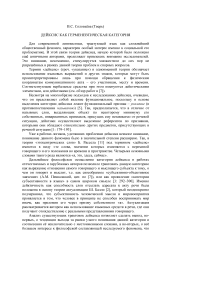Дейксис как герменевтическая категория
Автор: Соловьва Виталия Станиславовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Рефлексия и понимание в коммуникации
Статья в выпуске: 14, 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждается возможность герменевтического подхода к проблеме дейксиса. С точки зрения феноменологии дейксис можно рассматривать как герменевтическую категорию, представленную в языке и актуализующуюся в речи. Опыт говорящего выражается с помощью дейктических слов, относящихся к языковым единица любого уровня.
Дейксис, герменевтический опыт, субъективность, понимание, рефлексия
Короткий адрес: https://sciup.org/146120548
IDR: 146120548
Текст научной статьи Дейксис как герменевтическая категория
Уже в работах логиков, уделявших проблемам дейксиса немалое внимание, понимание данного феномена было в значительной степени расширено. Так, в теории «эгоцентрических слов» Б. Рассела [11] под термином «дейксис» имеются в виду «те слова, значение которых изменяется с переменой говорящего и его положения во времени и пространстве. Четырьмя основными словами такого рода являются «я, это, здесь, сейчас».
Дальнейшее философское осмысление категории дейксиса в работах отечественных и зарубежных авторов позволило трактовать данную категорию как выражение отношения самого говорящего и мыслящего субъекта к тому, о чем он говорит и мыслит, т.е. как своеобразное «субъективно-объективное значение» (А.М. Пешковский, цит. по [7]), или как проявление «категории субъективности в языке» в самом широком смысле [3: 292–300]. Именно дейктичность как способность слов отсылать адресата к акту речи была положена в основу теории актуализации Ш. Балли [2], который неоднократно подчеркивал, что субъективность человеческой мысли и мировосприятия проявляется в том, что человек в принципе не способен воспринимать мир иначе, как преломив его через призму собственного «я». Актуализация рассматривается автором как использование языковых средств в речи, где они получают отождествление с реальными представлениями говорящего.
Анализ существующих трактовок дейксиса позволяет сделать вывод, во-первых, о тенденции выхода за рамки узкого понимания данной категории и соотнесения её исключительно с местоименными словами, а во-вторых, о всё большем интересе к философской составляющей исследуемого феномена, что достаточно наглядно продемонстрировано в работах, выполненных в рамках коммуникативно-прагматического и функционально-семантического направлений в лингвистике [1, 8; 9, 6, 12].
Категорию дейксиса, фактически представляющую собой отсылку говорящего и слушающего к интерпретации совместного опыта [5], на основе которой только и может быть достигнуто понимание высказывания, на наш взгляд, правомерно трактовать не только как языковую универсалию, но и как герменевтическую категорию , заданную самим языком. Анализ коммуникативных высказываний со всей очевидностью демонстрирует не столько необходимость включения в него специфических характеристик лиц, участвующих в коммуникации, времени и места их взаимодействия, сколько принципиальную значимость понимания интерпретационной основы коммуникации как таковой.
Вполне очевиден тот факт, что для того, чтобы некоторое высказывание приобрело смысл, необходимо, чтобы оно было сказано кем-то о чём-то . При этом всё, что может быть сказано человеком, неизбежно субъективно, как субъективно феноменологичное в своей основе отношение человека к миру: всё сказанное окрашено опытом говорящего и, так или иначе, является опредмечиванием этого опыта. Учитывая, что в коммуникацию всегда вовлечены как минимум два субъекта, для того, чтобы некоторое высказывание приобрело смысл, необходимо также, чтобы оно было кем-то понято . Акт распредмечивания смыслов реципиентом столь же субъективен, сколь субъективен акт их опредмечивания продуцентом высказывания, поскольку понимание невозможно без органичного включения различных граней той «динамической совокупности огромного опыта, накопленного коммуникантом благодаря действованию и в действительности реальной, и в действительности коммуникативной, и в действительности невербального мышления» [4], которую в герменевтике называют рефлективной реальностью .
Так, предположим, в ходе коммуникации имеет место следующее высказывание: « Счастье – это когда тебя понимают ». В традиционной теории дейксиса внимание исследователя в приведённом высказывании непременно привлекли бы местоимения «это», «когда» и «тебя», уточнение которых в рамках заданного контекста снимает некоторую неопределенность высказывания. Из этого следует, что для понимания данного высказывания достаточно обратиться к конкретным условиям и физическим координатам коммуникативного акта (т.е. вспомнить, каким персонажем и в каких пространственно-временных рамках высказывание было порождено). Между тем, возникает вопрос: а достаточно ли определены для коммуникантов так называемые «назывные» слова счастье и понимать , которые к дейктикам не относятся?
Несмотря на то, что приведённое выражение с лёгкой руки героини кинофильма «Доживём до понедельника» стало почти крылатым, и его, казалось бы, понимают все, рассмотрим, как оно бытует и чем может быть наполнено в реальных коммуникативных условиях с участием реальных людей.
Коммуникант А, являющийся продуцентом высказывания, говоря о счастье и понимании, разумеется, использует данные лексические единицы в соответствии с собственным неповторимым опытом действования в условиях реальной действительности, действительности коммуникативной и действительности, связанной с понимающей деятельностью. Именно различные компоненты индивидуального опыта говорящего в неповторимых сочетаниях находят опредмечивание в акте говорения как виде деятельности. В рамках герменевтического подхода с опорой на схему мыследеятельности Г.П. Щедровицкого [13: 562] понятие деятельности принципиально связано с таким базовым понятием как рефлексия. Рефлексия представляет собой важнейший конструкт мыследеятельности и понимается как «установление связи между извлекаемым прошлым опытом и той ситуацией, которая представлена как предмет для освоения» [4: 16].
Так, лексема «счастье» как носитель зафиксированного в лексикографических источниках значения «чувство и состояние полного, высшего удовлетворения» [10], позволяет организовывать выход рефлексии к бытующему в культуре метасмыслу «счастье». Предположим, что для Коммуниканта А как носителя уникального личного опыта данная лексема, прежде всего, является средством опредмечивания таких элементарных частиц смысла, как «внутренняя наполненность», «гармония с миром», «любовь ко всему, что вокруг» и т.д. Лексема «понимать», имеющая значение «осмыслять, постигать содержание, значение чего-нибудь» [там же], в свою очередь, может осознаваться Коммуникантом А как обеспечивающая выход к смысловым компонентам «обнаружение того, что было скрыто», «рождение» и т.д.
Зададимся вопросом: насколько близкими реципиенту высказывания (Коммуниканту Б) окажутся опредмеченные в нем продуцентом (Коммуникантом А) элементы смыслов? Ведь Коммуникант Б, в чью задачу входит понимание высказанного Коммуникантом А, обращаясь к собственному, не менее уникальному, опыту, в ходе распредмечивающей деятельности с языковыми средствами данного высказывания может наполнить лексемы «счастье» и «понимать» смысловыми компонентами, которые вовсе не прогнозировались автором. Например, лексема «счастье» может положить начало интендированию, результатом которого станут смыслы «всеобъемлющая радость», «взрыв веселья» и т.д., а лексема «понимать», в свою очередь, станет основой задействования рефлексии над различными элементами собственного опыта, выводя Коммуниканта Б к усмотрению смыслов «преодоление», «трудный путь» и т.д.
Представляется, что ответить на вопрос о возможной степени близости опредмеченных и распредмеченных в приведённом высказывании смыслов весьма проблематично. С одной стороны, общность опыта действования в ситуациях реальной действительности («вместе выросли, вместе учились, вместе отдыхали»), близость опыта действования в действительности коммуникативной («читали одни и те же книги, а потом их обсуждали»), равный уровень сформированности понимающей готовности («оба ориентированы на преодоление непонимания»), несомненно, способствуют и большей общности конфигураций смысловых компонентов базовых метасмыслов в онтологической конструкции говорящего и слушающего. С другой стороны, даже при соблюдении приведенных условий индивидуальный опыт коммуникантов остаётся настолько неповторимым, что невольно возникают сомнения в возможности понимания как такового в ходе коммуникации таких непохожих людей.
Итак, насколько правомерно говорить о том, что лексические единицы «счастье» и «понимать» в приведённом высказывании «выражают постоянно присущие свойства объектов»,в отличие от дейктиков, передающих «шифтерные» категории, определяемые с точки зрения позиции говорящего? Представляется, что данные лексемы не столько называют нечто, сколько указывают на нечто, что в некотором смысле присутствует в акте коммуникации, а именно – в онтологической конструкции говорящего и онтологической конструкции слушающего. Другими словами, в рамках герменевтического подхода данные лексемы подпадают под приведённое выше определение дейктиков – в том отношении, что они фактически являются лишь указателями на смыслы, которые выстраиваются (опредмечиваются или распредмечиваются) коммуникантами самостоятельно в акте индивидуальной деятельности. Вне понимающей деятельности субъектов коммуникации рассмотренное высказывание распадается на значения составляющих его слов в рамках заданных пропозициональных структур. В этом смысле единицы языка вообще принципиально дейктичны – до того момента, когда их дейктичность как указание на те или иные грани опыта коммуникантов будет снята в конкретном речевом акте, в ходе которого неопределённость указания заменится определённостью смысла.