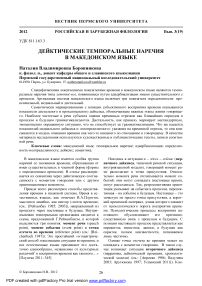Дейктические темпоральные наречия в македонском языке
Автор: Боронникова Наталия Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Лингвистика и межкультурная коммуникация
Статья в выпуске: 3 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
Специфическими лексическими показателями времени в македонском языке являются темпоральные наречия типа летото(-во), появившиеся путем адвербиализации имени существительного с артиклем. Артиклевая система македонского языка включает три показателя определенности: проксимальный, медиальный и дистальный. Семантически маркированными с позиции субъективного восприятия времени оказываются показатели дистального и проксимального дейксиса, обозначающие важные этапы жизни говорящего. Наиболее частотные в речи субъекта оценки временных отрезков как ближайших периодов в прошлом и будущем грамматикализуются. Дистальность, как правило, маркирует нестандартную, эмоционально окрашенную ситуацию, что не способствует ее грамматикализации. Что же касается показателей медиального дейксиса и «неопределенного» указания на временной отрезок, то они вписываются в модель описания времени как чего-то внешнего по отношению к говорящему. В качестве материала исследования используются художественные и публицистические тексты, записи спонтанной речи.
Македонский язык, темпоральное наречие, адвербиализация, определенность-неопределенность, дейксис, семантика, deiхis
Короткий адрес: https://sciup.org/14729146
IDR: 14729146 | УДК: 811.163.3
Текст научной статьи Дейктические темпоральные наречия в македонском языке
В македонском языке имеется особая группа наречий со значением времени, образованная от имен существительных в членной форме (формы с определенным артиклем). В статье рассматривается их семантика через дейктическую соотнесенность с моментом говорения или c другим ориентационным моментом.
Прежде всего рассмотрим способы представления времени в языковой системе. Время в естественных языках, как отмечает В.А.Плунгян, мыслится линейно, как вектор («поток времени» (см.: [Рейхенбах 1985; 2003]), направленный из прошлого через настоящее в будущее. Внутриязыковая темпоральная организация сводится к схеме, предложенной Г.Рейхенбахом, в которой выделяются три понятия: момент речи (speech point), момент события (event point) и точка отсчета во времени (reference point) (см.: [Reichenbach 1947]). Это простейший «эгоцентрический способ локализации ситуации во времени, и все естественные языки применяют его достаточно единообразно, независимо от культурных различий1 в восприятии времени как такового…» [Плунгян 2011: 345].
Находясь в ситуации я - здесь - сейчас ( первичного дейксиса , типичной речевой ситуации, внутриязыковой модели), говорящий момент речи располагает в точке присутствия. Относительно момента речи отсчитывается момент событий: они могут совпадать (настоящее время), могут расходиться. Так, ретроспективная ориентация указывает на событие в прошлом, перспективная – на событие в будущем. Настоящее – это зачастую не просто точка присутствия, а короткий временной интервал, длина которого зависит от психологического порога восприятия времени. Психологические процессы восприятия настоящего обусловливают его причинноследственную связь с прошлым и будущим. С позиции настоящего прошлое представляется как пережитое, известное, данное, а будущее как скрытое, полное неизвестности, познаваемое лишь частично.
Однако точка отсчета во времени может не совпадать с моментом говорения. В таком случае возникает ситуация вторичного дейксиса (нарратива, дейктической проекции, хронологической модели) (см.: [Апресян 1986; Падучева 2003; Арутюнова 1997; Успенский 2011]). Кон-
ституирующим свойством вторичного дейксиса, по мнению Ю.Д.Апресяна, «является несовпадение места говорящего с пространственной точкой отсчета» [Апресян 1986: 275]. Нарратор часто выбирает произвольную точку отсчета, на основании которой выстраиваются дейктические проекции. Следует отметить, что вторичный дейксис признается не всеми исследователями. Так, В.А.Плунгян утверждает, что «в нарративах, описывающих вымышленные события, отсутствует категория дейксиса, так как они не могут (и не должны) соотноситься с реальным пространством и временем адресата» [Плунгян 2011: 347]. Н.Д.Арутюнова также полагает, что хронологическая модель в своем стремлении к единству подавляет точку присутствия хрониста, располагая события на общей «линии следования». И не случайно поэтому в хрониках используется prae-sens historicum (см.: [Арутюнова 1997: 61)]. Однако некоторые случаи употребления дейктиче-ских элементов можно объяснить только с позиции вторичного дейксиса. Как отмечает Б.А.Успенский, вторичный дейксис не связан непосредственно с речевой ситуацией и представляет собой трансформацию первичного дейксиса в особом речевом режиме. Вторичный дейксис – это явление вторичного семиозиса, который предполагает не непосредственное соотнесение формы с содержанием, а соотнесение ее через другой знак, знак знака [Успенский 2011: 3].
Указание на время в языке обычно реализуется с помощью знаков, которые относятся либо к глаголу, либо ко всему предложению в целом. Ядром выражения временного дейксиса является глагольная категория темпоральности, включающая время и таксис. Практически во всех естественных языках существуют три формы времени: настоящее, прошедшее и будущее, являющиеся абсолютными значениями временных форм. Кроме них в некоторых языках существуют глагольные формы с относительным значением, связывающие действие не с моментом высказывания, а с каким-то другим произвольным моментом. В данном случае мы имеем дело с категорией таксиса. Таксис выражает одновременность действия с каким-либо заданным моментом, предшествование ему и следование за ним. Этот момент Г.Рейхенбах назвал точкой отсчета во времени (reference point). Значение таксиса может выражаться финитными и нефинитными способами (о способах выражения таксиса см.: [Плунгян 2011]).
Помимо грамматикализованных показателей в языках имеются лексические средства для выражения темпоральности, среди них – наречия времени. Как отмечал У.Вейрейх, количество наречий времени в языке коррелирует с количеством времен: «Возможно, является универсалией и тот факт, что временные наречия никогда не бывают менее дифференцированы, чем соответствующая система глагольных времен (другими словами, у глагола не может быть больше глагольных времен, чем имеется различий типа вчера , ... тому назад)» [Вейнрейх 1970: 179]. Часто наречия обладают синкретичной семантикой, однако имеется определенная зависимость в употреблении того или иного наречия от семантики глагольного времени.
Специфическими показателями времени в македонском языке являются новообразованные темпоральные наречия типа летото(-во) , появившиеся путем адвербиализации имени существительного в членной форме. Эти формы в языке существуют параллельно со старыми аккузативными вечер, летоска, есеноска и локативными лете, зиме, де^е и постепенно вытесняют их (см., например: [Велева 2006: 275]; [Конески 1995: 164]).
Адвербиализация членных форм имени для македонского языка (как и для других славянских языков) – явление не новое: имеются наречия, содержащие в своей семантике указание на определенный период в настоящем, ближайшем прошлом или будущем: ср. денес(ка) ‘сегодня’ - де^е ‘днём’, зимоска ‘этой зимой’ - зиме ‘зимой’, элемент -с восходит к древнейшему указательному местоимению со значением проксимального дейксиса, употребленному постпозитивно и перешедшему в суффигированный артикль (при имени в вин.п.) (подр. см.: [Илиќ 1960–1961; Кашић 1981–1982; Конески 1965]). В последнее время наблюдается увеличение группы членных наречий за счет транспозиции новых членных форм имени. Кроме того, в функции обстоятельств с темпоральным значением употребляются именные группы в членной форме (от наречий они отличаются местом ударения: ср. з ́ имава ‘эта зима’ – зимбва ‘этой зимой’ и наличием предлога) или с указательным местоимением. Семантика подобных лексических средств и является предметом нашего изучения. В качестве материала исследования были использованы художественные и публицистические тексты, а также некоторые записи спонтанной речи.
Среди «членных» наречий с семантикой тем-поральности наиболее частотны наименования календарных периодов, сезонов, времен суток, восходящих к древнейшим формам измерения космического времени: годината(-ва), сезона-та(-ва), зимата(-ва), летото(-во), пролетта(-ва), есента(-ва), декадата(-ва), месецот(-ов), неделата(-ва), викендот(-ов), денонокието(-во), нокта(-ва), вечерта(-ва), дента(-ва), утрината(- ва), утрото(-во), саба]лето(-во). Подобный способ образования наречий в македонском языке, по мнению С.Велевой, является довольно продуктивным; в настоящее время наблюдается тенденция к расширению области функционирования членной морфемы и в составе других наречий со значением времени: доцна - доцната ‘поздно’, касно - касното ‘поздно’, рано - ра-ното ‘рано’, ланилето - ланилетото ‘прошлым летом’, вчеранавечер - вчеранавечерта ‘вчера вечером’, утреден - утредента ‘завтра днём’. Это явление особенно характерно для разговорного стиля и отдельных жанров публицистического стиля (см.: [Велева 2006: 275–276]). Однако, как показывает материал, подобные явления из разговорной речи широко проникли не только в публицистику, но и в художественную литературу.
Рассмотрим дистрибуцию членных наречий. В письменной речи, где особенности акцентуации не выражены, определить разницу между омонимичными формами имени и наречиями можно лишь по выполняемой ими синтаксической функции. Имя чаще занимает позицию подлежащего (1) или дополнения (2). В позиции обстоятельства может употребляться как наречие, так и имя с предлогом, дифференцировать имя и наречие в данном случае позволяет наличие / отсутствие предлога (3):
-
(1) Денонокието дома ни стана детерминирано од дневната прогноза: «На забавата што ке ]а приредува вашето друштво ве очекува романтична средба...» ‘Эти сутки для нас были предопределены гороскопом на день: «На вечеринке, которую организует ваша компания, вас ожидает романтическая встреча...’ (Мих.-Георг., 56);
-
(2) Стигна писмо од мама: вели дека ке ни до]де на гости да го мине летово со нас! ‘Пришло письмо от мамы. Говорит, что приедет в гости, чтобы провести с нами это лето’ (Пуст. турск.);
-
(3) Второ, во овоj вторник го гледавме Цавид Хасани. КФОР го уапсил на Косово. Пак!? На-мерно ли вака не заебаваат? И што сега да му правиме на Хасани? Пак ке треба да ни го пре-дадат, неговите пак ке ни дрпнат неколку во]ници, ние ке го трампиме за нив, то] ке ни плати 200.000 марки кауци]а и ке фати магла на Косово. ‘Во-вторых, в этот вторник мы следили за Джавидом Хасани. КФОР (KFOR (англ. Kosovo Force) - международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово. - Н.Б. ) опять его арестовали в Косово. Опять?! Специально нас разыгрывают? И что теперь делать с Хасани? Его снова выдадут нам, его сторонники опять сунут в
обмен на него несколько солдат, мы опять обменяем его на них, он выплатит 200.000 марок в залог и скроется в Косово’ (Мац., 120).
В случае адвербиализации лексема (без предлога) характеризует ситуацию целиком и выполняет функцию обстоятельства: (4) Сакам ноква да те сакам / Сакам ноква да ме сакаш / Сака] ноква да те сакам / Сака] ноква да ме сакаш. ‘Я хочу этой ночью тебя любить / Я хочу, чтобы ты любила меня этой ночью / Пожелай, чтобы я любил тебя этой ночью / Пожелай любить меня этой ночью’ (Тод.).
Интересно, что в именной группе с указательным местоимением в функции обстоятельства также часто наблюдается опущение предлога, что говорит об общей тенденции к обозначению обстоятельства времени в македонском языке: (5) Вистината за мене, то] час , беше ]асна. Дента требаше да се формализира пресудата и истата вечер да се изврши. ‘В тот час истина для меня стала ясна. Днём нужно было вынести приговор и в тот же вечер привести его в исполнение’ (Чаш., 47).
Как известно, членная форма в македонском языке видоизменяется в зависимости от того, на какой звук оканчивается общая форма им. сущ., в некоторой степени форма артикля зависит от грамматического рода и числа им. сущ., ср. например: ден (м.р.) - ден от , но дедо (м.р) - дедо- то ; маса (ж.р.) - маса та , но вечер (ж.р.) - ве-чер та , денови , вечери (мн.ч.) - денови те , вече-ри те , но мориња (мн.ч.) – мориња та (подробнее см.: [Усикова 2003; 2005]). При транспозиции имени существительного в прилагательное эти особенности сохраняются. Исключение составляет наречие ден та ‘днём’ от сущ. ден(- от ) (м.р.), где членная форма ж.р. - та выступает как своеобразный показатель адвербиализации (ср. вечер та , ноќ та ).
Особенностью наречий типа лето то является способность сохранять при себе определение, что свидетельствует о первоначальной грамматической семантике единицы (членная морфема при этом перемещается на определение): (6) Ра-ботите станаа многу посложени последнава година , откако Службата за говорни автомати воведе два нови бро]а на кои во секое време мо-жат да се слушаат приказни за деца и хоро-скопски прогнози. ‘В последний год, с тех пор как служба голосовых автоинформаторов ввела два новых номера, по которым в любое время можно послушать сказки для детей и гороскопы на день, проблем стало больше’ (Мих.-Георг., 37).
Вопросы о составе этой группы наречий и специфике адвербиализации имени существительного могут стать предметом отдельного ис- следования. Нас в данном случае интересует дейктическая семантика темпоральных наречий македонского языка.
Дейктическая система македонского языка трехчленна, она включает универсальные показатели проксимальности ( - в ) и дистальности (- н ) и третий компонент, промежуточный, медиальный, назначение которого состоит в указании не столько на степень удаленности предмета от говорящего, сколько на его известность (- т ). Однако и он способен в ряде случаев выполнять пространственную функцию. При рассмотрении дейктических показателей с позиций ролевого дейксиса становится очевидной сфера его действия – это указание на собеседника (второе лицо). Показатели же с - в указывают на пространство говорящего (первое лицо), а показатели с - н – на предмет речи (сферу третьего лица, не-участника речевого акта). Трехчленное указание регулярно представлено в системе указательных местоимений македонского языка, членных форм имен, спорадически – в системе наречий и других частей речи (подр. см.: [Конески 1957; Тополињска 2007]).
Можно предположить, что показатели дистального дейксиса отсылают к определенному моменту в прошлом, показатели проксимального дейксиса маркируют момент в настоящем, а показатели нейтрального дейксиса указывают на некий известный обобщенный момент. Так, С.Велева в своей монографии отмечает, что между наречиями типа зима ва и зима та существует семантическое различие. Наречия наподобие зима ва , лето во , вечер ва получают ограниченное, фиксированное темпоральное значение. Их парафраз будет выглядеть следующим образом: ‘этой зимой, этим летом, этим вечером’, а наречия зима та , лето то , вечер та характеризуются более общей временной отнесенностью (ср.: Ле-то во имаше многу дождови ‘Этим летом было очень дождливо’ – Само лето то си одевме дома ‘Только летом мы ездили домой’) [Велева 2006: 275].
Рассмотрим значение каждого из типов дейк-тических единиц.
-
1.1 . Маркеры дистального дейксиса . Маркеры дистального дейксиса в составе наречий не используются, встречаются только именные группы с указательными местоимениями оноj ( она , онаа , оние ) в обстоятельственном значении. (В.Илич отмечает, что членные формы типа ден он , лето но , зима на в принципе не обычны в македонском языке, даже и в функции имени существительного [Илиќ 1960–1961].)
-
(7) Јас во она време партизанското кога беше, во ту-време беф во Бугарија. ‘А в то время,
когда партизанское-то движение было, тогда я был в Болгарии’ (ТЗО, 38);
-
(8) Оној ден кога требаше да тргнам на мојот прв училишен час, стравот ме натера да из измолам моите родители да ме дозволат да останам дома . ‘В тот день, когда я должна была отправиться на свой первый урок в школе, я со страху стала умолять родителей оставить меня дома’ (Смил., 45).
Из примеров (7), (8) видно, что ситуация, маркированная показателем оноj , относится к событиям прошлого, момент речи и момент событий не совпадают, нарратор выступает как участник событий в прошлом (использует свидетельские формы прошедшего времени), осмысляющий их заново в момент наррации. Как правило, ситуация в прошлом, маркированная с помощью показателя дистальности, имеет особое значение для говорящего. Особенно ярко это видно на следующем примере из романа современного македонского писателя Г. Смилевского «Сестра Зигмунда Фрейда»:
-
(9) Гледав во неа, претчувствував дека тоа е нејзината последна ноќ. И се сетив на ноќите на очај од мојата младост , од она време кога мајка со крвничко уживање тураше сол на от-ворената рана на мојата душа, се сетив дека во тие ноќи копнеев по оваа ноќ , по нејзината по-следна ноќ – тогаш , десетина илјади ноќи пред оваа ноќ , посакував одмазда, и единствената одмазда можеше да биде во мигот на нејзина најголема немоќ, во нејзината немоќ пред смртта, да ја потсетам на мојата немоќ, на нејзиното sверство во моето страдање. И сега гледав во оваа Амалиjа коjа немаше ништо за-едничко со онаа Амалија , немоќта на оваа жена која умираше ме потсетуваше на мојата неко-гашна немоќ, а јас не сакав, или не можев, во себе да го разбудам sверството кое во себе не-когаш го имаше таа и со кое ме тераше да тонам си подлабоко и подлабоко, sверството со кое – ако го разбудев во себе – навистина ќе бев нејзината ќерка . ‘Смотря на неё (мать. – Н.Б. ), я предчувствовала, что это её последняя ночь. Я вспомнила ночи отчаяния своей молодости, того времени, когда мать с кровожадным наслаждением сыпала соль на открытую рану моей души, я вспомнила, что в те ночи я мечтала об этой ночи, о её последней ночи. Тогда, десять тысяч ночей назад, я жаждала отмщенья, и лучшая месть могла произойти в миг её величайшей слабости, в предсмертный миг, когда я могла бы напомнить ей о своём страдании и о её беспощадности к моей слабости. И сейчас я смотрела на эту Амалию, у которой не было ничего общего с той Амалией. Немощь умирающей женщины напоминала мне о моей давней слабости, а я не хоте-
- ла, не могла пробудить в себе то зверство, которым она когда-то обладала и которое заставляло меня вязнуть все глубже и глубже. Если бы я разбудила в себе это зверство, я бы действительно стала ее дочерью’ (Смил., 167).
Героиня романа, Адольфина Фрейд, повествует о своей судьбе. Этот отрывок демонстрирует классическую ситуацию вторичного дейксиса, когда героиня как субъект восприятия и субъект наррации помещается в два различных временных пласта: тот момент, который дейктически маркируется как ближайший, актуальный (с помощью показателей проксимального дейксиса), в реальности находится в прошлом, об этом свидетельствуют формы имперфекта. И героиня переживает это событие, представляя, что бы произошло, если бы она изменила свое решение, используя формы будущего в прошедшем со значением ирреального условия. И именно этот момент она противопоставляет моменту в далеком прошлом, заново переживаемому эмоционально (обозначен с помощью средств дистального дейксиса).
-
1.2 . Маркеры проксимального дейксиса . Маркеры проксимального дейксиса используются в гораздо большем числе контекстов со значением времени, чем маркеры дистального дейксиса. В ситуации первичного дейксиса они указывают на настоящий момент: (10) Иначе, овдека во востанието си имаја дружество. Во друже-ството си беја од Јанковци, од Милета, Кгрстета Јанка татко му, не- ми-теквит во моментŏв как’ се викаше… Си имам и доста слики нифни шо се дружел татко ми со друга-рите, ама не ми теквет во моментŏв имината. ‘Вообще, здесь у участников восстания была своя компания. В компании были члены семьи Янко, Миле, отца Крсте Янко, не могу вспомнить сейчас, как их звали… У меня куча фотографий друзей моего отца, но имен вспомнить сейчас не могу’ (ТЗО, 98).
Настоящее редко маркируется как момент, миг, чаще используются лексические показатели, указывающие на определенную протяженность обозначаемого периода. Длина периода определяется лексическим значением наречия, ср.: (11) «Поминете го највеселиот Божиќ досега», из-викува често деновиве мојата омилена кутија во мојата омилена спална соба. Телешоп. Еден од доказите дека најраспространет елемент во вселената не е водород, туку глупоста . ‘«Проведите самое веселое Рождество из всех, какие были до этого», – выкрикивает в последние дни мой любимый ящик из моей любимой спальни. Телешоп. Одно из доказательств, что самый распространенный элемент во вселенной – это вовсе не водород, а глупость’ (Мац., 75).
Кроме того, показатели с - в могут маркировать момент/период в прошлом, осмысляемый говорящим как ближайший. Он заканчивается непосредственно перед моментом говорения или же включает его в себя как составную часть. Результаты события, произошедшего до момента говорения, актуальны и сейчас. Степень протяженности временного отрезка зависит от воли говорящего. Тексты подобного типа представляют собой пересказ ситуации, говорящий являлся непосредственным участником событий:
-
(12) Во нашиот си главен град очигледно по-следниве години се почесто можеш да сретнеш луѓе од секаков профил. Верувајте воопшто не мислев на нивната финансиска состојба или уште помалку политичка припадност. Она што ми беше на ум е нивната психичка или ако баш сакате, ментална состојба на умот. Мора да признаам на моменти дури и да се запрашаш да не избегале можеби од некоја институција. После неколкучасовно возење, токму вака размис-лував. Од првиот патник бев вербално нападнат поради тоа што откако ја нарачал колата мо-рал да стои на сонце дури седум минути. Јас се-пак возам автомобил, а не авион?! Вториот уште при само влегување почна да критикува се живо, за на крај и јас да дојдам на тапет. И тоа замислете поради тоа што во моментов во колата немав влажни марачиња. Инаку човекот бил премногу педантен, па после излегување од колата требало да си ги избрише рацете. Неба-ре, по пат ми ги чистел седиштата. ‘В нашей столице в последние годы, очевидно, ты можешь встретить людей любого типа. Верьте мне, я вообще не имел в виду их финансовое положение, а еще меньше – их политические убеждения. Речь идет об их психическом, а точнее, ментальном состоянии. Временами я даже спрашиваю себя: не сбежали ли они из специализированного учреждения? После нескольких часов езды я именно так и думал. Первый пассажир напал на меня вербально, потому что после того как заказал машину, он вынужден был стоять на солнце целых семь минут. Но я все-таки водитель такси, а не самолета ! Второй еще при посадке начал критиковать всё и вся, в конце концов пришла и моя очередь. И, подумайте только, из-за того что в этот момент у меня в машине не было влажных салфеток. Очень педантичный человек попался: при высадке из машины ему потребовалось вытереть руки. Словно всю дорогу он мне чистил сиденья’ (Вечер).
Еще один тип контекстов, где встречаются лексические средства с показателем проксималь-ности, связан с ближайшим периодом в будущем (прогрессивная ориентация):
-
(13) Што да го замолам Коки кога ќе се сретнеме вечерва ? Кого да ми го поздрави на оној свет? Морам да си направам список. Имам премногу за поздравување. Таму имам повеќе што би сакал да ги поздравам, отколку тука, меѓу живите . ‘О чем попросить Коки, когда мы встретимся с ним сегодня вечером? Кому же передать привет на том свете? Я должен составить список. Мне много кому нужно передать привет. Там гораздо больше тех, кого я бы хотел поприветствовать, чем здесь, среди живых’ (Џамб., 93);
-
(14) Г’нго почнал да ги шета улиците на све-тот и да бара корка сува леб, си додека еден ден, враќајќи се дома не беше нашол на масата тегла полна топло слатко од рози. Набрзина, среќен, го изел слаткото и легнал да спие. Него-вата жена го разбудила, за да му рече дека слаткото го направила: «Скини овде цвет, скини онде роза, донеси дома и направи слатко!» Кога го слушнал ова, moj скокнал од сон и рекол: « Ве-черва одиме во лов на розите» . ‘Гынго начал бродить по свету в поисках сухой корки хлеба до того дня, когда, вернувшись домой, не обнаружил на столе банку, полную розового варенья. Счастливый, он быстро слопал варенье и лег спать. А жена разбудила его, чтобы сказать, что наварила розового варенья: «Тут сорви цветочек, там розочку, принеси домой – и свари варенье!» Услышав все это, он мгновенно проснулся и сказал: «Сегодня вечером мы идём охотиться на розы»’ (Лаф., 123).
-
(15) Едно неделно претпладне откако стана-ле од спиење, се чу гласот на домаќинот Сотир: – Ајде, домаќинке, и ти снао, повјасајте спре-мете доручек да се накркаме па потоа ќе одиме во Градско Поле! Време е да го погледнеме нив-чето! Што сторивме ние откако се зафативме со куќа правење. Не помисливме ни на нивчето ни на лозјенцето. Време е есенва нешто и да сработиме . ‘В один воскресный полдень, проснувшись, они услышали голос хозяина Сотира: «Ну же, хозяйка, и ты, сноха, поторопитесь, приготовьте завтрак, перекусим, а потом пойдем в Градско Поле. Пришло время посмотреть, что с нивой! Мы совсем ее забросили, когда занялись строительством дома. Не подумали ни о ниве, ни о винограднике. Этой осенью нужно что-то с ними сделать»’ (Христ., 87). Говорящий предполагает, что действие произойдет в ближайшем будущем, на что указывает форма глагола: будущее время (см. 13), настоящее в функции будущего (см. 14), да-конструкция сов.в. (см. 15), или планирует что-либо совершить. Как и в предыдущем случае (с прошедшим временем), маркируется ближайшая дистанция, только действие направлено в будущее. Если же говорящий не уверен в том, что действие произойдет в бли-
- жайший обозримый период, если оно осмысляется им как какая-то «типовая», повторяющаяся ситуация, он использует так называемые «неопределенные» темпоральные показатели: (16) Зиме sвездите се побели, недопирливи. ‘Зимой звезды белее и недоступнее ’(Jанев., 23).
-
1.3 . Наречия с медиальным показателем , встретившиеся в нашем материале, используются в контекстах прошедшего времени, в которых описывается конкретная ситуация, известная говорящему и слушающему. Назначение членной формы в данном случае заключается в том, чтобы подчеркнуть определенность временного периода, о котором идёт речь в высказывании (сема близости-удаленности момента действия от момента высказывания не актуализируется). Указание на степень удаленности момента, о котором идет речь, происходит за счёт использования других средств, например, наречия лани ‘в прошлом году’ (17):
-
(17) Гувернерот внимателно ја ислушал испо-ведта на мојот познаник а потоа срамежливо се надоврзал на неа: «Знаете јас лани летото бев во Скопје. Драг мој во споредба со климата во вашиот град Манитоба е рај»! ‘Губернатор внимательно выслушал исповедь моего знакомого, а потом застенчиво добавил: «Знаете, я прошлым летом был в Скопье. Дорогой мой, по сравнению с климатом в вашем городе Манитоба – рай!»’ (Мац., 56);
-
(18) Тука, како што рече баба Ташка, во по-стелата на баба ми Маца, прегрнат со нејзината перница го нашле дваесет и првата утрина од нејзината смрт, заминат кај неа. За да остане за нас, за мене, за моите ластари: како Тој од големиот портрет. Мојот дедо Димко. Кандилото пред иконата, утрината , го нашле изгаснато . ‘Тут, как рассказывала баба Ташка, в постели моей покойной бабушки Мацы, его и нашли мертвым в обнимку с её подушкой на двадцать первое утро после ее смерти. Для нас, для меня, для моих потомков он всегда останется Тем с большого портрета. Моим дедушкой Димко. Лампада перед иконой тем утром тоже погасла’ (Чаш., 56).
Итак, как показывает материал, образование дейктически маркированных темпоральных наречий ограничено только именами (именными группами) с показателями проксимальности и медиальности. Дистальность в проанализированных текстах маркируется сочетанием имени с указательным местоимением оно]. Речь идёт о каком-то значимом для говорящего факте в отдаленном прошлом, результаты которого актуальны на настоящий момент. Ситуация, как правило, нестандартная и воспринимается говорящим эмоционально, что не способствует грамматикализации подобных сочетаний.
Наречия с показателем - в обозначают временной отрезок, относящийся к ближайшему прошлому или будущему либо совпадающий с моментом речи. Прошлое воспринимается как отрезок, который заканчивается непосредственно в момент говорения или же включает его. В некоторых случаях момент говорения обозначает актуальное настоящее, проецируемое в будущее. Будущее осознается как обозримая дистанция, познаваемая и вполне реальная с позиции осуществления каких-либо жизненных планов.
Если же речь идет о каких-то абстрактных ситуациях, регулярно повторяющихся действиях, далеком будущем, используются немаркированные лексические показатели темпоральности ( лете , зиме ). Неотмеченными с точки зрения субъективного восприятия временной дистанции или отрезка (точки) времени оказываются и показатели медиального дейксиса, используемые при описании известных слушающему фактов.
Таким образом, семантически маркированными с позиции субъективного восприятия времени оказываются показатели дистального и проксимального дейксиса, обозначающие определенные «вехи» жизненного пути говорящего. Наиболее частотные средства обозначения времени как ближайших периодов в прошлом и будущем в македонском языке грамматикализуются. Что же касается так называемого медиального дейксиса и «неопределенного» указания на временной отрезок, то они, скорее всего, входят в модель описания времени как чего-то внешнего по отношению к говорящему.
Список источников с сокращениями
Jанев. – Јаневски С . Две Марии. Скопје: Ма-кедонска книга, 1967. 142 с.
Лаф. – Лафазановски Е . Благородник. Скопје: ЗОЈДЕР, 1997. 141 с.
Мац. – Мацановски – Трендо С . Трендоленд. Скопје: Табернакул, 2011. 680 с.
Мих.-Георг. – Михајловска-Георгиева J. Огле-дала: лудо билје. Скопје: Табернакул, 1994. 209 с.
Пуст. турск. – Пусто турско // Нова Македонија: URL: http://www.novamakedonija . com.mk. (дата обращения: 12.03.2012).
Смил. – Смилевски Г . Сестрата на Зигмунд Фројд. Скопје: Дијалог, 2011. 316 с.
ТЗО – Така се зборува во Охрид / прир. Л. Гушевска и Л. Минова-Ѓуркова. Скопје: Фило-лошки факултет «Блаже Конески», Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, 1999. 196 с.
Тод. – Тодоровски Г . Љубовна // URL: =inauthor%3A%22Gane%20Todorovski (дата обращения: 21.05.2012).
Христ. – Христовски М . Недопирлив хори-зонт. Битола, 2011. 163 с.
Чаш. – Чашуле К . Само сказни: за родот и за себеси. Скопје: Мисла, 2000. 308 с.
Џамб. – Џамбазов И . Гол човек (Arbutus Andrachne). Скопjе: Танграм, 2005. LV с.
Reader of General and Slavonic Linguistics Department
Perm State National Research University
Specific lexical time indicators in the Macedonian language are temporal adverbs like летото (- во ), which are formed due to adverbialization of the noun with the definite article. The system of the articles in the Macedonian language includes three indicators: proximate, medial and distal.
Список литературы Дейктические темпоральные наречия в македонском языке
- Вечер -Такси приказни//Вечер: URL: http://www.vecer.com.mk. (дата обращения: 30.06.05).
- Jанев. -Јаневски С. Две Марии. Скопје: Македонска книга, 1967. 142 с.
- Лаф. -Лафазановски Е. Благородник. Скопје: ЗОЈДЕР, 1997. 141 с.
- Мац. -Мацановски -Трендо С. Трендоленд. Скопје: Табернакул, 2011. 680 с.
- Мих.-Георг. -Михајловска-Георгиева J. Огледала: лудо билје. Скопје: Табернакул, 1994. 209 с.
- Пуст. турск. -Пусто турско//Нова Македонија: URL: http://www.novamakedonija. com.mk. (дата обращения: 12.03.2012).
- Смил. -Смилевски Г. Сестрата на Зигмунд Фројд. Скопје: Дијалог, 2011. 316 с.
- ТЗО -Така се зборува во Охрид/прир. Л. Гушевска и Л. Минова-Ѓуркова. Скопје: Филолошки факултет «Блаже Конески», Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, 1999. 196 с.
- Тод. -Тодоровски Г. Љубовна//URL: http://books.google.ru/books?id=suI_AAAIAAJ&dq=inauthor%3A%22Gane%20Todorovski (дата обращения: 21.05.2012).
- Христ. -Христовски М. Недопирлив хоризонт. Битола, 2011. 163 с.
- Чаш. -Чашуле К. Само сказни: за родот и за себеси. Скопје: Мисла, 2000. 308 с.
- Џамб. -Џамбазов И. Гол човек (Arbutus Andrachne). Скопjе: Танграм, 2005. LV с.
- Арутюнова Н.Д. Время: модели и метафоры//Логический анализ языка. Язык и время/отв. ред. Н.Д.Арутюнова; Т.Е.Янко. М.: Индрик, 1997. С.51-61.
- Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира//Семиотика и информатика. М.: пик ВИНИТИ, 1986. Вып.28. С. 272-298.
- Вейнрейх Х. О семантической структуре языка//Новое в лингвистике. Вып.5. Языковые универсалии/пер. с англ. под ред. и с предисл. Б.А.Успенского. М.: Прогресс, 1970. С.163-249.
- Велева С. Тенденции во зборообразувањето во македонскиот јазик. Скопје, 2006. 302 с.
- Илиќ В. Временско-семантичките ориентации на композитумите летоска, есеноска, зимоска, пролетоска и денеска, ноќеска//Македонски јазик. Скопје, 1960/61. Година XI-XII. Книга 1-2. С.183-201.
- Кашић Ј. О темпоралним прилозима у српскохрватском и македонском језику//Македонски јазик. Скопје, 1981-1982. XXXII-XXXIII. С.333-337.
- Конески Б. Тројниот член//Македонски јазик. Скопје, 1957. Година VIII. Кн.1. С.26-28.
- Конески Б. Историја на македонскиот јазик. Скопје: Кочо Рацин; Белград: Просвета, 1965. 103 с.
- Конески К. Зборообразувањето во современиот македонски јазик. Скопје: Бона, 1995. 188 с.
- Логический анализ языка. Язык и время/отв. ред. Н.Д.Арутюнова; Т.Е.Янко. М.: Индрик, 1997. 352 c.
- Падучева Е.В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива. М.: Языки слав. культуры, 2003. 480 с.
- Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира: учеб. пособие. М.: РГГУ, 2011. 672 с.
- Рейхенбах Г. Философия пространства и времени/пер. с англ. Ю.Б.Молчанова. М.: Прогресс, 1985. 344 с.
- Рейхенбах Г. Направление времени/пер. с англ. Ю.Б.Молчанова, Ю.В.Сачкова. М.: Едиториал УРСС, 2003. 360 с.
- Ристески Љ.С. Поимање на цикличното време во народната култура на Македонците//Зборникот предавања на XXXIX меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура. Скопjе: Универзитет „Св. Кирил и Методиј"; Семинар за македонски јазик, литература и култура, 2007. С.233-252.
- Тополињска З. Троjниот член: да или не//Зборникот предавања на XXXIX меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура. Скопjе: Универзитет „Св. Кирил и Методиј"; Семинар за македонски јазик, литература и култура, 2007. С. 5-25.
- Усикова Р.П. Грамматика македонского литературного язык. М.: Муравей, 2003. 376 с.
- Усикова Р.П. Македонский язык//Языки мира: Славянские языки/РАН. Ин-т языкозн.; ред. колл.: А.М.Молдован, С.С.Скорвид, А.А.Кибрик и др. М.: Academia, 2005. С.102-139.
- Успенский Б.А. Дейксис и вторичный семиозис в языке//Вопр. языкозн. 2011. №2. С.3-30.
- Reichenbach Н. Elements of symbolic logic. N.Y.: Mac Millan, 1947. 444 p.