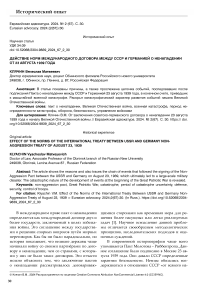Действие норм международного договора между СССР и Германией о ненападении от 23 августа 1939 года
Автор: Клячин В.М.
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Исторический опыт
Статья в выпуске: 2 (67), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье показаны причины, а также прослежена цепочка событий, последовавших после подписания Пакта о ненападении между СССР и Германией 23 августа 1939 года, в конечном счете, приведших к масштабной военной катастрофе. Раскрыт катастрофический характер развития событий начала Великой Отечественной войны.
Пакт о ненападении, великая отечественная война, военная катастрофа, период неопределенности катастрофы, оборона, безопасность, управление войскам
Короткий адрес: https://sciup.org/140306068
IDR: 140306068 | УДК: 34.09 | DOI: 10.52068/2304-9839_2024_67_2_30
Текст научной статьи Действие норм международного договора между СССР и Германией о ненападении от 23 августа 1939 года
В международном праве пакт о ненападении определяется как международный договор двух и более государств, заключаемый в целях избежания войны. Это соглашение между государствами о решении спорных вопросов путём мирных переговоров. Как бы ни было парадоксально, но история показывает, что великие державы чаще начинали войну со своими партнёрами по договору о ненападении, чем со странами, с которыми у них не было таких договоров. Это отчасти можно объяснить тем, что заключение пактов о ненападении рассматривалось договариваю- щимися сторонами как временная мера для решения более насущных или легко реализуемых задач [1]. Научное осмысление данной проблемы отличается своеобразием методологических принципов, исследовательских подходов и оценочных суждений.
В современной историографии чаще всего упоминается Пакт Молотова – Риббентропа. Данное соглашение было подписано в Москве 23 августа 1939 года. Оно давало СССР определенные гарантии безопасности. Немцы обязались воздерживаться в отношении СССР «от всякого на-
силия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения», а также консультироваться с ним при решении вопросов, которые могли затронуть его интересы [2].
На сегодняшний день оценка пакта о ненападении 23 августа 1939 года, а также сближения СССР и Германии в целом выступают предметом большого количества дискуссий. Советско-германский договор о ненападении представлял собой наиболее значительный дипломатический и политический акт завершающей фазы предвоенного кризиса, вызванного неуклонно обострившимися противоречиями между Германией, Италией и Японией, с одной стороны, Англией, Францией, США и их союзниками – с другой [2].
Заключение Договора не входило в планы правительства СССР и явилось вынужденным шагом в международной обстановке, вызванным мюнхенским сговором держав Запада с Германией, а также их последующими секретными переговорами с фашистскими эмиссарами и срывом Великобританией в сотрудничестве с Францией переговоров с СССР о договоре относительно взаимопомощи против распространения агрессии и насилия. 30 сентября 1938 года между Великобританией и Германией была подписана декларация о взаимном ненападении. Аналогичная декларация Германии и Франции была подписана чуть позже, 6 декабря 1938 года [15].
Договор был заключен в условиях, когда предотвратить военный конфликт в Европе представлялось уже невозможным [3]. Этот документ позволял СССР сохранить нейтралитет. По своему содержанию он «не расходился с нормами международного права и договорной практикой государств, принятыми для подобного рода урегулирований» [4].
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом долго считался самым засекреченным документом XX века. Соглашение подписано народным комиссаром иностранных дел СССР В.М. Молотовым и министром иностранных дел Германии И. фон Риббентропом 23 августа 1939 года, а опубликовано только в мае 2019 года. Оно до сих пор влияет на международные отношения [5].
В своей работе «Пакт о ненападении как исторический документ и его влияние на судьбу Европы» Е.В. Бебешко раскрывает причины, побудившие Сталина пойти на сделку с Гитлером, которые кроются в событиях, проходивших в Европе накануне Второй мировой войны.
При анализе основных последствий подписания Советско-германского пакта 23 августа
1939 года следует отметить, в первую очередь, что Гитлер нуждался в таком партнере, как Советский Союз, а также выражал объективную готовность пойти путем переговоров с СССР. Так как Германия была не готова к разворачиванию активных боевых действий с СССР, Гитлером был избран вариант западной стратегии. Так, 8 марта 1939 года была намечена секретная стратегия, которая предусматривала захват до осени 1939 года Польши, а в течение 1940–1941 годов – Англии и Франции.
Правительство Германии было заинтересовано в установлении с СССР временного союза. И.В. Сталин принял решение о начале переговоров с Германией в июле 1939 года, прервав при этом всяческие установленные контакты с западными державами. Благодаря активным действиям советской разведки руководство СССР было осведомлено о планах Германии насчет разворачивания войны с Англией и Францией, а также вторжения в Польшу. Тем не менее руководство СССР полагало, что подписание соглашения с Гитлером позволит отсрочить вступление Советского Союза в надвигающуюся войну, существенно расширит границы СССР, а также сферу влияния социализма.
Германия в течение двадцати двух месяцев до нападения на Советский Союз использовала временной ресурс наиболее эффективно, а именно: завоевала европейские государства; активно наращивала военные силы; дислоцировала дивизии у границ Советского Союза. В свою очередь, руководство СССР активно занималось внешней экспансией, а также СССР участвовал в кровопролитной войне с Финляндией. В результате образовалась общая граница Советского Союза с Германией (достаточно добавить, значительно облегчившая нападение последней на СССР).
Советский Союз по данному Пакту становился полноправным союзником Германии со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом СССР выполнял собственные союзнические обязательства исправно.
По мнению большинства историков, несмотря на то, что Сталин располагал всей необходимой информацией о планах Гитлера о нападении на Советский Союз, все же он был уверен, что Гитлер не нападёт, пока не покончит с Англией, и что нападение следует ждать не раньше весны 1942 г. Всё противоречащее этой уверенности он отметал как дезинформацию и провокацию. В этой связи каких-либо реальных действий, эквивалентных уровню нависшей угрозы, предпринято не было [16].
Одним из последствий подписания Пакта 1939 года выступила неготовность Советского Союза к проведению оборонительной войны с фашистской Германией.
И это несмотря на проведенную к весне 1941 года огромную работу по подготовке к отражению возможного нападения со стороны Германии. Все же по ряду объективных и субъективных причин Советский Союз не мог в полной мере противостоять сильному и подготовленному противнику как в отражении агрессии, так и в организации глубокоэшелонированной обороны [16].
Прежде всего, во многом отставало по времени проведение необходимых для отражения агрессора организационных мероприятий. Как писал об этом в своих «Воспоминаниях и размышлениях» Г.К. Жуков, «…немецкие войска завтра могут перейти в наступление, а у нас ряд важнейших мероприятий еще не завершен» [5, с. 262].
Видя все это, советское руководство во главе со И.В. Сталиным всячески старалось оттянуть сроки начала войны.
Несмотря на огромное количество публикаций и проведенных исследований, до сих пор остается много «белых пятен» при рассмотрении этого уходящего в прошлое сложного исторического периода. Что же явилось причиной столь быстрого наступления войск вермахта в первый месяц войны? Чем объяснить столь странную суматоху и отсутствие единого четкого и системного управления советской обороной? Почему И.В. Сталин выступил с речью перед советским народом только 3 июля, т. е. через 12 дней после вторжения гитлеровских войск на территорию СССР? Чем объяснить смену стратегии и тактики ведения боевых действий той и другой сторонами в конце лета 1941 года, и т. д.? [16].
Анализ хода развития событий сразу после нападения Германии на Советский Союз утром 22 июня 1941 года показывает, что все происходило по какому-то особому сценарию, обусловленному, с одной стороны, неожиданностью и масштабами воздействия, а с другой – неподготовленностью и неспособностью противодействовать данному воздействию. А ведь это, по сути, характерные признаки начального этапа любой катастрофы.
В этой связи следует выдвинуть гипотезу, что развитие событий начала Великой Отечественной войны происходило по сценарию развития первоначального этапа реагирования на катастрофы [7, 16].
Именно ход развития событий, произошедших сразу после нападения гитлеровской Герма- 32
нии на Советский Союз в 4 утра 22 июня 1941 года, показывает, что здесь присутствуют все признаки катастрофы:
-
1. Неожиданность и ступенчатый характер внешнего воздействия;
-
2. Параметры указанного воздействия превосходят запас прочности подвергнутой катастрофическому воздействию системы; воздействие направлено на ее необратимое разрушение. Внутренние свойства системы в первоначальный период развития катастрофы не позволяют ей самостоятельно нейтрализовать очаг деструктивного воздействия;
-
3. В связи с тем, что в течение указанного первоначального периода события внутри системы развиваются по непредсказуемому сценарию, полностью нарушается прежняя система управления, объективно отсутствует возможность какой-либо адекватной подготовки, вследствие чего резко снижается эффективность проводимых мероприятий реагирования;
-
4. Любые складывающиеся общественные отношения, обусловленные отсутствием объективной информации о состоянии системы в условиях неопределенности первоначального периода реагирования, имеют особый характер оценки и принятия по ним решений.
Анализ развития событий при катастрофах показывает, что, несмотря на предпринимаемые государствами меры на превентивных этапах предотвращения катастроф, на сегодняшний день так и остается неотрегулированной сфера деятельности государственных органов, как и международных структур безопасности в целом, в условиях катастроф. Этот период характеризуется максимальными разрушениями и потерями, а с другой стороны – максимальной дезорганизацией функционирования всех задействованных сил и средств [16].
В подтверждение этому приведем слова Г.К. Жукова: «…внезапный переход в наступление всеми имеющимися силами (немцев – прим. авт.), притом заранее развернутыми на всех стратегических направлениях, не был предусмотрен… Этого не учитывали и не были к этому готовы наши командующие и войска пограничных военных округов» [8].
Любой катастрофический сценарий развития событий в первоначальный период сопровождается проявлением неопределенности. Состояние неопределенности в управлении войсками в рассматриваемый период проявлялось на всех уровнях командования. По воспоминаниям Г.К. Жукова, «…22 июня… до 9 часов… штабы фронтов… просто не знали, где и какими силами наступают немецкие части, где противник наносит главные, а где второстепенные удары…»; «Ставя задачу на контрнаступление, Ставка Главного Командования не знала реальной обстановки, сложившейся к исходу 22 июня…» [8, с. 267]. «Трагичнее всего было то, что с самого начала управление войсками оказалось нарушенным. Большинство командующих армиями, командиров корпусов и дивизий, их штабы потеряли связь с подчиненными войсками. Не зная истинной обстановки, они отдавали противоречивые приказы, выполнить которые было невозможно…» [10, с. 174]. Всю тяжесть главного удара противника приняли на себя войска Западного фронта во главе с генералом армии Д.Г. Павловым. Оценивая сложившуюся ситуацию, нельзя однозначно сказать – можно ли было вообще устоять от поражения в подобных пограничных сражениях. Проявляя личную стойкость и мужество, наши войска дрались «до последнего патрона». Г.К. Жуков вспоминает: «Не зная точно положения в 3, 10-й и 4-й армиях, не имея полного представления о прорвавшихся танковых группировках противника, командующий фронтом генерал армии Д.Г. Павлов часто принимал решения, не отвечающие обстановке» [10, с. 284]. То есть, говоря о периоде первых поражений наших войск на Западном фронте в конце июня – начале июля 1941 года, можно однозначно констатировать, что события развивались по катастрофическому сценарию: неожиданность нападения, силы противника на этом участке во многом превосходили запас прочности частей ЗапОВО и, что самое главное, воевать приходилось в состоянии полной неопределенности оперативной обстановки. Оперативная ситуация сложилась таковой, что принять правильные решения было невозможно по объективным причинам [16].
К периоду неопределенности катастрофы, как говорил об этом известный английский энциклопедист В. Смил в своей книге «Глобальные катастрофы и тренды» [12], полностью подготовиться невозможно. В этой связи все запланированные на подготовительном этапе мероприятия становятся либо нереализуемыми, либо частично реализуемыми в зависимости от складывающейся обстановки. И.Х. Баграмян вспоминает: «… события развивались не так, как мы предполагали» [13].
Несмотря на героическое сопротивление со стороны советских войск, система управления вооруженными силами в начальный период войны оказалась дезорганизованной, причем настолько, что порой даже не могла быть объяснена самими немцами. Как писал в своем военном дневнике начальник Генерального штаба Сухопутных войск вермахта генерал-полковник Ф. Гальдер, «…Вер-ховное командование противника, видимо, совершенно не участвует в руководстве операциями войск. Причины таких действий… неясны» [14].
В связи с тем, что развитие событий происходило по сценарию катастрофы, следует отметить, что здесь не все поддается объяснению с точки зрения классической военной теории.
С другой стороны, не будет аксиомой то, что полноценно подготовиться и предотвратить неожиданное, тщательно спланированное нападение опытного, превосходящего по силам и средствам противника достаточно сложно. Это понимали все. Поэтому самой главной причиной следует считать то, что дала сбои система реагирования СССР на такого рода угрозу.
Ситуацию осложняло то, что против Советского Союза выступали ударные силы блока агрессоров – войска Финляндии, Румынии, Венгрии, а также войска союзников Германии – Италии, Словакии и Хорватии. Несмотря на подписанный 13 апреля 1941 года пакт о нейтралитете между СССР и Японией, нам приходилось держать значительные вооруженные силы на Дальнем Востоке [6]. Достаточно сказать, что еще в 1936 году между Германией и Японией был подписан пакт, оформивший (под флагом борьбы против Коминтерна) блок этих государств в целях завоевания мирового господства. В ноябре 1937 года к «Антико-минтерновскому пакту» присоединилась Италия, позднее – ряд других государств. В 1939–1940 годах Пакт превращен в открытый военный союз.
Описываемый период, когда гитлеровские войска неожиданно вторглись на территорию СССР, сопровождающийся проявлением неопределенности и общей дезорганизацией общегосударственной системы противодействия агрессору, до перехода советских войск к активной организованной обороне продолжался определенное время [16].
В теории автоматического управления данный период, когда система отрабатывает ступенчатое воздействие и переходит на новый уровень, определяется как время регулирования [9]. Горький опыт тех невосполнимых потерь и общего «паралича» власти в начальный период войны заставил сделать единственно правильный вывод о срочнейшей необходимости проведения общей мобилизации, взведения всех механизмов и пружин экономического и политического потенциала советского народа и государства в целом, жесткой централизации органов власти и управления.
Были реабилитированы и вернулись в строй многие военачальники, прекратились гонения на церковь, была введена жесткая дисциплина в тылу и на фронте и пр. В данной смертельно опасной ситуации сказались все сильные на тот момент времени свойства советского государства как системы, способность к быстрой самоадаптации.
Уже к 9–10 июля 1941 г., как отмечает известный военный историк академик РАЕН В.А. Золотарев, «…развернувшимися ожесточенными боями на подступах к Луге, Смоленску, Киеву и Кишинёву начальный период войны закончился. С этого времени перед войсками обеих сторон возникли новые задачи. В сражение вступали соединения второго стратегического эшелона советских Вооружённых Сил. Начинались новые стратегические оборонительные операции» [10, с. 172].
В этой связи представляет интерес хронология официального появления И.В. Сталина в июне – июле 1941 года «на публике» и становления его как Верховного Главнокомандующего.
Как известно, 22 июня в 12 часов по радио с объявлением начала войны выступил заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР, нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов. Объясняя отказ Сталина выступить с сообщением о начале войны, В.М. Молотов говорил: «Почему я, а не Сталин?... Он должен был выждать и кое-что посмотреть, ведь у него манера выступлений была очень чёткая, а сразу сориентироваться, дать чёткий ответ в то время было невозможно. Он сказал, что подождёт несколько дней и выступит, когда прояснится положение на фронтах» [11].
Примечательно, что ставка Главного Командования во главе с И.В. Сталиным была создана только 23 июня, то есть когда «положение на фронтах» (как указано выше) стало действительно «проясняться», только после того, как стала вырисовываться реальная картина боевых действий. С официальным обращением к советскому народу И.В. Сталин выступил 3 июля. 19 июля 1941 года решением Президиума Верховного Совета СССР И.В. Сталин был назначен на должность наркома обороны СССР, 8 августа – Верховным Главнокомандующим [11, с. 140]. Таким образом, он полностью сконцентрировал власть в своих руках.
То есть И.В. Сталин предугадал время окончания периода неопределенности начала Великой Отечественной войны как катастрофы, чтобы вовремя взять инициативу в свои руки, как того требовала обстановка [16].
Таким образом, результаты ретроспективного анализа хода развития событий начала Великой Отечественной войны позволили автору 34
выделить в них признаки катастрофы. Это дало возможность с принципиально новых позиций истолковать исторические факты, которые характеризуют данный период войны [16].
Список литературы Действие норм международного договора между СССР и Германией о ненападении от 23 августа 1939 года
- Кабанов Н.Н, Симиндей В.В. Заключая «Пакт Мунтерса - Рибентроппа»: архивные находки по проблематике германо-прибалтийских отношений в 1939 г. // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2017. Вып. 1 (8).
- Документы внешней политики. Т. XXII. Кн. 1. Док. № 484.
- Наджаров Д.Г. Советско-германский пакт 1939 года и его исторические последствия // Вопросы истории. 2006. № 12. С. 7.
- Робертс Дж. Сферы влияния и советская внешняя политика в 1939-1945 гг., идеология, расчет, импровизация // Новейшая история. 2001. № 5. С. 79.
- Бебешко Е.В. Пакт о ненападении как исторический документ и его влияние на судьбу Европы // Научный вестник Крыма. 2021. № 5 (34).
- Славинский Б. Пакт о нейтралитете между СССР и Японией: дипломатическая история, 1941-1945 гг. М.: Новина, 1995.
- Клячин В.М. Радиационные катастрофы - угроза национальной безопасности // Обозреватель. РАУ-Университет. 2013. № 12 (287). С. 6-14.
- Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 2 т. Т. 1. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015.
- Клячин В.М. Применимость положений теории автоматического управления как методики исследования деятельности по ликвидации ЧС // Кризисные ситуации социально-политического характера и основные направления их разрешения в свете современной реформы МВД России: Материалы Тринадцатой международной научно-практической конференции, 25 ноября 2011 года. М.: Академия Управления МВД России, 2011.
- Золотарев В.А. (ред.) История военной стратегии России. М.: Кучково поле; Полиграфресурсы, 2000.
- Чуев Ф.И. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева / Послеслов. С. Кулешова. М.: Тер-ра, 1991.
- Смил В. Глобальные катастрофы и тренды: Следующие 50 лет. М.: АСТ ПРЕСС КНИКА, 2012.
- Баграмян И.Х. Так начиналась война. (Военные мемуары.). М.: Воениздат, 1971. С. 174.
- Гальдер Ф. Русская компания. Хроника боевых действий на Восточном фронте. 1941-1942 г. М.: Цен-трполиграф, 2007.
- https://forum.vgd.ru/183/all.htm?desc=&IB2XPnew forum_=269212f21.../#1.
- Клячин В.М. Начало Великой Отечественной войны:катастрофа или просчет // Евразийская адвокатура. 2017. №3 (28). С. 21-28.