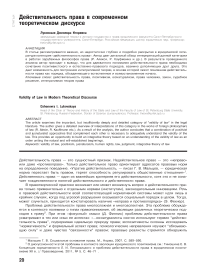Действительность права в современном теоретическом дискурсе
Автор: Луковская Д.И.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (2), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается важная, но недостаточно глубоко и подробно раскрытая в юридической литературе категория «действительность права». Автор дает детальный обзор интерпретаций данной категории в работах зарубежных философов права (Р. Алекси, Р. Кауфманна и др.). В результате проведенного анализа автор приходит к выводу, что для адекватного понимания действительности права необходимо сочетание позитивистского и естественно-правового подходов, взаимно дополняющих друг друга. Это дает возможность для построения интегративной теории, в основе которой лежит понимание действительности права как порядка, объединяющего естественное и волеустановленное начала.
Действительность права, позитивизм, юснатурализм, права человека, закон, судебное решение, интегративная теория права
Короткий адрес: https://sciup.org/14121153
IDR: 14121153
Текст научной статьи Действительность права в современном теоретическом дискурсе
Действительность права — его сущностный признак. Недействительное право — это «неправо» или даже «противоправо». Только действительное право ориентирует адресатов правовых норм на определенное поведение. «Утратив действительность, — писал Г. В. Мальцев, — юридическая норма перестает быть правом, теряет способность регулировать общественные отношения»1. Действенность права — один из важнейших критериев его действительности, хотя это и не означает тождественности понятий действительности и действенности права.
В правотворческой практике возникает или может возникнуть вопрос о действительности права только применительно к отдельным нормам (институтам), законодательным инновациям. Речь о правовой действительности всей соответствующей нормативной системы может идти лишь в крайних случаях, когда под угрозой разрушения оказывается социальный порядок в целом. Тогда, может случиться, приходится констатировать наличие «неправа и противопорядка» (Э. Фехнер).
Проблема действительности права многосложная и многоаспектная. Эта проблема обсуждается в контексте полемики о типах правопонимания, об эволюции различных теоретических подходов к праву2. При этом «фокусный» смысл (Д. Финнис) проблемы действительности права усматривают в тех или иных ее аспектах: «…юснатуралисты охотно используют термин “действительность права”, подчеркивая идеальную природу права; юспозитивисты склонны исследовать “нормативность” и формальный аспект права; психологические направления изучают “обязывающую силу” и даже чувство “связанности” правом; правовые реалисты стремятся обнаружить
“эффективность” права»3. Вопрос об идеальной природе права как базовом концепте юснатура-лизма актуализируется в современном теоретическом дискурсе в дискуссиях между сторонниками позитивистских и непозитивистских подходов к праву, выделяемых с точки зрения признания или непризнания моральных ценностей в праве4.
СТАТЬИ
Современные теории действительности права, в том числе и естественно-правовые, необходимо оценивать, имея в виду стремление их представителей к интегративному (интегральному) понятийному, а также методологическому преодолению (с той или иной аргументацией) плюрализма теоретических взглядов на право. В юснатурализме это выражается в тенденции согласовать приоритетное для данного направления идеальное измерение права с его реальным измерением, естественность с позитивностью права, его действительность с действенностью, найти баланс между ними и тем самым избежать характерного для классических теорий естественного права дуализма естественного и позитивного права как двух противостоящих одна другой нормативных систем. Так, по замыслу известного немецкого теоретика права Р. Алекси, в единой структуре права должны быть сбалансированы, уравновешены различные элементы понятия права и соответствующие им понятия действительности — социальной действительности (действенности), моральной и правовой действительности5. Конечным основанием действительности права является «притязание на правильность»6. Такое уравновешивание коренится, по Алекси, «в самом основании права. Оно — часть природы права»7.
В основе искомых Р. Алекси единства, целостности правопорядка через сбалансирование его различных элементов лежит идея дуальности (не дуализма!) права — его позитивности и естественности (правильности, моральной обоснованности). Позитивность права, подчеркивает Р. Алекси, необходима. Но она не имеет исключительного характера. В противном случае оказалось бы недооцененным притязание права на содержательную правильность (справедливость), которое не исчезает и после институционализации права8. Такая содержательная правильность относится только к идеальному измерению права. Правильность иного рода («второго порядка», по Алекси) касается как справедливости, так и юридической определенности, достижимой лишь в сфере позитивности (реального измерения права)9. Справедливость как правильность «второго порядка» санкционирует необходимость позитивности права, так как сама эта необходимость «исходит из моральных требований избегать издержек анархии и гражданской войны и достигать преимуществ социальной координации и сотрудничества»10. Таким образом, полагает Р. Алекси, удается связать с правом и моральный принцип справедливости, и формальный принцип юридической определенности. Их правильное соотношение — условие гармонии правовой системы11.
Важнейшим элементом позитивности права наряду с его надлежащим установлением является, по Алекси, социальная действенность (социальная действительность) права. Нормы, лишенные социальной действенности, считает он, не могут быть и юридически действительными12. Критерии социальной действенности: соблюдение норм и применение санкций за их несоблюдение13. Эти критерии предполагаются принципом юридической определенности и не выходят за рамки реального измерения права. Между тем Р. Алекси подчеркивает, что в отличие от позитивизма, включающего в понятие правовой действительности лишь элементы социальной действительности, в его непозитивистской теории это понятие охватывает также и элементы моральной действитель-ности14.
Свою конструкцию правопорядка Р. Алекси строит с позиций моральной философии права как сторонник «мягкого» интерналистского непозитивизма, следующего знаменитой «формуле» Г. Рад-бруха. Вслед за Г. Радбрухом он утверждает, что если нормы превышают определенный порог
СТАТЬИ
несправедливости, то они утрачивают свой правовой характер15. В современном демократическом конституционном государстве таким «порогом» являются основные права человека, например, право на жизнь и личную неприкосновенность16.
Концепция прав человека строится Р. Алекси на основе дискурсивной теории права, которую он развивает вслед за Ю. Хабермасом. Р. Алекси — автор ее оригинального варианта как процедурной теории практической рациональности. Процедура дискурса, по Алекси, рациональна, если она подчиняется определенным правилам, касающимся адекватного использования юридических аргументов (требования полноты аргументации, отсутствия противоречий, терминологической ясности и др.) и обеспечивающим беспристрастность аргументации. Правила гарантируют свободу и равенство участников дискурса как основу прав человека17. Этим универсальным правилам «соответствуют основные принципы демократического конституционного государства, а именно свобода и равенство»18. Институциональные процедуры создания права Р. Алекси соединяет с дискурсивными19.При этом он ориентируется на критерии рациональности дискурса и соответствия правовой системы претензии на правильность как моральную обоснованность основных прав человека.
Права человека, по Алекси, не привносятся извне, а должны быть обоснованы в ходе рационального дискурса. Права действительны, если они существуют, а существование прав состоит в их обоснованности относительно каждого и всех, кто выражает желание принять участие в рациональном дискурсе20. Конституционные права «имеют приоритет над всеми другими нормами»21. Но существование прав определяется не конституцией, в том числе и в демократическом конституционном государстве. Существование прав определяется исключительно их обоснованностью в результате интерсубъективного рационального дискурса. Естественно-правовая идея у Р. Алекси в силу ее обсуждаемости и в этом смысле процедурной сконструированности не вписывается в классические теории естественного права и тем самым, кажется, утрачивает характерное для юснатурализма значение абсолютного масштаба для оценки действительности права.
Однако Р. Алекси настаивает на том, что права человека как моральные права (моральные требования) «принадлежат исключительно идеальному измерению права»22. И далее: «Их преобразование в конституционные права, т. е. в позитивные права, представляет собой попытку соединить идеальное измерение с реальным»23. Баланс идеального и реального измерений права как будто достигается. Но достигается он в рамках позитивного права. И хотя рациональный дискурс вновь и вновь возобновляется, так как появляются моральные требования ранее не зафиксированных в конституции прав, идеальному измерению права суждено быть у Алекси поглощенным его реальным измерением, т. е. позитивным правом. Непозитивизм уступает место позитивизму.
Идея процессуальности естественного права (у Алекси это процесс рационального дискурса), характерная для современного юснатурализма, восходит к известной формуле «естественного права с изменяющимся содержанием» Р. Штаммлера24. Тогда же, еще в начале ХХ в., было подвергнуто сомнению и положение классических естественно-правовых теорий о раз и навсегда данных естественных правах человека. Вопрос о существовании прав человека вне позитивного права возникает и сегодня, когда речь идет о признании прав человека, не предусмотренных в за-конодательстве25. Этот вопрос особенно актуален для теории конституционного права и конституционного правосудия26. Не исключение и международное право, если не считать исчерпывающими названные на сегодняшний день в международно-правовых актах общепризнанные принципы и нормы международного права. За рамками этих актов, пишет В. В. Лапаева, «всегда … будут оставаться некие идеи, принципы и нормы, которые еще не получили отражения в официальных документах, но тем не менее уже считаются (или могут считаться) признанными в международном сообществе»27. С позиций юснатурализма такие внепозитивные идеи, принципы и нормы относятся к идеальному измерению права. Не следует ли поэтому согласиться и с тем, что «юснатура-лизму всегда будет присущ тот правовой дуализм, который сопутствовал этому подходу на протяжении всей истории развития»28.
СТАТЬИ
Общетеоретическим дискуссиям о соотношении права и справедливости (права и морали), разгоревшимся после Второй мировой войны, в последние десятилетия не уделяется прежнего внимания. Все более заметно стремление перевести этот «основной вопрос» теоретического правоведения в легитимационное пространство правосудия. Отмеченная тенденция подкрепляется идеей целостности права, охватывающей и правоприменительную практику.
Так, Р. Алекси включает в понятие права и процедуру правоприменения, различая вслед за американским философом права Р. Дворкиным правила (нормы) и принципы права. К праву, пишет он, относятся правовые принципы, нормативные документы, которые служат обоснованию решения правоприменителя в зоне неопределенности права, чтобы выполнить притязание на правильность. В этой ситуации идея Р. Алекси о сбалансировании различных аспектов правопорядка означает уравновешивание правил (реальное измерение права) и принципов (идеальное измерение). По содержанию судья выносит решение на основе моральных норм (принципов), а по форме — на основе правовых29.
Необходим, по мнению Р. Алекси, баланс и между самими принципами. Это не вызывает трудностей для правоприменителя, если речь идет о конституции демократического и социального правового государства, в которой предусмотрены основополагающие принципы достоинства личности, свободы, равенства и т. п. Задача судьи тогда состоит в достижении баланса между принципами посредством их оптимизации30. Однако и в других правовых системах решение судьи подразумевает притязание на правильность как правильную моральную обоснованность. Р. Алекси подчеркивает, ссылаясь на И. Канта, регулятивный характер идеи правильной морали в качестве цели, к которой нужно стремиться31. В этом смысле права человека как морально обоснованные требования свободы, равенства, справедливости, достоинства личности приобретают у Р. Алекси универсальный характер в качестве потенциального, указывающего «правильный» путь критерия действительности современных конституционных нормативных порядков.
Удалось ли все-таки юснатурализму найти «третий путь» — путь синтеза естественного права и позитивизма? А. В. Поляков склонен считать, что это удалось, например, немецкому правоведу А. Кауфманну (в интерпретации его теории А. В. Поляковым)32. Да, А. Кауфманн, представитель феноменолого-экзистенциалистской философии права33, исходя из полярности естественного и позитивного права, вместе с тем подчеркивает, что полярность не означает их антиномичности. Онтологическая структура права обнаруживается в двойственности сущности и существования права, его естественности и позитивности34. Реальность права «осуществляется через связь эссенциального и экзистенциального элементов, естественности права с позитивностью, так что становится ясно, что справедливость и правопорядок, действительность и действенность, правомерность и власть, легитимность и легальность не идентичны, антиномичны, но как полярные силы связаны друг с другом и находятся в плодотворной изменчивой связи»35. От внимания А. Кауфманна не ускользает позитивистский (социолого-позитивистский) характер критериального значения действенности права для определения его действительности. В отличие от позитивизма, пишет А. Кауфманн, усматривающего в действенности нормы как данную ее действительность, естественно-правовое учение признает действительность критерием действенности36.
СТАТЬИ
А. Кауфманн постоянно напоминает, что позитивность и сущность права (справедливое по природе) неотделимы друг от друга, сущность права не сверхпозитивна37. Однако выясняется, что как возможность права (в аристотелевском смысле) сущность все же сверхпозитивна, хотя в этом своем идеальном бытии она, по Кауфманну, еще и не обладает действительностью, которую впервые обретает через позитивацию38. Сначала — в позитивном законе, но окончательно и полно — в «правильном» правоприменительном решении. Только в правосудии (деятельности исполнительной власти и др.) право становится целиком действительным39. А значит, по Кауфманну, и действенным.
Право, согласно теории Кауфманна, справедливо по природе, поскольку оно коренится в природе вещей40. Но неизбежен вопрос: как из природной бытийственности права вывести его долженствование для законодателя, судьи? А. Кауфманну приходится обратиться к идее естественного закона (не естественного права) как основной норме, принципу логически (не онтологически) первичной стадии становления права, предшествующей стадиям позитивного закона и правоприменительного решения41. Особое внимание он обращает на то, что это именно закон, а не право, что закон первичен именно логически, а не онтологически42. Ведь автор сам критиковал «все попытки обосновать наряду с реально действующим позитивным правом идеально действующее, сверхпозитивное право (сущность права)»43.
В конечном счете преодолеть дуализм естественного и позитивного права А. Кауфманн пытается путем удвоения понятия справедливости (и легитимации): закон, будучи эманацией воли законодателя, «справедлив по закону», право — по природе44. И все-таки справедливость закона «по закону» предполагает, что он основан на принципах, ценностях права, которые законодатель просто «полагает как данное»45. Однако эти принципы и ценности, по Кауфманну, сами по себе и не право, а в «окоченевшем» законе, не обладающем, как он считает, нормативностью, право еще не полностью действительно. Но, возразим, ведь именно через законы сущность права актуализируется в конкретном правоприменительном решении, которое, будучи творческим произведением, «всегда проистекает из природы вещей»46. Так что, «начав с онтологической структуры права, Кауфманн незаметно для самого себя приходит к аксиологии. Ведь бытие права (принятие верного решения в конкретной ситуации, учитывающего природу вещей) возможно лишь на основе закона, т. е. того, как должно быть с точки зрения тех ценностей, которые обосновывают закон»47.
Если в дискурсивных теориях процессуальность естественного права определяется дискурсом, то в контексте кауфманнского бытия универсалий динамизм, процессуальность являются способом самого существования права как его никогда не прекращающихся актуализации и конкретизации, в конечном счете — в «правильном» решении правоприменителей. Право (естественное право), пишет А. Кауфманн, не статично, оно «обладает временной структурой историчности» и «должно постоянно вновь осуществляться, чтобы прийти к самому себе, это не готовое право, но во все времена становящееся право»48. Естественность и позитивность права существуют, подчеркивает он, только в отношении друг друга, и это отношение непрерывной актуализации, приводящей их снова и снова в соответствие с тем, что должно было осуществиться. В этом Кауфманн усматривает подлинный смысл естественно-правовой проблемы49.
Правовая теория А. Кауфманна человекоцентрична. Естественно-правовую категорию природы человека он переосмысливает с персоналистских философских позиций, исходя из соразмерности права и человека как личности (персоны) — одновременно духовной индивидуальности и социальной индивидуальности50. Но Кауфманн все же никак не может избежать постоянного прогля- дываемого в его теории дуалистического напряжения между духовностью и социальностью человека, между сущностью и существованием — «явленностью» сущности, например, судье как «данного» в природе вещей и одновременно «предзаданного», в котором, однако, и кроется то, что «должно было осуществиться». Следствием такого напряжения, нарушающего онтологическую релятивистскую безусловность существования естественного права только в его соотношении с позитивностью права, идеального измерения права с его реальным измерением, и оказывается неизбежная абсолютизация аксиологической составляющей права, характерная для юснатурализ-ма51. По меньшей мере под вопросом остается поэтому то, удалось ли Кауфманну решить поставленную перед собой задачу — «отыскать синтез между абсолютивизмом и релятивизмом, между значимостью и бытием…»52.
СТАТЬИ
Дуализм естественного и позитивного права был существенно поколеблен еще в естественноправовых концепциях начала ХХ в. (В. С. Соловьев, А. С. Ященко). Не удалось преодолеть его и к настоящему времени. Тем не менее в базовом, «фокусном» смысле дуализм естественного и позитивного права все же не вписывается в онтологические естественно-правовые теории. Право и закон фигурируют в них в бытийно-онтологической взаимосвязи и, вопреки критике Г. Кельзена, не «по ту сторону позитивности». В единой структуре права естественно-правовая идея вполне органично уживается с позитивностью права. Это особенно заметно в теории Р. Алекси, с трудом скрывающего свои колебания между естественным правом и позитивизмом.
Список литературы Действительность права в современном теоретическом дискурсе
- Алекси Р. Дуальная природа права // Правоведение. 2010, № 2. С. 138-152.
- Алекси Р. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму). Пер. с нем. А. Н. Лаптева, Ф. Кальшойера. Москва - Берлин, Инфотропик Медиа, 2011. 173 с.
- Алекси Р. Существование прав человека // Правоведение. 2011, № 4. С. 21-31.
- Алекси Р. Юридическая аргументация как рациональный дискурс // Российский ежегодник теории права. 2008, № 1. СПб., 2009. С. 446-456.
- Васильева Н. С. Проблема действительности права в антиметафизической традиции (концепция Альфа Росса) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия "Юридические науки". 2017. Т. 21, № 3. С. 396-414.