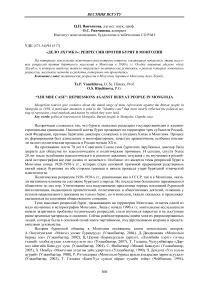«Дело Лхумбэ»: репрессии против бурят в Монголии
Автор: Ванчикова Ц.П., Ринчинова О.С.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (39), 2012 года.
Бесплатный доступ
На материале монгольских источников рассмотрены вопросы, касающиеся начального этапа массовых репрессий против бурятского населения в Монголии в 1930-х гг. Особое внимание уделено «делу Лхумбэ», в котором наиболее выпукло отразились политические установки, в рамках которых готовились репрессии, жестокие методы и средства, которыми они проводились.
Политические репрессии в монголии, буряты в монголии, дело лхумбэ
Короткий адрес: https://sciup.org/142148124
IDR: 142148124 | УДК: (571.54)/94
Текст научной статьи «Дело Лхумбэ»: репрессии против бурят в Монголии
Исторически сложилось так, что буряты оказались разделены государственными и административными границами. Основной костяк бурят проживает на территории трех субъектов Российской Федерации, крупные бурятские диаспоры сложились в соседних Китае и Монголии. Процесс их формирования был длительным и многофакторным, зачастую драматичным, особенно повлияли на него политические процессы в России начала XX в.
На протяжении почти 70 лет в Советском Союзе тема бурятских зарубежных диаспор была закрыта для общества по идеологическим и политическим причинам. И сегодня, спустя более 20 лет после ослабления идеологического и силового давления, ситуация с их изучением в российской историографии все еще далека от желаемого. Особенно это касается темы репрессий бурят в Монголии конца 1920–1950-х гг., которые стали основной причиной прерывания родственных связей между бурятами по обе стороны границы и начала процесса утери бурятской этнической идентичности.
Политические репрессии 1930-1950-х гг., развязанные как в СССР, так и в Монголии, оказали негативное влияние на состояние бурятского народа. Их последствия болезненно переживаются обществом до сих пор. Уничтожение под надуманными предлогами первых поколений бурятской интеллигенции, выдающихся просветителей, политических и общественных деятелей, стоявших у истоков национального движения не только бурят, но и монголов, тяжело сказалось и продолжает сказываться на состоянии общественного сознания.
Тема массовых репрессий бурят, проживавших на территории Монголии, остается одной из мало изученных в историографии Монголии. Лишь с начала 1990-х гг. монгольские исследователи начали затрагивать проблемы политических репрессий, стали изучаться закрытые и не доступные ранее архивные материалы и сведения. Сейчас реабилитированы имена многих репрессированных людей, которые были в основной своей массе партийными, государственными кадрами и представителями духовенства.
Истории бурятской общины в Монголии посвящены книги монгольских авторов: А. Оюунтунгалаг «Монгол улсын буриадууд» (Улаанбаатар, 2004), Д. Дамдинжава «Монголын буриад зон» (Улаанбаатар, 2002), Ц. Цэрэна «Буриадуудын дурвэлт, «Лхумбийн хэрэг» гэгчид тэднийг холбогдуулан хэлмэгдуулсэн нь» (Улаанбаатар, 2007), Т. Галсана, Чулуунбаатара «Дор-нод аймгийн Баян-уул сум» (Улаанбаатар, 2004), С. Ишбалжир «Миний Баяндун» (Улаанбаатар, 2005), Х. Нямбуу «Монголын угсатны зуйн удиртгал» (Улаанбаатар, 1990), Ч. Дондога «Улз голын цуурай» (Улаанбаатар, 1988), Р. Рэгзэндоржа «Монголын буриад ардын амьдралын зарим асуудал» (Улаанбаатар, 2003), Т. Галсана «Баян-Уул сумын ойрын тухийн тойм» (Чойбалсан, 1994),
Б. Ширнэна «Ерэн оны есен сар» (Улаанбаатар, 2010). Комплексное изучение этого корпуса источников помогает восстановить как общий ход событий, так и многие детали исторического процесса.
После обретения Монголией независимости в 1921 г. Советская Россия стала активно вмешиваться во внутренние дела Монголии, в том числе и в политическую жизнь страны.
Постепенно в стране, принявшей доктрину перехода «из феодализма в социализм, минуя капитализм», менялись политические приоритеты. Государство становилось форпостом коммунистического лагеря на Востоке, а это означало усиление классового подхода во внутренней полити-ке.
К началу 1930-х гг., по мере отхода от демократических принципов во внутренней государственной политике СССР и становящейся его сателлитом МНР и в результате активной деятельности советских органов внутренних дел, была организована кампания борьбы с «контрреволюционерами», за которых принимали всех оппозиционеров существующей власти [2, с. 76].
При этом буряты, проживающие на монгольской территории, в первую очередь рассматривались как неблагонадежные элементы. Представителями НКВД в Монголии внимательно изучались списки переселенцев, места их расселения, хозяйственный и бытовой уклад. Это происходило неспроста. Сталинским режимом бурятские эмигранты за массовое бегство от Октябрьской революции рассматривались как враги и контрреволюционеры, их называли не иначе как «белые». Бурятские деятели были активны во внутренней политике Монгольского государства, последовательно отстаивая права своего меньшинства. Уже эта, в целом высокая, общественная активность бурятской эмигрантской общины в Монголии, наличие тесных кросс-граничных связей с соплеменниками как в Советской России, так и в Китае, высокая способность к самоорганизации и политической мобилизации, которую продемонстрировали буряты в первые годы своего пребывания в составе Монгольского государства, рассматривались как опасные для просоветского режима, сложившегося после постепенного упразднения изначально демократической политической структуры монгольского государства и его «коммунизации» [3, с. 113].
Это и послужило причиной страшных политических репрессий, от которых больше всех пострадали буряты, проживающие в бассейне рек Эг, Онон, Улз, Ероо, Хэрлэн, Халхин-Гол: интеллигенция, духовенство и зажиточные скотоводы.
В июне 1929 г. вышел доклад Посольства СССР в Улан-Баторе под названием «Вопрос о бурятах южных районов Монголии». Согласно ему, 15800 бурят, проживают на реках Эг, Онон, Улз, Еро, Хэрлэн, Халх, были объявлены контрреволюционерами, а затем на них обрушились гонения [4, с. 64].
Более всего пострадали буряты, проживающие в Дорнодском аймаке. Инструктор Коминтерна Крылов писал местному Отделу внутренних расследований: «В Дорнодском аймаке проживают контрреволюционеры разных национальностей. 3000 семей, проживающих в прилегающей к СССР территории, за исключением 60 семей, являются контрреволюционерами, выходцами из Аги. И все они имеют родственников в СССР, которые также являются контрреволюционерами» [4, с. 65].
Все действия по отношению к «врагам народа» монгольские власти согласовывали с советскими инструкторами.
6 мая 1930 г. в результате давления СССР было подписано правительственное решение, касающееся эмигрантов, согласно которому монгольские и советские солдаты совместными усилиями захватили и вернули в СССР около 100 бурят. 26 мая 1930 г. было подписано соглашение о том, что преступников - беженцев из России для применения к ним санкций надлежит возвращать на родину. Через месяц после соглашения вышло постановление «Об исполнении суда над некоторыми гражданами» [4, с. 65].
Согласно ему, принудительной репатриации, а скорее экстрадиции, должны были подвергнуться все преступники, которые совершили преступления на российской территории. Монгольские власти искали любой повод, чтобы издавать распоряжения, оправдывавшие преследования бурят в Монголии [4, с. 79].
9-18 января 1933 г. состоялось совещание представителей аймачных органов власти, на котором прозвучала характеристика бурят, прикочевавших из России, как японских шпионов. Совещание приняло следующее постановление: «Расследование показало, что на территории Монголии бурятские ламы, богачи, контрреволюционеры снова хотят организовать восстание. Постанов- ляется сажать их в тюрьму, отслеживать все связи с китайскими, российскими контрреволюционерами». Была создана комиссия по контролю за исполнением этого постановления.
Примерно в это же время было заведено дело, которое позже обернулось целой кампанией массовых репрессий, вошедших в историю под названием «дело Лхумбэ» [4, с. 66].
В ноябре 1931 г. по поручению третьего отдела Министерства обороны работник ревсо-мольского комитета Улан-Батора Мархайн Цэвээн был направлен в Китай для выполнения специального задания, где его разоблачили и собирались арестовать. Ш. Дамдин, проживавший в то время в Маньчжурии, успел предупредить его о готовящемся аресте, поэтому ему удалось спастись и вернуться на Родину. Ш. Дамдин передал через М. Цэвээну письмо матери.
Это письмо было по содержанию самым обычным, в нем автор признавал свои ошибки, делился с друзьями, что измучен жизнью за границей и просил их не повторять его ошибок: «Я самолично покинул Красную армию и бежал в Хулунбуир. Жил около года на озере Далай, прошлым летом переехал в Хайлар. Недавно друг Цэвээн был здесь по государственным делам, много полезных вещей мне рассказал. Я был рад слышать от него вести с родины. Прошлой осенью Япония и Китай нарушили мирные отношения, и теперь японские солдаты захватили большую часть Маньчжурии, Внутреннюю Монголию и установили автономный режим. Всем народам, проживающим на этих территориях, приходится трудно, но за меня вы не переживайте.
Я не смог вместе с другом Цэвээном Мархайном вернуться домой. Весной я добровольно присягнул Китайскому государству и решил стать как все. Я теперь вижу, как такие же, как я, люди ошибаются, подвергаются влиянию всяких слухов.
За эти два года я испытал многие лишения. В этом государстве революция сделала из людей рабов, это я испытал на себе.
Цэвээн Мархайн был здесь по делам разведки, он собирал сведения о бурятах, и я ему посоветовал срочно вернуться в Монголию. Здесь проживают в основном хоринские буряты: около 20 семей, и это в основном агинские буряты». Подпись: «Тот самый дурак Дамдин Шодоев. 1933, 13 января» [4, с. 71].
Это письмо, которое предназначалось матери Д. Шодоева, неизвестным образом попало в руки уполномоченного МВД в Восточном аймаке Д. Данзана, который решил подделать письмо и использовать как обвинительный документ. Он переписал письмо, адресатом указал Р. Цэвэгжава, который был его личным врагом.
В фальшивке Ш. Дамдин якобы обращался к своим друзьям Цэвэгжаву, Бадаму, Рэнцэн-няму, Галсандамбе, Норовцэрену с признанием о том, что он вступил в японскую армию и просит их помочь в сборе информации для японской разведки: «Япония собирается захватить Монголию, для этого необходимо собрать сведения о численности армии, технике и оружии». Более того, Д. Данзан сделал пометку на полях письма от имени получателя Цэвэгжава, в которой говорилось следующее: «Я, Цэвэгжав, прочел это письмо и считаю очень важным и секретным делом, поэтому после прочтения его надо уничтожить. Дашдорж также ознакомлен с письмом, покажу Рэнцэн-няму». Подделанное письмо Данзан передал по инстанции, приложив сопроводительную записку, в которой говорилось следующее: «Дамдин и Намжил проживают в Маньчжурии, работают на японца Танаку. В 1932 году Дамдин приезжал на родину, провел там 15-16 дней, был с 50зарядным оружием, одет был в желтую японскую форму. Об этом знает только Р. Цэвэгжав». Таким образом был оклеветан ни в чем не повинный Р. Цэвэгжав [4, с. 72].
Причиной клеветы послужила давняя личная неприязнь между Д. Данзаном и Р. Цэвэгжавом. Д. Данзан – житель Баянсумэ Хан-Хэнтий-уулского аймака, 1908 г. р., был сиротой и вырос благодаря общественной помощи. Р. Цэвэгжав собирался жениться на землячке Сэр-эмжид, но между ними встал Д. Данзан, который к этому времени бросил свою беременную жену. Д. Данзан оклеветал Р. Цэвэгжава, обвинив в том, что тот потерял общественный скот, за что последнего исключили из партии и уволили [4, с. 69].
Расследованием, связанным с мнимым письмом Ш. Дамдина, занимался работник отдела внутренних дел Дамдингийн Гомбодорж, прослуживший в МВД до 1955 г. Он отправил его начальнику отдела внутренних расследований Хэнтийского аймака Л. Рэнцэну. Последний в свою очередь спешно рапортовал председателю МВД Д. Намсраю, что обнаружены «связи врагов народа». Д. Намсрай сразу приказал арестовать всех, кто имел отношение к этому письму. Так Д. Данзан стал зачинщиком страшного пожара репрессий [4, с. 73].
Аресты начались 31 мая 1933 г., вслед за Цэвэгжавом были арестованы 174 человека. Среди арестованных были Содномын Рэнцэн, Мархайн Цэвээн, который привез письмо из Маньчжурии. Во время допросов под пытками Цэвэгжав подписал документ, где признавал, что секретарь ЦК МНРП и председатель Центрального совета профсоюзов Монголии Ж. Лхумбэ, бурят по происхождению и активист бурятских общественных организаций, является главным организатором контрреволюционной организации, а проживающий в Маньчжурии Ш. Дамдин – член этой организации. Также Цэвэгжав подписал ложное признание, что получил секретное письмо через Ж. Лхумбэ, когда последний возвращался из командировки в Ундэрхаан. На основании этих сфабрикованных показаний Ж. Лхумбэ был арестован 19 июля 1933 г. с санкции секретаря ЦК МНРП Б. Элдэв-Очира и премьер-министра П. Гэндэна. Теперь сфальсифицированное контрреволюционное движение стали называть «делом Лхумбэ», ведь главной целью начатого процесса был именно Ж. Лхумбэ [4, с. 73].
Ж. Лхумбэ, будучи начальником монгольского центра профсоюзов, очень многое сделал для бурят, перекочевавших в Монголию, в обустройстве на новом месте, помогал получать гражданство и права. Он пытался препятствовать кампании по травле бурят, развернутой советскими инструкторами и органами внутренних дел, в результате чего сам стал мишенью. За ним началась слежка, органы искали любые поводы, за которые можно было зацепиться. В действительности же Ж. Лхумбэ просто сопереживал тем, кто попадал под следствие по ложным обвинениям, и не боялся высказывать свое мнение. Незадолго до ареста в 1933 г. Ж. Лхумбэ приезжал в Хэнтийский аймак по рабочим делам на один день, и это послужило для следователей зацепкой к обвинению его в подрывной деятельности [4, с. 74].
-
20 января 1934 г. Ж. Лхумбэ после долгих, мучительных пыток подписал показания на многих страницах, в которых говорилось, что он был японским разведчиком. В Монголии им якобы были организованы три центра контрреволюционного движения: в Улан-Баторе, Дорнодском и Хэнтийском аймаках; его организация намеревалась превратить Монголию в японскую колонию, и что он уже предварительно провел переговоры о получении из Японии 17 миллионов тугриков. Ему вменялись намерение устроить раскол среди руководства страны, проведение собраний контрреволюционной организации и многократная передача секретных материалов в Японию. В своих показаниях он указал как на сообщников на таких видных политических деятелей, как Шижээ, Бадрах, Лааган, Дамбадорж, Жадамба и другие. Эти неугодные властям люди были незамедлительно арестованы [4, с. 77].
Первые репрессированные в количестве 174 человек получили название «Хэнтийская группа» во главе с Р. Цэвэгжавом. После приговора от 3 ноября 1933 г. были расстреляны 30 человек, 36 человек высланы в СССР, остальным присуждены разные тюремные сроки – от 5 до 10 лет.
В «Дорнодскую группу» приписали 110 человек, из них 78 бурят. После комиссии, проведенной в ноябре, расстреляли 18 человек.
-
33 человека из тех, кто был непосредственно связан с Лхумбэ, и составивших «УланБаторскую группу», были в закрытом порядке осуждены комиссией во главе с Д. Намсраем 25 июня 1934 г. 13 человек было приговорено к расстрелу, 7 из них помиловал государственный Малый Хурал, а в отношении пятерых приговор был исполнен. Всего по трем группам привлечено было 317 человек: 53 были расстреляны, 136 – заключены в тюрьмы, 126 – сосланы в СССР. Членами «повстанческого движения» были признаны 1500 человек [4, с. 78].
Так называемое «дело Лхумбэ» – пример политического спектакля, разыгранного политиками Монголии в силу зависимости от СССР, который, в свою очередь, усилил политические, религиозные репрессии в сопредельной Бурят-Монгольской АССР под лозунгами борьбы с «японскими шпионами» и «панмоголистами». Но часто за этими целями, как явствует «дело Лхумбэ», скрывались личные мотивы, сведение счетов с неугодными людьми.
Беспрецедентным процессом по этому делу стал арест Дугарын Дунгаржид, делегата III и IV съездов МНРП, члена пленума ЦК партии и делегата V съезда Народного Хурала. Эта женщина-бурятка, родившаяся в России в 1901 г. и эмигрировавшая с родителями в Монголию, была одной из немногих женщин Монголии, активно участвовавших в политической жизни страны. Она занимала должность дарги Ононского хошуна. По «делу Лхумбэ» она была заподозрена в измене Монголии и арестована в августе 1933 г. Ее допрашивали в течение трех месяцев в Управлении МВД Хэнтийского аймака, в результате пыток она подписала все показания против себя. В сентябре 1933 г. состоялось заседание Чрезвычайной комиссии при МВД, где было принято постановление о применении высшей меры наказания к Д. Дунгаржид с конфискацией имущества. Это решение было утверждено 4 ноября и исполнено 14 ноября, хотя женщина была на пятом месяце беременности [4, с. 85].
-
27 января 1934 г. был издан секретный приказ премьера Гэндэна, в котором особо оговаривалось: «Связанных с «делом Лхумбэ» 125 бурят, а также связанных с ними 700 семей, выселить за пределы страны как беженцев от Октябрьской революции».
-
3 ноября 1934 г., по договоренности между правительствами Монголии и Советской России, советской стороне были переданы эти 125 бурят без семей. Все они были отправлены в ссылку и исправительные лагеря, где работали в тяжелейших условиях. По истечении 5 лет они были освобождены без права возвращения в Монголию. Более того, им не разрешили селиться и в Бурятии, компактно поселив в маленьком поселке Красноярского края [4, с. 87].
В 1989 г. 125 ссыльных бурят были реабилитированы указом Верховного Совета СССР.
Таким образом, правительство Монголии в угоду сталинскому режиму в начале 1930-х гг. провело грандиозную чистку в рядах не только партийных деятелей страны, но и простых граждан-бурят, «предавших» страну Советов своим бегством в Монголию в пред- и послереволюционные годы. Были даже обозначены центры «дела Лхумбэ» – это Хэнтийский и Дорнодский аймаки, а также Улан-Батор. Многие репрессированные были расстреляны, а их семьи остались без имущества. Особенно страшны были репрессии в местностях Онон, Балж, Сээрун, Галтай, где мужчин-бурят забирали поголовно. Бурятские семьи остались без кормильцев и имущества и были обречены на голодное выживание. В результате репрессий резко снизился рост бурятского населения, упал уровень жизни. Дети репрессированных были ограничены в правах на получение образования.
Известен факт, что на 100 бурятских семей в местности Ероо Селенгинского аймака осталось лишь пять мужчин. Представитель Селенгинского аймака Дамба на запрос арестовать одного из бурят ответил: «Теперь у меня некого арестовывать, у меня одни женщины и дети», за что сам был подвергнут репрессии [3, с. 114].
Таким образом, фальсифицированное «дело Лхумбэ» и последовавшие за ним репрессии обернулись настоящим геноцидом бурят, проживавших на территории Монголии. Бесчеловечная деятельность силовых структур Монголии, бесчинство партийных и государственных органов были продиктованы сталинской политикой. Во многих карательных операциях участвовали советские инструкторы.
Непосредственными зачинщиками политических репрессий в Монголии, как признавал в своих мемуарах Н. С. Хрущев, были советское руководство во главе со Сталиным и НКВД СССР [3, с. 116]. В совместном Заявлении президентов РФ и Монголии, сделанном в 1993 г., говорится, что: «… в то время в МНР политические репрессии начались под прямым давлением советских руководителей и Коминтерна. Факты подтверждают участие в них советских инструкторов. Вследствие этого монгольский народ понес невосполнимые потери. Особенно пострадала монгольская интеллигенция, духовенство как социальный слой было практически уничтожено. Многие граждане Монголии были репрессированы и казнены в СССР» [3, с. 117].
В 1934-1938 гг. из 20 тыс. бурят, проживавших в Монголии, 5 тысяч были репрессированы [5, с. 53].
Репрессии, помимо ощутимого снижения демографических показателей бурятской общины, тяжело сказались на ее общественном самочувствии. Из-за страха перед преследованиями буряты перестали признаваться в своей этнической принадлежности, носить национальную одежду, употреблять бурятский язык в общественных местах. Истребление бурятских мужчин вызвало значительный рост халха-бурятских браков, что в результате привело к ускоренной ассимиляции. Бурятская интеллигенция понесла наибольший урон в лице самых образованных и мыслящих людей, признанных «контрреволюционерами». Период репрессий длился вплоть до середины 1950-х гг.
Таким образом, масштабные репрессии стали не только политико-экономическим ударом по бурятской общине в Монголии, но и привели к значительным изменениям в формировании этнических черт у общности.