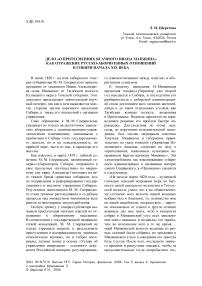Дело «О притеснениях Ясачного Ивана Манжина» как отражение русско-аборигенных отношений в Сибири начала ХIХ века
Автор: Шерстова Л.И.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Межэтнические контакты в истории Сибири
Статья в выпуске: 3-1 т.5, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736770
IDR: 14736770 | УДК: 394.91
Текст статьи Дело «О притеснениях Ясачного Ивана Манжина» как отражение русско-аборигенных отношений в Сибири начала ХIХ века
В июне 1820 г. на имя сибирского генерал-губернатора М. М. Сперанского пришло прошение от «ясашного Ивана Александрова сына Манжина» из Тагабской волости Кузнецкого округа Томской губернии. Этот документ представляет значительный научный интерес, так как в нем выявляются многие стороны жизни коренного населения Сибири, а также его отношений с органами управления.
Само обращение к М. М. Сперанскому указывает не только на достаточное знакомство аборигенов с административно-управленческими изменениями, связанными с прибытием в Сибирь этого государственного деятеля, но и на осведомленность, по крайней мере, части из них, в характере его миссии.
Как известно, в марте 1819 г. тайный советник М. М. Сперанский, назначенный генерал-губернатором Сибири, отправился в свое трехлетнее «путешествие» по вверенному ему краю. Александр I возложил на него тяжкое бремя «ревизии» сибирских дел, их исправления и реформирования государственного и местного управления Сибирью. Результатом деятельности М. М. Сперанского стали громкие расследования и судебные процессы над множеством чиновников всех рангов за непомерные злоупотребления.
Особую тревогу у генерал-губенатора вызывали преступления местных властей по отношению к аборигенному населению. В соответствии с государственной патерналистской концепцией, М. М. Сперанский не только стремился вскрыть и расследовать преступления и несправедливости, чинимые относительно ясачных, но и собрал материалы, легшие позже в основу «Устава об управлении инородцев» – основного документа Российской империи, регулировавше- го взаимоотношения между властью и аборигенным социумом.
К моменту написания И. Манжиным прошения генерал-губернатор уже второй год находился в Сибири, и последствия его разбирательств с сибирской администрацией стали достоянием всех здешних жителей, дойдя и до таких отдаленных уголков, как Тагабская ясачная волость, затерянная в Причумышье. Надежда просителя на справедливое решение его проблем быстро оправдалась. Для следствия по этому делу сюда, по поручению исполнительной экспедиции, был послан надворный советник Текутьев. Оживилось и губернское правительство: по указу томского губернатора Ил-личевского началось следствие по делу о «притеснениях, нанесенных кузнецким исправником Бергом ясачному Манжину». Эти злоупотребления, так взволновавшие губернскую администрацию и вызвавшие интерес самого Сперанского, в «Прошении» сводятся к следующему.
«На исходе марта 1820 года… кузнецкой господин земский исправник Берх по бытности своей заводского ведомства в Тогуль-ской волости, узнал, что я по общественному согласию всех волости нашей ясашных выбран был в башлыки, то, неизвестно мне по какой надобности, посредством… нарочно посылаемых от одного в другое селение ясашных дал мне знать, чтоб я вскорости собрал в Манжинский улус всех заведования моего ясашных и поджидал его прибытия, во исполнение чего в то же время … моей Манжинской волости ясашные из разных селений были собраны, но проживая в Манжинском улусе в ожидании его приезда боле 3 суток. После чего, последнего зимнего времени и распутицы опасаясь, чтобы за продолжительным тогда неприбытием гос-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 3: Археология и этнография (приложение 1)
подина исправника не встретилось с ними при разлитии рек к возвращению в дом свой, посоветовали мне с двумя человеками ясашных ехать ему навстречу по тракту, где должен быть путь его. Поэтому я приехал в д. Мартынову, стоящую от нас в 30 верстах, и узнал от ее жителей, что господин исправник отправился в Елийский улус, и чтобы не разъехаться с ним в пути, возвратился с этим известием к обществу нашему в Ман-жинский улус, в ожидании прибытия его. На другой день решил с одним ясашным ехать к нему навстречу в Елийский улус, но во время моего переезда через р. Чумыш от нечаянного пролома утонула моя лошадь – причем, и сам от того с бывшим при мне товарищем едва спаслись.
После этого возвратились в предписанный Манжинский улус, в котором были собраны общества нашего ясашные, с которыми остались в ожидании. Вдруг приезжают за мною посланные г. исправником ясашной толмач Иван Суртаев с 5 человеками ясашных. По приказанию его, будучи в полном распоряжении Суртаева, не приемля в резон ничего, взяв меня как уголовного преступника, связав мне руки, намерены были бывших с ними лошадей оставить и везти меня к исправнику на моих (лошадях). Но когда работник мой им в том воспрепятствовал, то Суртаев избил его, как хотел, и, не взирая на случившееся в то время величайшее несчастие, что едва не последовало в доме моем от нечаянной неосторожности пожара, в таковой тревоге увез меня к исправнику, который так же как и Суртаев не хотел слушать никаких оправданий в невиновности моей. По содержании в Елийском улусе 3 суток, напоследок под стражею отвез с собою на линию в редут (Караканский? – Л. Ш .), не объясняя причин. Содержал в том редуте под караулом же, о чем узнала беременная моя жена… И понаслышавшись о жестокости господина исправника, тогда она, презрев опасности и оставя дома малолетних детей и все имевшееся в нем собственное имущество, как то находящихся в подвале довольное количество пчел, наняв по соседству деревни Мештаихи (?) крестьянина ехать за мной, и по приезде в редут (встретила) благодетелей в лицах Верхнененинского магазина вахтера Дудина и прочих, едва могла упросить с их помощью о свидании со мной.
Исправник освободил меня из-под караула со строгим подтверждением, чтоб я дос- тавил к нему в Кузнецк 2 пары хороших лошадей и денег 150 рублей (а за что, не знаю), угрожая притом за неисполнение сего публичным наказанием, лишением дома и ссылкою в Ыркуцк. Нынче по прибытию к господину исправнику в г. Кузнецк с выполнением оного уже не приемлют, а как при всех вышеизложенных обстоятельствах еще и пчел моих через это погибло 23 колотки, и сверх того по теперешнему работному времени лишился ныне и производства хлебопашества, посредством чего имел я не только достаточно продовольствия себе с семейством моим, но и довольного избытка, остающегося от годовой пропорции хлеба… К собственной выгоде своей поставлял хлеб в казенный в провизионный магазин, а ныне… не имею надежных способов, и поэтому о виновности господина исправника Берха о совершенном разорении меня и прошу Вас о правосудии за утопленную лошадь 50 руб., за 23 колотки за каждую по 15 руб., равно за прочие понесенные мною разорительные убытки учинить с господина исправника Берха взыскание.
8 июня 1820 г.» 1
В документе выделяются несколько аспектов. Во-первых, демонстрируются взаимоотношения между исправником и находящимся в его ведении башлыком ясачной волости; во-вторых, вскрываются ментальные установки аборигенного сознания; в-третьих, дается достаточно полная информация о социально- экономическом положении аборигенов Причулымья в начале ХIХ в.
Показательна тональность документа, в котором И. Манжин изображает себя человеком, оказавшимся по непонятным причинам «в совершенном разорении», но стремящимся выполнить все указания кузнецкого исправника. При этом из текста не ясно, что послужило причиной желания Берга встретиться с башлыком. Ее выяснило следствие. Оказывается, после выборов башлыка Тагабской волости в 1819 г. к исправнику, по его заявлению, обратилось 15 ясачных упомянутой волости, не согласных на замену прежнего башлыка Трофима Менгушева Иваном Манжиным. Будто бы отвечавший за законность этого назначения дворянский заседатель Затинщиков «выгнал их вон и написал сам приговор» 2. Берг предоставил Текутьеву материалы начатого им следствия «о самовольном удалении заседателем Затинщиковым башлыка Трофима Менгушева и о выборе на эту должность И. Манжина».
«Сомнительностью» выборов и объяснялось стремление Берга встретиться с тагаб-скими ясачными и самим Манжиным. К тому же на представлении об утверждении нового башлыка значилась лишь подпись заседателя, но без подписи секретаря Стар-ченкова. Более того, документ не был отправлен из Кузнецкого земского суда в Томск на утверждение губернского правительства, поскольку Старченков усомнился в законности выборов. Таким образом, вопрос о смене башлыков Тагабской волости юридически не получил разрешения; постановление оставлено без исполнения.
В ходе следствия надворный советник Текутьев взял объяснение о причине смены башлыка у Затинщикова, который к этому времени занимал должность чарышского земского исправника. Тот объяснил, что когда он в декабре 1819 г. находился в Тагаб-ской волости, то узнал, что башлык ее Трофим Менгушев неизвестно для чего позаимствовал у посторонних людей деньги, «и за то как сам он, так и ясачные находились от тех заимодавцев в работе» 3 . В ответ на просьбу ясачных «эти беспорядки прекратить» Затинщиков при свидетелях – башлыке Тогульской волости Николае Баксарине и ясауле Ашкыштымской волости Борисе Веселкове – обратился к ясачным Тагабской волости с предложением избрать нового главу. Те «без принуждения его, по своей воле избрали в башлыки Ивана Ман-жина». Когда же Текутьев встретился с теми недовольными, которые обратились к Бергу с просьбой о восстановлении справедливости, то они отказались от своих прежних показаний и заявили, что выбрали Манжина «без принуждения».
К этому времени кузнецкий исправник Берг уже был отстранен от должности, а Манжин обвинил его в вымогательстве лошадей и денег. Привлекая свидетелей, следствию удалось установить, что Манжин сам предлагал Бергу деньги в подарок и даже специально для этого приезжал в Кузнецк. При встрече «просил его, чтоб быть с ним в дружбе и утвердить его в башлыки» 4. Свидетели подтвердили, что Манжин приезжал в Кузнецк с тремя лошадьми и 150 рублями для исправника, однако Берг ни денег, ни лошадей не взял. Отказ исправника принять подарки позднее подтвердил и сам Манжин.
Следствие, с 1820 г. проводившееся как «Дело о притеснениях ясачного Ивана Манжина», закончилось в 1824 г. По вердикту Томского губернского суда бийский исправник Затинщиков был обвинен не столько «в самовольном избрании башлыка И. Манжина», учитывая, что все недовольные показали, что «принуждения не было», сколько «в написании своею рукою приговора и приказании крестьянину Заренкову прикладывать руки с готового регистра» не в соответствии с наличным составом участников выборов. Подсудимому было вменено в вину именно это обстоятельство и назначен штраф в размере 171 рубль 5 . Сумма была определена произвольно и соответствовала затратам надворного советника Те-кутьева по найму лошадей в период следствия. Вопрос об утверждении И. Манжина в должности башлыка Тагабской волости оставлен без ответа, ибо с 1822 г. уже действовал «Устав об управлении инородцев».
Следственное и судебное дела вскрыли неразбериху и произвол в проведении выборов и утверждении глав аборигенных волостей. Существовавшая система была достаточно запутанной и излишне бюрократизированной. Материалы дела показывают, что в назначениях на должность ведущую роль играли личные отношения между местной элитой и государственными чиновниками. Выяснилось, что до «избрания» И. Манжина Затинщиков не раз останавливался в его доме, а стремление первого во что бы то ни стало сделать «для знакомства» подарок следующему исправнику Бергу свидетельствовало о меркантильной сути взаимоотношений аборигенной верхушки и представителей власти. Взятка, замаскированная под подарок, являлась, очевидно, непременным атрибутом этих контактов. Возможно, жестокие меры, применявшиеся М. М. Сперанским ко взяточникам, заставили Берга отказаться от привычной практики «поминков», в то время как менее осведомленный Манжин продолжал навязчиво «поддерживать тради- цию». Обращает на себя внимание и то, что большая часть следственных материалов посвящена не иску Манжина о понесенных им убытках, а выяснению обстоятельств смены башлыков в Тагабской волости.
Иными словами, высвечивалась проблема, крайне интересовавшая М. М. Сперанского – выяснение практики управления сибирскими аборигенами и возможность ее реформирования. В «Уставе об управлении инородцев» именно этот аспект русско-аборигенных отношений является одним из наиболее разработанных. Опираясь на давно сложившуюся традицию принятия «общественных приговоров», «Устав» предельно детализирует поэтапное решение данного вопроса – вплоть до резолюции губернатора, что лишний раз подчеркивает патерналистскую сущность государственной политики по отношению к коренному населению Сибири.
Об этом, кстати, было прекрасно известно и массе сибирских аборигенов. Они воспринимали власть как систему, призванную и обязанную справедливо решать все без исключения проблемы их бытия. Именно этой установкой обусловлено обращение И. Манжина к самому генерал-губернатору, олицетворявшему в Сибири волю монарха. В «Прошении» нет уничижительных мотивов, наоборот – башлык ощущает себя человеком достойным, несправедливо обиженным не только потерей имущества, но, главное, покушением на его личность и права. Потому он закономерно рассматривает факт связывания ему рук как уравнивание его с уголовными преступниками, а насильственное, под стражей следование за исправником – как «жестокость».
Следует, впрочем, отметить, что Томский губернский суд все же рассматривал и этот аспект дела, хотя и менее обстоятельно. Поясняя факт «стеснения свободы» И. Манжи-на, исправник Берг заявил, что дважды посылал за ним людей, и лишь на третий раз направил ясачного Суртаева с приказом явиться к нему незамедлительно. Но Ман-жин, «осердясь», сказал, чтоб его связали – «и без того не поедет». Видя «упорство» башлыка, Берг задержал его в Елийском (Елейском) улусе – «чтобы он не мог самовольно уехать… до того только времени, пока от него будут отобраны показания». Затем исправнику нужно было посетить Ка-раканский улус, и он взял с собой задержан- ного, дабы тот далее отправился в «Кузнецкий земский суд для суждения» 6.
Томский губернский суд признал бывшего кузнецкого исправника Берга «виновным в стеснениях Манжина», которое «обнаруживается как содержанием под караулом, увозом с собою на линию с удалением его от домовых работ в весеннее время» 7 . Но в связи со смертью Берга наказания не последовало.
Существенно, что мнение ясачного Ивана Манжина о противозаконном лишении его свободы государственным чиновником было поддержано губернским судом. Таким образом, представление о невозможности лишения свободы без судебного решения достаточно прочно закрепилось в аборигенном сознании и опиралось на долговременный опыт практики взаимоотношений коренного населения Сибири с властями разных уровней. Более того, толмача Суртаева «за связывание рук у Манжина и столкнутие с крыльца его работника, разбившего себе лицо», суд приговорил к семисуточному заключению под караулом «на хлебе и воде» 8 . Следовательно, право лишать свободы и наказывать виновных государство считало своей исключительной прерогативой и вполне последовательно проводило эту линию.
Склонностью к насилию и злоупотреблениям отличались не только чиновники, но, как видно из следственных материалов, этим грешили и некоторые аборигены, получившие власть на уровне местного самоуправления. В свое время это стало причиной недовольства ясачных поступками их башлыка Трофима Менгушева, заставившего соплеменников отрабатывать личный долг. Не менее жестоко действовал и упомянутый «ясашный Суртаев», хотя являлся лишь посланцем исправника Берга. Следствие выяснило, что недолго занимавший должность башлыка Иван Манжин «без общественного согласия наказал ясашного Степана лозами и таскал за волосы брата его Трофима Ашегашевых… за произношение слов, что он (Манжин – Л. Ш.) более двух недель не пробудет в башлыках» 9. Представление о том, что человек, наделенный властью, волен действовать, не обращая внимания на существующее законодатель- ство, по собственному усмотрению отличало не только русскую администрацию, но было составной частью менталитета аборигенов. И в этом смысле уездный чиновник и выборный староста-башлык по отношению к зависимым от них людям действовали одинаково. Российская элита безболезненно подпитывалась разноэтничным населением империи, а аборигенная верхушка достаточно рано стала осмысливать себя неотъемлемой частью государственного аппарата.
Между тем в иске Манжину «за утонувшую лошадь, незасеянную пашню, пчел» было отказано на том основании, что их стоимость установить невозможно 10 , т. е. его расчет на возмещение государством его убытков не оправдался. Более того, за притеснения братьев Ашегашевых Манжина должны были подвергнуть «соразмерному наказанию». Однако суд учел, что он уже задерживался исправником Бергом и содержался под караулом, что и было ему «вменено в наказание».
«Дело о притеснениях Ивана Манжина» не выделяется своей необычностью из мно- гочисленных подобных документов, оно типично. Это было одно из частных, рутинных судебных разбирательств. Его достоинство в том, что оно приходится на период ревизии сибирских обстоятельств М. М. Сперанским, чем во многом и объясняется скрупулезность ведения следствия, которое вышло далеко за пределы «Прошения» Ивана Манжина и невольно обнажило характерные свойства сибирской реальности начала ХIХ в. Возможно, оно вместе с иными аналогичными процессами в известной степени повлияло на работу М. М. Сперанского по созданию «Устава об управлении инородцев», на упорядочение русско-аборигенных отношений. Наконец, появление «Прошения» и связанные с этим события, завершившиеся решением суда, свидетельствуют о том, что сибирские аборигены отнюдь не были беспомощны в отстаивании своих интересов: они прекрасно ориентировались в российской административной и юридической системе, даже до введения «Устава» точно зная, в какие инстанции и с какими проблемами следует обращаться.
Материал поступил в редколлегию 5.09.2006
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2006. Том 5, выпуск 3: Археология и этнография (приложение 1)