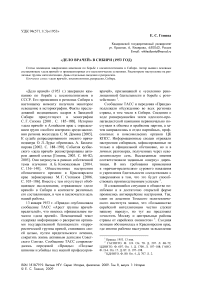«Дело врачей» в Сибири (1953 год)
Автор: Генина Елена Сергеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена завершению кампании по борьбе с космополитизмом в Сибири. Автор выявил основные составляющие «дела врачей» и проанализировал его идеологические установки. Рассмотрено наступление на различные группы интеллигенции. Даны отдельные сведения о репрессиях.
"дело врачей", космополитизм, репрессии, сибирь
Короткий адрес: https://sciup.org/14737039
IDR: 14737039
Текст научной статьи «Дело врачей» в Сибири (1953 год)
«Дело врачей» (1953 г.) завершило кампанию по борьбе с космополитизмом в СССР. Его проявления в регионах Сибири к настоящему моменту получили некоторое освещение в историографии. Факты преследований медицинских кадров в Западной Сибири присутствуют в монографии С. Г. Сизова [2001. С. 185–188]. Историю «дела врачей» в Алтайском крае с определением групп «особого контроля» среди населения региона воссоздала С. М. Демина [2005]. К судьбе репрессированного омского врача-педиатра О. Л. Лурье обратилась А. Бескем-пирова [2002. С. 188–190]. События кузбасского «дела врачей» реконструированы автором данной статьи [Генина, 2003. С. 66–82; 2005]. Они затронуты в рамках собственной темы изучения А. Б. Коноваловым [2004. С. 136–140]. Общественные настроения обозначенного времени в Красноярском крае зафиксировал М. Г. Степанов [2006. С. 105–106]. Вместе с тем отсутствует обобщающее исследование, отражающее «дело врачей» в Сибири в контексте различных его составляющих, в чем и заключается цель нашей работы.
-
13 января 1953 г. «Правда» опубликовала сообщение ТАСС «Арест группы врачей-вредителей», что явилось официальным началом «дела врачей». Помещенный текст содержал информацию о раскрытии органами государственной безопасности «террористической группы врачей, ставивших своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». Сообщение ТАСС сопровождалось передовой «Правды» «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-
- врачей», призывавшей к «усилению революционной бдительности и борьбе с ротозейством» 1.
Сообщение ТАСС и передовая «Правды» подлежали обсуждению во всех регионах страны, в том числе в Сибири. Сведения о ходе развернувшейся затем идеолого-пропагандистской кампании первоначально поступали в обкомы и крайкомы партии, а затем направлялись в отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС. Информационные сводки отражали настроения сибиряков, зафиксированные не только в официальной обстановке, но и в личных разговорах, полученных через осведомительную сеть. Высказанные мнения соответствовали заданным «сверху» директивам. В них требования применения к «врачам-вредителям» сурового наказания и укрепления бдительности соседствовали с заверениями в том, что это будет способствовать производственным успехам 2 .
В сложившейся ситуации в обществе неизбежно и в достаточно открытой форме проявились антиеврейские настроения. Так, один из доцентов Томского политехнического института заявил, что «большинство еврейской интеллигенции честно служат нашему народу», но тут же предложил «очистить Москву и центральные районы страны от еврейских сионистов» 3 . Сходная позиция обозначилась в Красноярском крае, где многие рабочие выступили за выселение
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 1: История © Е. С. Генина, 2009
евреев из Москвы, а также за проверку их деятельности в крае 4 . Обсуждения в Новосибирске выявили недовольство присутствием значительного числа евреев среди руководителей предприятий особого значения 5 .
Следствием сложившейся в сфере здравоохранения обстановки стала государственная проверка медицинских учреждений. В Тюмени медицинские работники, занимавшие ответственные посты и «не внушавшие политического доверия», переводились на рядовые должности или направлены в северные районы области 6 . Нарушения принципа подбора кадров, исходя из их «политических и деловых качеств», были выявлены в Омске. «Ошибки в кадровой политике» «вскрылись» в областной клинической больнице, облздравотделе и гор-здравотделе, городской скорой помощи, городской санэпидстанции, горбольнице Центрального района, роддоме им. Крупской, детском объединении Куйбышевского района 7 . Разоблачение «врачей-вредителей» в Центре послужило причиной увольнения
-
14 «неблагонадежных» медработников в феврале 1953 г. в Венгеровском районе Новосибирской области 8 .
Характерной чертой времени стали массовые жалобы населения на недостатки в работе медицинских учреждениях и отдельных врачей. В этом случае удобным инструментом «искоренения пороков» рассматривалась периодическая печать, куда и обращались граждане. Периодически областные и краевые газеты публиковали обзоры подобных писем, призванные послужить сигналом к «наведению порядка» 9 .
Под удар попали функционировавшие в регионе медицинские институты. Омский обком КПСС «вскрыл» значительную «засоренность кадров» в местном мединституте. «Выявилось», что большая часть кафедр вуза укомплектована людьми, не вызывающими политического доверия, некоторые руководители кафедр (Анчелевич, Мажбич,
Рабинович, Винников) целенаправленно сдерживали подготовку молодых специалистов. В начале апреля 1953 г. директор института Р. М. Ахрем-Ахремович был уволен с занимаемой должности «за допущенные безобразия в постановке научной и политической работы в институте», а секретарь партийной организации исключен из КПСС 10 . В Томском мединституте отсутствовали «критика и самокритика», имелся неправильный подход к учению И. П. Павлова, доценты Гофштадт, Анфимов и Нагорский читали лекции на низком идейно-теоретическом уровне. Вуз «в ряде вопросов стоял в стороне от практики, от работы больниц и органов здравоохранения» 11 . В Новосибирском мединституте в марте 1953 г. проводилась аттестация кадров. В связи с этим Новосибирский обком КПСС запросил в областном управлении МВД сведения о заведующих кафедрами (Колен, Геницинский, Фридман, Розенблюм, Кушелевский, Хур-гин, Шамовская) 12 .
Проверка показала «засоренность» Красноярского мединститута «неблагонадежными элементами». В вузе «выявили» более 30 работников ведущих кафедр, на которых имелись материалы компрометирующего характера 13 . «Отдельные недостатки» присутствовали в Иркутском мединституте: в учебном процессе слабо использовалось павловское учение, не всегда прослеживалась связь теории и практики, некоторые студенты слабо знали теорию русской и советской медицины, многие будущие врачи не могли «связать учение классиков марксизма-ленинизма с практической деятельностью врача» 14 .
В отношении врачей осуществлялись и прямые репрессии. Г. А. Шустеров, доцент Омского мединститута, был арестован Управлением МГБ по Омской области 20 января 1953 г. по обвинению в проведении антисоветской агитации (восхваление порядков в царской России и положения ученых в одной из зарубежных стран, клевета на советскую действительность, космополитические взгляды), хранении националистической и антисоветской литературы. Г. А. Шустеров осужден Омским областным судом 6 мая 1953 г. по ст. 58-10 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы, с поражением в правах на 5 лет 15.
Главный врач Омской областной детской больницы О. Л. Лурье был арестован Управлением МВД по Омской области 13 февраля 1953 г. Согласно заключению следствия и суда, в 1918–1919 гг. он «являлся секретарем и членом президиума Омской еврейской буржуазно-националистической организации “ВААД”». Доктор обвинялся в друже- ских отношениях с германским консулом в 1925 г., высказывании недовольства советской действительностью и клевете на возможности медицины в СССР. О.Л. Лурье осужден Омским облсудом 11 июня 1953 г. по ст. 58-4, 58-10 (ч. 2) и 58-11 УК РСФСР к 25 годам исправительно-трудового лагеря, с конфискацией имущества и поражением в правах на 5 лет 16.
Появление еще одного уголовного дела связано с событиями вокруг Сталинского государственного института для усовершенствования врачей (ГИДУВ). Третьего февраля 1953 г. на заседании секретариата Кемеровского обкома КПСС рассматривался вопрос «О неудовлетворительной работе Сталинского института для усовершенствования врачей», что повлекло за собой проверку учреждения. По ее итогам появилась подготовленная бригадой обкома партии «Справка» от 20 февраля 1953 г. В ней, в частности, отмечалось, что «из 13 профессоров, заведующих кафедрами, 10 человек еврейской национальности, близкие родственники которых (жены, дети, братья и сестры) работают в качестве доцентов и ассистентов ряда кафедр и имеют между собой тесную связь»; в институт «проникли» люди, «не внушающие политического доверия и не пригодные к научной и преподавательской работе» 17.
Вопрос о работе ГИДУВ рассматривался на заседании бюро обкома КПСС 18 марта 1953 г. За допущенные нарушения директора Г. Т. Шикова сняли с занимаемой должности, он получил строгий выговор с занесением в учетную карточку 18 .
14 марта 1953 г. Управление МГБ по Кемеровской области произвело аресты трех профессоров ГИДУВ: зав. кафедрой акушерства и гинекологии М. В. Могилева, зав. кафедрой микробиологии И. И. Карцовника, зав. кафедрой нервных болезней А. Р. Розенберга. Они проходили по одному делу как «участники еврейской буржуазнонационалистической группы». Им приписывалась клевета на национальную политику в СССР, а А. Р. Розенбергу и И. И. Карцовни-ку – «космополитические взгляды». В лекциях и докладах профессора якобы допускали идеологические ошибки (приверженность буржуазной идеологии, искажение марксистско-ленинской материалистической теории, извращение павловского физиологического учения, принижение заслуг русских ученых), строили работу в институте, ориентируясь на национальную принадлежность коллег. И. И. Карцовник и М. В. Могилев «безответственно относились к лечению больных». Однако достаточных доказательств их виновности собрать не удалось. За это время политическая ситуация в стране изменилась, и 30 апреля 1953 г. уголовное дело было прекращено, арестованные освобождены 19.
«Выявление» «врачей-вредителей» сопровождалось кампанией по борьбе с «притуплением политической бдительности». Внимание акцентировалось на лицах с «темными пятнами» в биографии (осужденные за контрреволюционные преступления, имевшие социально-чуждое происхождение, неблагонадежных родственников и т. п.), поднимались вопросы об их соответствии занимаемым должностям, пребывании в партии. Специально организованные доклады и лекции «о революционной бдительности» имели своим прямым следствием «сигналы» в органы власти с указанием на скрытых «врагов» 20 .
Под особым контролем в рассматриваемый период, помимо врачей, оказались инженерно-технические и научно-педагогические работники в контексте их национальной принадлежности. На промышленных предприятиях Омска осуществлялась «замена несоответствующих работников». В 1952 г., январе и феврале 1953 г. на заводе им. Баранова на ответственные посты вы- двинули 202 молодых специалиста. Они заменили кадры, «не внушавшие политического доверия». В числе последних – заместитель главного конструктора Нитченко, главный металлург Колчинский, начальники цехов Кисельгоф и Ратнер, начальник административно-хозяйственного отдела Ровнер и др. 21
В Алтайском крае отмечалась «значительная концентрация лиц еврейской национальности» среди инженерно-технического персонала на Алтайском тракторном, Алтайском вагоностроительном, Барнаульском котельном заводах. Так, на Алтайском тракторном заводе руководящие посты занимали 293 еврея, на Барнаульском котельном – 65 евреев. В январе 1953 г. Алтайский крайком партии обратился в ЦК КПСС с просьбой о помощи в ротации кадров для этих предприятий 22 .
Томский обком КПСС и управление МГБ в начале 1953 г., «проверив» состав управленцев строительства № 601 МВД СССР («атомный объект»), «выявили» 82 еврея. В отношении ряда руководителей шел поиск компрометирующих сведений. В силу занимаемой должности «неблагонадежным № 1» стал А. Б. Марочник, зам. главного инженера управления и начальник отдела технической инспекции, имевший дважды осужденного брата 23 .
Томский обком КПСС в период «дела врачей» взялся за «наведение порядка» на кафедре марксизма-ленинизма Томского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта. Из-за «низкого идейного уровня» лекций и «политических ошибок» в них от работы был освобожден доцент А. Е. Абрамович. Отстранен от чтения лекций и затем репрессирован доцент Л. А. Вишеров, который «на семинарских занятиях допускал вульгаризацию марксизма-ленинизма, прививал студентам поверхностное, непартийное отношение к изучению революционной теории». Заведующего кафедрой, доцента Б. А. Сенюкае-ва перевели в другой вуз 24 .
Бюро Новосибирского горкома КПСС 11 марта 1953 г. лишило должности заведующего кафедрой истории КПСС вечерне- го университета марксизма-ленинизма М. И. Рейхруда «за грубые извращения марксистско-ленинской теории». Он получил выговор с занесением в учетную карточку. В Иркутском сельхозинституте в лекции доцента Ревякина по курсу ремонта машин «не подчеркивалось преимущество механизации социалистического сельского хозяйства перед капиталистическим». Во вводной лекции по зоологии и зоогеографии, прочитанной зав. кафедрой охотоведения и зоологии, профессором Скалоном, была отмечена весьма слабую «критику капиталистического строя» 25.
«Дело врачей», являвшееся по своему характеру массовой кампанией мобилизационного типа, выполнило намеченное властью предназначение. Общественное сознание отреагировало на образ нового «врага» («врача-вредителя») и было подготовлено к возможному центральному процессу над ними, на что косвенно указывала и активность местных органов власти по подготовке локальных «дел». Хотя в кампании отчетливо прослеживалась «национальная составляющая», однако постепенно скрытый смысл «дела врачей», закамуфлированный под борьбу «за бдительность». По уже апробированной неоднократно технологии началось повсеместное выявление «несоответствующих» работников, т. е. кадровая «чистка», в которой первоначальная этническая составляющая могла служить прологом очередного витка масштабных репрессий, преследований независимо от национальной принадлежности.
Набравшую обороты кампанию остановили смерть И. В. Сталина в марте и реабилитация «врачей-вредителей» в апреле 1953 г. Тем не менее указанные события не стали окончательной точкой в «борьбе с космополитизмом», о чем свидетельствует и продолжение репрессий и дискриминаций в отношении интеллигенции, хотя и в значительно меньших масштабах. Причина происходившего видится как в действии механизма политической инерции, так и в той борьбе в верхних эшелонах власти, заложниками которой оказывались слои и группы интеллигенции, соприкасавшиеся с политическим режимом.
25 ГАНИИО. Ф. 127. Оп. 45. Д. 111. Л. 16–17.
«THE DOCTORS’ CASE» IN SIBERIA (1953)