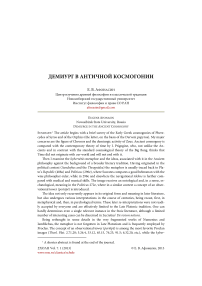Демиург в античной космогонии
Автор: Афонасин Евгений Васильевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Космос и душа
Статья в выпуске: 1 т.7, 2013 года.
Бесплатный доступ
Статья начинается с краткого разбора основных элементов ранних греческих космологий Ферекида Сиросского и орфиков. Основное внимание уделяется фигуре Кроноса и демиургической активности Зевса. Античная космогония сопоставляется с современной теорией времени И. Пригожина, который, подобно древним космологам и в отличие от сторонников стандартной космологической модели (теории Большого взрыва), считает, что время не возникло вместе с нашим миром и не закончится после его исчезновения. Затем я перехожу к подробному изучению платонической метафоры кормчего (kybernētēs) в контексте античной интеллектуальной традиции. Наконец, в качестве иллюстрации к теме я изучаю необычную кельтскую монету, выпущенную в Нормандии ок. 100 до н. э., на которой изображен воин на колеснице, держащий в руке приз победителя в виде модели корабля. Интересно наблюдать, как, истолковывая мифологический образ в политическом смысле, неизвестный кельтский мастер проделывает тот же путь, что и древнегреческий философ.
Античная космогония, современная космология, платонизм, время, идеальное государство, душа и тело, метафора кормчего, кельтские монеты
Короткий адрес: https://sciup.org/147103352
IDR: 147103352
Текст научной статьи Демиург в античной космогонии
Климент Александрийский передает следующее рассуждение Исидора, иначе неизвестного ученика александрийского теолога II в. н. э. Василида (Строма-ты 6.52.1–53.5):
-
(52 .1) Если, следовательно, в катаклизме погибнет вся грешная плоть и наказание осуществляется с целью исправления, то божья воля, будучи исправительной и действующей,2 спасает тех, кто обращается к ней. И тонкий элемент, душа, не подвергнется воздействию плотных вод, ведь тонкая и простая природа им не подвластна, недаром она называется бестелесной. Если же она отяжелеет под тяжестью грехов, то будет унесена потоками вместе с «телесным духом», который охотится за душой…
-
(53 .2) Исидор же, сын и ученик Василида, в книге первой Толкований на пророка Пархора пишет так: «(3) Аттические [философы] говорят, что знание сообщалось Сократу его демоном, и Аристотель 3 с ними согласен, говоря, что человеку на протяжении его жизни сопутствует некий демон. Они использовали это пророческое суждение и поместили его в свои книги, не желая признать, откуда они его взяли». (4) И далее во второй книге своего сочинения он пишет: «Не следует думать, что принадлежащее по праву избранным было ранее сказано философами. Ведь это не их открытие. Украв это у пророков, они приписали его наиболее мудрому среди них». (5) И далее там же: «Многие из считающих себя философами пытались по-
- нять, что есть “крылатый дуб” и вышитый покров (φᾶρος) на нем.4 Эти теологические аллегории Ферекид позаимствовал из пророчеств Хама».
Высказывание Ферекида возникает в примечательном эсхатологическом обрамлении.5 О том, что это за покров, узнаем ранее из той же книги Стромат (6.9.3–4), где, в доксографическом контексте, сообщается следующее (задача Климента – показать, что все лучшие мысли греки заимствовали у варваров):
-
(3) Вслед за Гомером, который так говорит о щите, выкованном Гефестом:
Там представил он землю, представил и небо и море,
Там и ужасную силу представил реки Океана 6,
-
(4) Ферекид Сиросский говорит: «Зас творит покров (φᾶρος) великий и прекрасный и на нем вышивает Землю (Гею) и Огена, и чертоги Огена».7
Картина согласуется с другими сообщениями о своеобразной космогонии Фе-рекида, в основном довольно поздними. Он считается современником семи мудрецов и учителем Пифагора,8 причем, по словам Суды (А 2 DK) «сам себя выучил», «приобретя тайные книги у финикийцев». Учитывая некоторую искусственность космогонии и необычность используемых имен, с этим последним утверждением трудно не согласиться: что он мог заимствовать у финикийцев, нам не известно, однако в оригинальности ему трудно отказать. Кроме того, ему приписывается первое прозаическое произведение на греческом языке и, что важно в нашем случае, именно с его именем может быть связан первый опыт креационистской космологии в Античности, которую, наряду с учением орфиков, можно, следовательно, считать одним из первых предвосхищений космологии Платоновского Тимея . Это обстоятельство подробно обсуждает М. Чейз в предыдущей статье этого выпуска (Chase 2013, 30 ff.). Моя же задача в данной заметке – представить два сопутствующих наблюдения, одно о времени, другое – о демиурге-кормчем.
I
Папирусный фрагмент (Grenfell–Hunt, Greek Papyr. II, n. 11, p. 23; B 2 DK; пер. А. В. Лебедева, с изм.) позволяет восстановить контекст сообщения Климента. Описывается свадьба первых богов, Заса и Хтонии:
«…Ему строят хоромы, многие и большие. Когда же они завершили их полностью, равно как и утварь, и слуг, и служанок, и все прочее, что необходимо, когда, значит, все было готово, устраивают свадьбу. И когда наступил третий день свадьбы, тогда Зас творит покров, великий и прекрасный и вышивает на нем Землю (Гею) и Огена, и чертоги Огена... [Зас обращается к Хтонии] Ибо, чтобы свадьбы были твоими, я жалую тебя этим [покровом]. Ты же у меня здравствуй и будь моей женой! Так, говорят, впервые произошли апокалиптерии. С тех пор этот обычай установился у богов и у людей. Она же е<му отвеча>ет, приняв<ши у него пок>ров.. ,». 9
Оген обычно отождествляется с рекой Океаном, а сам покров должно быть символизирует мир, из хаотического исходного состояния перешедший в оформленное. Хтония становится Геей, и, по свидетельству Оригена ( Против Кельса 6.42; A 4 DK),10 устанавливаемый мировой порядок должен быть завоеван в борьбе с силами хаоса:
Ферекид, который был намного древнее Гераклита, рассказывает миф о том, что два войска противостоят друг другу, одним из которых командует Кронос, а другим – Офионей, и повествует о вызовах и поединках между ними, и как они заключили договор: которые из них упадут в Оген – тем быть побежденными, а которые выпихнут [врага] и победят - тем владеть небом. Этот же смысл по его [Кельса] словам имеют священные сказания о Титанах и Гигантах, объявивших войну богам, и священные сказания египтян о Тифоне, Горе и Озирисе.
То есть – вспомним начало цитаты из Климента – хаотические силы уносятся бурными водами (именно их гностики-ператы по свидетельству Ипполита связывают с Кроносом), в то время как упорядоченные остаются во власти Земли и Неба (Зевса и Геи). Именно в таком смысле этот образ понимает далее Ориген ( Против Кельса 6.42; A 4 DK), говоря, что так бог упорядочивает словом «хтонически неистовую» материю, причем, «то же значение имеет и покров Афины, выставляемый на всеобщее обозрение во время Панафинейского шествия: на нем изображено, как не имеющая матери и девственная богиня побеждает мятежных сынов земли».
Образ «крылатого дуба» (ἡ ὑπόπτερος δρῦς) понять сложнее. Из ряда толкований современных комментаторов (см. Chase 2013, 31n. 67), упомянем лишь несколько: он мог указывать на ткацкий станок, на котором изготавливался покров (Гомперц),11 корабельную мачту, вроде той, на которой несли покров Афины (Дильс), мог символизировать Гею (Уэст), самого Заса (Breglia 2000) или тело космоса (Saudelli 2011).
Что касается акта творения, то, согласно Проклу (Комм. к Тимею 32; B 3 DK), «собираясь творить мир», Зевс, по Ферекиду «превратился в Эрота: создав космос из противоположностей, он привел его к согласию и любви и посеял во всем тождественность и единение, пронизывающее универсум», а согласно Дамаскию ( О началах 124b; A 8 DK) тремя первыми началами были Зас, Кронос и Хтония, и Кронос создал из своего семени огонь, воздух (пневму) и воду, которые, «после того, как они распределились в пяти недрах, образовалось новое многочисленное поколение богов, называемое пятинедровым (πεντέμυχος)». Проб (Комм. к Буколикам Вергилия 6.31: A 9 DK) дополняет, что эфир – это то, что правит, а земля – то, что в чем управляется Вселенная (то есть Зас и Гея). Гермий ( Осмеяние языческих философов 12; А 9 DK) дает такую интерпретацию: «Под Зевсом он разумеет эфир, под Хтонией – землю, под Кроносом – время; эфир – это активное начало, земля – пассивное, время – то, в чем все происходит». Наконец, Иоанн Лидийский ( О месяцах 4.3; А 9 DK) сообщает, что Зевс – это Солнце.
В общем-то, картина достаточно ясная, хотя оба эти варианта, хотя они и содержат необычную терминологию, которая может восходить к самому Фере-киду (Зас, Оген, «пятинедровый»), выглядят как плод позднейшей интерпретации. Если принять уникальное свидетельство Прокла, то мы должны будем признать, что перед нами одно из древнейших учений о боге-демиурге. Вечное Время (Кронос) произвело из своего семени материальный мир, а активное творческое начало (Зас), вступив в борьбу с силами хаоса, упорядочило и привело в согласное состояние как пассивное начало (Хтонию), так и вновь порожденный мир.
Мнения исследователей существенно различаются. Одни, вслед за Дильсом, истолковывают пять «недр» как пять элементов – два вечных и неизменных (Зевс-эфир и Гея-земля), три рожденных и изменчивых (воздух-пневма, вода и огонь), других привлекает гипотеза издателя фрагментов Ферекида Шибли (Schibli 1990, 22), который склонен истолковывать «недра» в прямом мифологическом смысле как «темные вместилища, подобные влагалищам», а распределение в них элементов «из семени Кроноса» считает указанием на процесс зачатия и формирования эмбрионов (многочисленного поколения богов). Значит, предвечное время у Ферекида дополняется еще и понятием предвечно- го пространства, вроде «хоры» или восприемницы Платоновского Тимея (подробнее см. Chase 2013, 34 f. n. 88–89), а Зас и Хтония оказываются, соответственно, мужской и женской репродуктивными функциями первоначального андрогинного божества, получившими на следующем этапе оформления космоса автономное существование в качестве Зевса и Геи.
Интересно сопоставить теогонию Ферекида с орфической. Во-первых, вызывает интерес фигура Кроноса, о чем подробнее ниже, и, во-вторых, «“крылатый дуб” и вышитый покров (φᾶρος)», который готовит Зас. Последний нередко сопоставляется с украшенным «пеплосом», который прядет Персефона и который в позднейшей традиции также истолковывается как образ обитаемого мира (орфика фр. 192 Kern = 286 Bernabé). Как и у Ферекида «нерушимым эфиром» Зевс называется в ряде орфических фрагментов, в том числе из Законов Платона (фр. 243, 17–21 Bern.). Кроме того, там же он назван «умом», содержащим «мысль» (νοήμα), что находит соответствие в толковании орфической теогонии в «Папирусе из Дервени» (колонка XIX; см. Афонасин 2008, 326): «Говоря, что Мойра “сплела” (ἐπικλῶσαι), они утверждают, что разумение (φρόνησιν) Зевса решает (ἐπικυρῶσαι), как (вечно) сущие, возникшие и будущие (вещи) должны возникать, пребывать и исчезать». Отметим еще один случай обращения к образу пряжи.
Вернемся к Кроносу. До нас дошло три версии орфической теогонии.12 Первая из них известна благодаря Аристофану, Платону, Аристотелю и его ученику Евдему (см. West 1983: 116 сл.). Две более поздних версии содержались в «Священном слове» в 24 рапсодиях («Рапсодическая теогония», см. West 1983: 227 сл.) и том тексте, который Дамаский приписывает «Иерониму и Геллани-ку» (см. West 1983: 176 сл.). Во всех случаях до нас дошли лишь отдельные стихотворные фрагменты, позднейшие пересказы и толкования. Как видно, источники по большей части те же, что и для теогонии Ферекида.
В древнейшей версии, которая может восходить к VI веку до н. э., Эрот рождается из Яйца, которое снесла Ночь. Будучи светоносной сущностью, он дает возможность всем вещам появиться на свет, просто осветив их (что позволило назвать его Фанесом в позднейших версиях). Он – первый явившийся бог, поэтому его называют Перворожденным («Протогоном»). Вслед за Ночью и Эротом идут четыре божества: Уран, Кронос, Зевс и, вероятно, Дионис (если верить Платону, который говорит, что теогония описывает шесть поколений богов). Впоследствии теогония претерпела важную модификацию, результат которой нашел отражение в «Священном слове» в 24 рапсодиях. Главной особенностью этой версии является то, что в ней в качестве первого божества Ночь сменил Кронос (Хронос=Время). Вопрос о датировке и степени аутентичности рапсодической теогонии очень сложен. Проблема в том, что она известна нам лишь в контексте аллегорических толкований у поздних авторов, от стоиков эллинистического периода до иудео-христианских теологов и философов-неоплатоников первых веков нашей эры. В этой версии исследователи склонны усматривать иранские влияния, а в Кроносе видят бога митраизма с головой льва (Brisson 1985b). Порождение божественных сущностей триадами и интерпретация этого процесса привлекала гностиков, ранних христиан и философов-неоплатоников. Кронос породил Эфир, Хаос, а затем Яйцо, из которого появился Фанес, иначе именуемый Эротом, Протогоном, Метидой и Эрикепеем. Фанес, сияющее божество или Свет, предполагает существование тьмы, или Ночи, его противоположности, причем, как отсутствие света, Ночь первична. Она была одновременно матерью, женой и дочерью Фанеса. В качестве дочери она наследует его силу (которая затем передается по женской линии), а ее «животворный кратер» рождает ему нескольких детей, в том числе Урана (которому переходит сила) и Гею, причем последняя порождает три группы богов, в числе которых Титаны и их сестры. Кронос, один из Титанов, кастрирует Урана и лишает его силы. Соединившись с Реей, он порождает нескольких детей, в том числе Зевса, который в свою очередь кастрирует своего отца. Соединившись с Герой, он получает силу. Затем он поглощает Фанеса, Перворожденного бога, и становится «всем», совершив второе творение. Женский партнер Зевса также является ему одновременно матерью, женой и дочерью. Соединившись с дочерью, он порождает Диониса, которому (по необъяснимой причине) сам передает власть. Титаны терзают Диониса и съедают его, однако Зевс возрождает его к жизни, испепелив Титанов.
Версия «Иеронима и Гелланика» отличается от «Рапсодической теогонии» только началом: первыми принципами называются вода и ил, из которых затем родился Дракон с головами быка и льва, «нестареющий» Кронос, он же Геракл (Дамаский, О первых принципах 123а).
Базируясь на тексте Папируса из Дервени,13 можно восстановить такую версию орфического мифа: поглотив «первородного», Зевс превращается во «всё» – начало, конец и середину, и, как средоточие всей силы и власти, объединивший в себе мужское и женское, огонь и воздух и т. д., порождает весь мир, совокупившись для этого со своей матерью, то есть своей женской половиной. На этом дошедший до нас текст заканчивается. Дионис не упоминается.
Правда, предыстория находит краткое отражение в колонках X–XI. Здесь Зевс еще только собирается захватить власть и совещается по этому поводу с Ночью. Затем обсуждаются прародители Зевса: Ночь, Первородный, Уран, Гея и Кронос. И вся эта история получает космологическое и естественнонаучное толкование в контексте построений ранних греческих философов, а также объясняется аллегорически в духе Кратила Платона и ранних стоиков.
В кол. XII автор папируса делает неожиданный ход, говоря, что,
Олимп – это то же самое, что и время (χρόνος = Кронос). Считающие же, что Олимп – это то же, что и небо (=Уран), заблуждаются, потому что они не знают, что небо не может быть долгим (μακρότερον) более, нежели широким (εὐρύτερον); назвавший же время долгим (μακρόν) не ошибется. Желая сказать о небе, он добавлял эпитет (προσθήκη) «широкое»; и напротив, Олимп он никогда не называл «широким», но только «долгим». Назвав же его «заснеженным» (νιφόεντα), [он уподобил время или гору?] по его значению снегу (νιφετώδει̣). Снежный (νιφετῶδες) [холоден] и бел… сверкающий… а воздух светел…
Поскольку Олимп идентифицируется со временем, а не с небом, как это обычно делается, и, кроме того, в кол. XIV с небом связывается Уран, порождение Ночи, возникает вопрос, не соответствует ли это «время» Кроносу рапсодической теогонии? Более того, примечательно появление в последних (очень испорченных) строках этой колонки эпитета νιφόεντα, ведь в рапсодической теогонии первородное яйцо, сотворенное Кроносом в эфире, связано с сущностью, называемой Νεφέλη (см. West 1983: 227 sq.; подборка текстов: Лебедев 1989: 48 сл.). Именно так считает Tortorelli Ghidini (1989 и 1991). Эта позиция отражена в переводе, сопровождающем новое критическое издание Папируса (Kouremenos–Parássoglou–Tsantsanoglou 2006).
Люк Бриссон (1997, 164) критикует эту гипотезу: «Более древняя версия, комментируемая в Папирусе из Дервени, по-видимому, является результатом критики теогонии, переданной при посредстве поэм Гомера и Гесиода, и развитой на основе более элементарной формы аллегорической интерпретации. Вполне естественно, что эта версия также подверглась аллегорической интерпретации, на которую сильное влияние оказал стоицизм, – интерпретации, породившей две другие версии, в которых в качестве древнейшего принципа берутся либо время – версия “Рапсодий” (конец первого – начало второго века н. э.) – либо пространство – версия, известная как теогония “Иеронима и Гелланика” (середина второго века н. э.)». Иными словами, теогония Папируса в большей степени напоминает теогонию «Аристофана и Евдема», где первым принципом также называется Ночь, и ничто в Папирусе не указывает на то, что ей предшествует Кронос, как это наблюдается в «Рапсодиях». Параллель с теогонией Ферекида в интерпретации Шибли (см. выше) очевидна. В кол. XIV говорится следующее:
Кроноса (Κρόνον) родила Гея (земля) от Гелиоса (солнца), потому что благодаря ему (сущие: ἐόντα) начали соударяться (κρούεσθαι) друг с другом из-за солнца…
Поскольку Ум (Νοῦν) ударял (κρούειν) (сущие?) друг о друга, он назвал его Кроносом («Ударяющим умом») и сказал, что он совершил для Урана великое; ведь последний был лишен царства. Кроносом он назвал его в силу этого деяния, и остальные (имена) – в соответствии с тем же принципом. Когда сущие [еще не соударялись, Ум], определяющий (ὀρίζειν) творение, [получил название Уран («Определяющий Ум»)]. И, [по его словам], он лишился своего царства, когда [сущие] начали соударяться…
Творческое начало мироздания – Гелиос-солнце, изначально бывшее частью Урана, «Определяющего Ума», точнее, его фаллосом, – благодаря Кроносу, «Ударяющему Уму»,14 получило самостоятельное существование, став воплощением активной силы младшего поколения богов (Афродиты, Зевса и Гармонии, кол. XXI) и причиной рождения всего в этом мире: «Гармонией же (бог назван) потому, что множество сущих вещей были им прилажены (ἠ]ρμοσε) друг к другу. Ведь они существовали и ранее, однако названы рожденными после того, как были разделены» (кол. XXI).
Толкуя орфическую теогонию в натурфилософском смысле, неизвестный автор IV в. до н. э. описывает примечательный физический процесс разрежения-уплотнения, происходящий благодаря нагреванию-охлаждению, причем сын Урана (Солнца) и Кроноса (Времени) Зевс отождествляется с воздухом (ср. «нерушимый эфир», фр. 243, 17–21 Bernabé), подобно тому, как это происходит в учении Диогена из Аполлонии (кол. XXV и др.):
Понимая, что огонь, будучи смешан с остальными (частицами), разрыхляет (ταράσσοι) сущие вещи (τὰ ὄντα) и не позволяет им соединяться из-за жара, он (Зевс = воздух) удаляет (ἐξαλλάσσει) его на такое расстояние, что, будучи удален, он уже не может мешать сущим (вещам) уплотняться (συμπαγῆναι). Ведь все, что возгорелось, охвачено (ἐπικρατεῖται, букв. управляется) (огнем), а будучи охваченным, смешивается с другими вещами (кол. IX).
Кол. XVIII показывает, что дыхание Зевса-воздуха – это его разумение (отождествляемое, как мы видели выше, с Мойрой), а значит, охлаждающее действие воздуха на огонь (=произошедшее от Урана солнце, связанное с Кроносом) носит не только физический, но и разумный характер, своего рода промысел, подчиняющийся разумному принципу (подробнее: Brisson 2003: 27).15
И далее, кол. XXV:
Ныне есть и другие (тела), парящие (букв. плывущие) в воздухе на большом расстоянии друг от друга… В парящем состоянии (αἰωρεῖται, букв. плывущими) их поддерживает необходимость, дабы они не сходились вместе; ведь в противном случае все (элементы), обладающие той же способностью (δύναμιν, букв. силой), что и те (элементы), из которых состоит солнце, слились бы в единую массу (ἀλέα) [ср. кол. V]. Если бы бог не пожелал, чтобы наличествовали ныне сущие элементы (ἐόντα), то он не создал бы солнца.
Мы видим, что первоэлементы, из которых составлен мир, по мысли комментатора характеризуются не количественным, а качественными характеристиками вроде «белое», «теплое», «холодное». Изначально они равномерно распределены в «воздухе», и образование мира происходит путем «спаривания» (кол. XXI) или соединения подобного с подобным, что конечно же напоминает учение Анаксагора (фр. 1 и др.). Из вышеперечисленных элементов формируется солнце и луна (автор забывает о гениальном прозрении Анаксагора о том, что луна светит отраженным светом солнца, фр. 18). Затем говорится, что до настоящего времени существуют и «реликты» первоначального состояния, свободно парящие в воздухе на большом расстоянии друг от друга. Все это напоминает, как замечает Буркерт, описание Млечного Пути Анаксагором и Демокритом (Аристотель, Метеорология А 8, 345а25 сл. = 59 А 80 DK). Однако далее говорится, что «необходимость» призвана обеспечить единственность этого мира: если бы эти частички не находились на таком большом расстоянии друг от друга, они могли бы слиться вместе и образовать еще одно солнце, что вновь находит соответствие у Анаксагора, рассуждающего во фр. 4а о возможных мирах.16
Силой необходимости мир держится как у Анаксагора и Демокрита, так и у пифагорейцев ( Теологумены арифметики 81.19; Платон, Государство 616c; Burkert 1972: 75–77). Правда, в отличие от Анаксагора и Демокрита и подобно пифагорейцам, наш автор рассуждает скорее в волюнтаристско-политическом, нежели рационально-физическом ключе: Зевс, он же создатель мира, «воздух»
и «разумение бога», обеспечивает установленный порядок в этом мире своей властью, что позволяет нам вернуться к исходному моменту: безусловно, перед нами ранняя версия космологии «платонического» типа, которая, разумеется, отличается от версии Ферекида деталями, однако совпадает в своих основных характеристиках. В обоих случаях процесс творения разворачивается в два этапа и ключевой фигурой этого процесса оказывается Кронос-Время. Кроме того, в обоих случаях мир возникает не из ничего: он порождается из вечного семени и затем подвергается определенной трансформации и упорядочению. И наконец, творческое начало не покидает созданный мир. Постоянно в нем присутствуя, оно не позволяет нарушиться хрупкому равновесию сил. Открытым остается вопрос о вечности мира: наши авторы не говорят об этом, однако можно предположить, что по крайней мере «семя» Кроноса неуничтожимо.
Поразительно, насколько точно древние авторы ухватывают суть метафизических проблем, которые лежат в основании космологических учений с Античности до настоящего времени. М. Чейз подробно сопоставляет древнюю космогонию со стандартной космологической моделью – Теорией Большого взрыва, а также обсуждает спор Иоанна Филопона и Прокла о вечности мира (выше в этом выпуске и Chase 2011), поэтому повторяться нет необходимости. С точки зрения стандартной теории мир имеет начало и, возможно, конец во времени, ограничен в пространстве и возник из некой сингулярности – точки, в которой содержится вся энергия Вселенной. Однако как такая сингулярность может существовать и откуда она взялась – ответить на эти вопросы наука не в состоянии. Законы физики не работают в точке, содержащей столь огромное количество вещества и энергии. Проблему пытаются разрешить самыми разными способами, и один из них очень близок той картине происхождения космоса, которую рисуют Ферекид, орфики и некоторые другие античные авторы. Именно, Илья Пригожин (2001, 144 сл.) считает Большой взрыв необратимым процессом и предлагает следующую гипотезу:
С нашей точки зрения время вечно. Какой-то возраст у нас есть, у нашей цивилизации, у нашей Вселенной, но само время не имеет ни начала ни конца… От Правсе-ленной, которую мы называем квантовым вакуумом, должен был произойти необратимый фазовый переход. Необратимость должна была произойти вследствие нестабильности в Правселенной, вызванной взаимодействием гравитации и вещества… Рождение нашей Вселенной более не ассоциируется с сингулярностью, а связывается с неустойчивостью, аналогичной фазовому переходу или бифуркации.
Эта гипотеза, как отмечает Пригожин, позволяет сблизить стандартную модель Большого взрыва и теорию стационарного состояния Вселенной Г. Бонди, Т. Голда и Ф. Холла. Согласуется она и с теорией мультиверса (подробнее см. Рис 2002, 87 сл., 149 сл.). В точности имеется в виду следующее. Согласно модели «бесплатного завтрака» (высказанной в 1973 г. Э. Трайоном) суммарная энергия нашей Вселенной, отрицательная (гравитационная) и положительная (связанная с массой формулой Эйнштейна), равна нулю. Тогда Большой взрыв – это флуктуация в вакууме, сохраняющая энергию, причем гравитационная энергия в результате некоторого процесса, необратимого в пространстве и во времени, трансформируется в вещество:17
Так как энтропия определенно связана с веществом, трансформация пространства-времени в вещество соответствует диссипативному необратимому процессу, производящему энтропию. Обратный процесс, который превращал бы вещество в пространство-время, невозможен. Таким образом, рождение нашей Вселенной стало бы результатом вспышки энтропии… Необходимость и случайность составляют важную часть предложенного подхода. Вселенные возникают там, где амплитуды гравитационного поля и поля материи имеют б о льшие значения. Такие места и моменты времени имеют лишь статистический смысл, так как связаны с квантовыми флуктуациями полей… Мы имеем здесь пример резонансов Пуанкаре, аналогичный распаду возбужденного атома. Но в данном случае процесс распада рождает не фотоны, а вселенные! Стрела времени существовала еще до рождения нашей Вселенной, и эта стрела времени будет существовать вечно (Пригожин 2002, 157–158).
II
Изменчивый универсум, возникший во времени и подверженный гибели, находится во власти космических сил, поддерживающих его в стабильном состоянии, и вопрос о том, что остается неизменным, когда мир подвергается трансформации или даже прекращает свое существование, занимал философов с древнейших времен. Примечательно, что позднейшие доксографы единогласно отдают пальму первенства в этих дискуссиях Ферекиду. Цицерон ( Тускулан-ские беседы 1.16.38) сообщает, что именно он впервые высказал идею о бессмертии человеческой души, а по одному из поздних свидетельств (Апоний, Толкование на Песнь песней , 5.95; А 5 DK), Ферекид что-то говорил о двух типах «пневмы» в человеческой душе, происходящей, соответственно, из небесных и земных семян (то есть от Зевса и Геи). Эта идея в конечном итоге приобрела популярность, поэтому не случайно, что обсуждая гностическое учение, Климент обращается именно к ней, примечательным образом, непосредственно следом вспоминая Ферекида. Повторимся для удобства читателей:
(52,1) …в катаклизме погибнет вся грешная плоть… И тонкий элемент, душа, не подвергнется воздействию плотных вод, ведь тонкая и простая природа им не подвластна, недаром она называется бестелесной. Если же она отяжелеет под тяжестью грехов, то будет унесена потоками вместе с «телесным духом», который охотится за душой… (Климент, Строматы 6.52.1).
Проблема слишком многогранна, чтобы рассматривать ее здесь во всех деталях, поэтому сконцентрируемся лишь на фигуре творца и управителя мира в его ипостаси «кормчего».
Этот образ возникает в диалогах Платона по преимуществу в трех контекстах и затем развивается в платонической традиции на протяжении всей античности. Первый контекст – обсуждение Сократом природы искусства (τέχνη), второй – космологическая и третий – психологическая интерпретация образа. Начнем с первого. Хороший пример – Государство 332d–e18:
Кто всего более способен творить добро своим друзьям, если они заболеют, и зло – своим врагам?
– Врач.
– А мореплавателям среди опасностей мореходства?
– Кормчий.
– Как же обстоит дело с тем, кто справедлив? Какими действиями и в какой области он всего способнее принести пользу друзьям и повредить врагам?
– На войне, помогая сражаться, мне кажется.
– Прекрасно. Но, дорогой мой Полемарх, тем, кто не болен, врач не нужен.
– Правда.
– А кто не на море, тому не нужен и кормчий.
Правда, справедливый человек полезен и в болезни, и на море и на войне, заключает Сократ и несколько ниже еще раз возвращается к этому образу, вновь сопоставляя врача и кормчего и замечая, что последнего «называют кормчим не потому, что он на корабле, а за его уменье и потому, что он начальствует над гребцами» (341c–d, ср. 360е). Проводя эту аналогию Сократ, разумеется, стремится подвести участников беседы к пониманию того, как должно управляться хорошее государство. Соответствующее дело в первую очередь следует доверять человеку, сведущему в том или ином искусстве: плохо будет, если воин в государстве станет кроме всего прочего и купцом, земледелец на досуге займется юриспруденцией, а сапожник кораблевождением (397е).19 То же самое верно и относительно искусства управления государством, причем важнее всего, чтобы в первую очередь во внимание принимались способности, а не знатность, имущественное положение и тому подобное, и в качестве аналогии вновь привлекается образ кормчего (551c):20
– Посуди сам: если кормчих на кораблях назначать согласно имущественному цензу, а бедняка, будь он и больше способен к управлению кораблем, не допускать…
– Никуда бы не годилось такое кораблевождение!
В контексте дискуссии о том, что «никто не чинит несправедливости по доброй воле, но всякий поступающий несправедливо несправедлив поневоле» ( Горгий 509е), Сократ обсуждает вопрос о том, какая жизнь лучше, достойная или приятная, и в качестве примера привлекает ремесло кормчего, подчеркивая что, как любое ремесло, оно, возможно и ценится ниже, скажем, искусства софиста или политического деятеля, однако, при всей своей непритязательности, не менее спасительно:
…мастерство кормчего… спасает от величайших опасностей не только наши души, но и наши тела, и наше имущество, совсем как красноречие. А между тем оно непритязательно и скромно, не важничает так, словно совершает что-то необычайное, но, сослуживши нам ту же самую службу, что судебное красноречие, например, доставив нас целыми и невредимыми с Эгины сюда, зарабатывает на этом, если не ошибаюсь, всего два обола, а если едешь очень издалека – из Египта или из Понта, за великое это благодеяние, сохранивши в целости, как я уже сказал, и хозяина, и его детей, и добро, и женщин, берет от силы две драхмы, когда судно причалит в гавани; а тот, кто владеет этим мастерством и кто исполнил все дело, сходит на сушу и скромно прогуливается по берегу, подле своего корабля. Вероятно, кормчий спо- собен рассудить, что неизвестно, кому из спутников, которым он не дал погибнуть в волнах, принес он пользу, а кому вред. Ведь он знает, что высадил их на берег совершенно такими же, какими принял на борт, – ничуть не лучше ни телом ни душою, – и потому говорит себе: нет, если кто, страдая тяжелыми и неисцелимыми телесными недугами, не потонул, так это его несчастье, что он не умер, и никакой пользы я ему не принес, но если кто скрывает множество неисцелимых недугов в душе, которая драгоценнее тела, то разве стоит ему жить, разве пойдет ему на пользу спасение от морской пучины, от суда или от любой иной напасти – ведь негодяю лучше не жить, потому что жизнь его непременно будет и скверной, и несчастной.
Вот почему кормчий обычно не важничает и не бахвалится, хоть и спасает нас от смерти, и строитель военных машин – тоже, а между тем, мой почтенный, он не уступит не только кормчему, но и никому иному на свете, даже полководцу: целые города спасает он от гибели в иных случаях. Ты, конечно, не поставишь его в один ряд с судебным оратором? Если бы, однако, он захотел, по вашему примеру, Кал-ликл, произнести похвальное слово своему занятию, то засыпал бы вас словами, призывая сделаться строителями машин, утверждая, что это необходимо и что всякое другое занятие ничего не стоит: доводов ему хватит. И тем не менее ты презираешь его и его искусство, «строитель машин» для тебя что-то вроде позорной клички, ты не захочешь отдать свою дочь за его сына и сам не возьмешь его дочь.
Но на каком же основании хвалишь ты собственное дело и по какому праву презираешь строителя машин и остальных, о ком я только что упоминал? Да, знаю, ты, верно, скажешь, что ты лучше их и произошел от лучших родителей. Но если «лучшее» – не то, что понимаю под ним я, если добродетель – в том, чтобы спасать себя и свое имущество, каков бы ты ни был сам, тогда смешно хулить и строителя машин, и врача, и все прочие искусства, созданные для спасения нашей жизни и нашего добра ( Горгий 511c–512d).
И еще одно важное обстоятельство: человеку, сведущему в том или ином искусстве, иногда позволительно то, что для всех остальных предосудительно. Разумеется, на благо людей. Так, гребец не имеет права давать кормчему ложную информацию о корабле, больной или гимнаст не должны скрывать от врача или тренера сведения о своем физическом состоянии, и, напротив, врач или политик могут солгать на благо, соответственно, пациенту или обществу, хотя «несведущие люди не должны прикасаться» к этому средству ( Государство 389b). Такая ложь – это терапевтический прием, причем намеренное его использование следует отличать от ошибок, вызванных простой неопытностью или некачественными орудиями:
Ну а какими орудиями лучше действовать – теми, с помощью которых можно добровольно действовать дурно, или теми, которые толкают на дурное поневоле? Например, какое кормило лучше – то, которым приходится дурно править понево- ле, или то, с помощью которого неверное направление избирается добровольно? (Гиппий Меньший 374е). 21
Эту же мысль повторяет автор I в., кроме Платона должно быть вспомнив и о Родосском морском законе:
Подобно тому, как врач при серьезном и опасном заболевании вынужден удалять некоторые части тела ради здоровья целого, а кормчий при наступлении бури – выбрасывать за борт груз, заботясь о безопасности людей, – и врача не порицают за нанесение повреждения, а кормчего – за выброшенный груз, а напротив, хвалят и того и другого, так как они правильно исполнили полезное вместо приятного, подобным же образом всегда следует восхищаться природой мироздания и с благодарностью принимать все происходящее, не ища в нем заведомого зла и не оценивая его с точки зрения отсутствия удовольствия, а с точки зрения того, руководится ли и управляется мир подобно благоустроенному городу (Филон Александрийский, О наградах и наказаниях 33; пер. А. Столярова).
Конечно, «налетевшая буря может побороть кормчего, внезапное ненастье – земледельца. То же самое и с врачом» (Протагор 344d), однако более искусный и рассудительный мастер имеет больше шансов на успех:
Ведь если нами руководит по преимуществу рассудительность… и, с другой стороны, если она действует в соответствии с науками, то ни один самозваный кормчий нас не обманул бы, и ни врач, ни стратег, ни кто-либо другой, делающий вид, что он знает то, чего он не знает, не остался бы неразгаданным… Будем пользоваться услугами только истинных мастеров… Рассудительность, как верный страж, не допустит, чтобы вмешалось невежество и стало нашим помощником. Однако, мой милый Критий, мы не можем пока быть уверенными в том, что, действуя сознательно, тем самым добьемся для себя благополучия и счастья ( Хармид 173bc).22
Платоник II в. все еще живописует в том же ключе:
Вот вам, например, прекрасный корабль, умело построенный, надежно сбитый изнутри, искусно украшенный снаружи, с послушным кормилом, крепкими канатами, высокою мачтою, превосходным топом, великолепными парусами, снабженный, наконец, всем, что полезно в плавании и приятно для взора; но если этим кораблем не правит кормчий или если правит им буря, с какою легкостью, вместе со всем своим замечательным снаряжением, исчезнет он, поглощенный пучиною, или разобьется о скалы!
Или вот еще врачи, которые приходят навестить больного. Ни один из них не обнадеживает его на том основании, что видит в доме комнаты, увешанные красивыми картинами, штучные потолки, обитые золотом, мальчиков и юношей пре- красной наружности, толпою стоящих в спальне вокруг ложа. Нет, врач, как только сядет рядом с больным, берет его руку, осматривает ее, нащупывает пульс и определяет силу его биения, и если обнаружит какие-нибудь перебои или неправильности, объявляет больному, что недуг его не из легких. Богач выслушивает запрещение принимать пищу, и в тот день не получает в своем собственном доме, где все дышит изобилием, ни крошки хлеба, в то время как вся его челядь пирует и веселится; его высокое положение ничем не может помочь ему в этом случае (Апулей, Флориды 23, пер. С. П. Маркиша).
Или христианский платоник II в. н. э.:
Не природа, а образование способствует воспитанию в нас всего доброго и прекрасного, подобно тому, как обучение создает врачей и моряков (Климент, Стро-маты 1.34.1). Мы уважаем многоопытного лоцмана, «видевшего городов много и людей»23, и имя врача, имеющего большую практику, за что и называют таких врачей эмпириками24 (Там же, 1.44.1).
Правда, как замечает, рассуждая в сократическом духе, оратор I в. н. э., владение искусством само по себе не ведет к добродетели:
Если кто-то становится наездником, хорошим рулевым, геометром или грамматиком, – нет ничего удивительного, если его после этого видят у гетеры или флейтистки: такие знания не делают человеческую душу лучше и не отвращают от грехов (Дион Хризостом, О философии 9, пер. Т. Г. Сидаша).
Примечателен и такой совет Платона по достижению здорового образа жизни:
Что касается движений, наилучшее из них то, которое совершается [телом] внутри себя и самим по себе, ибо оно более всего сродно движению мысли, а также Вселенной; менее совершенно то, которое вызвано посторонней силой, но хуже всего то, при котором тело покоится в бездействии, между тем как посторонняя сила движет отдельные его части. Соответственно из всех видов очищения и укрепления тела наиболее предпочтительна гимнастика; на втором месте стоит колебательное движение при морских или иных поездках, если только они не приносят усталости; а третье место занимает такой род воздействий, который, правда, приносит пользу в случаях крайней необходимости, но в остальное время, безусловно, неприемлем для разумного человека: речь идет о врачебном очищении тела силой лекарств ( Тимей 89а).
Морская прогулка стоит на втором месте после гимнастики, поскольку море, постоянно пребывая в движении, само заставляет тело двигаться. Далее Платон дает рекомендацию, типичную для гиппократовской школы: каждая болезнь проходит в своем развитии определенные стадии, и вмешательство в естественный ход вещей силою лекарств может навредить организму, поэтому «лучше руководить недугом с помощью упорядоченного образа жизни, насколько это позволяют нам обстоятельства, нежели дразнить его лекарствами, делая тем самым беду закоренелой», то есть лучше позволить нашему организму самому прийти в норму и восстановить естественный баланс жидкостей.25
Внешнее и нерегулярное вмешательство вредит любому организму и ускоряет его гибель. То же случится с кораблем, войском, и, как мы увидим далее, во всем космосом, если соответствующие условия не будут соблюдены. Сократ иллюстрирует это положение при помощи знаменитого образа «корабля дураков» ( Государство 488a–е):
Так вот, представь себе такого человека, оказавшегося кормчим одного или нескольких кораблей. Кормчий и ростом, и силой превосходит на корабле всех, но он глуховат, а также близорук и мало смыслит в мореходстве, а среди моряков идет распря из-за управления кораблем: каждый считает, что именно он должен править, хотя никогда не учился этому искусству, не может указать своего учителя и в какое время он обучался. Вдобавок они заявляют, что учиться этому нечего, и готовы разорвать на части того, кто скажет, что надо. Они осаждают кормчего просьбами и всячески добиваются, чтобы он передал им кормило. Иные его совсем не слушают, кое-кто – отчасти, и тогда те начинают убивать этих и бросать их за борт. Одолев благородного кормчего с помощью мандрагоры, вина или какого-либо иного средства, они захватывают власть на корабле, начинают распоряжаться всем, что на нем есть, бражничают, пируют и, разумеется, направляют ход корабля именно так, как естественно для подобных людей. Вдобавок они восхваляют и называют знающим моряком, кормчим, сведущим в кораблевождении того, кто способен захватить власть силой или же уговорив кормчего, а кто не таков, того они бранят, считая его никчемным. Они понятия не имеют о подлинном кормчем, который должен учитывать времена года, небо, звезды, ветры – все, что причастно его искусству, если он действительно намерен осуществлять управление кораблем независимо от того, соответствует ли это чьим-либо желаниям или нет. Они думают, что невозможно приобрести такое умение, опытность и вместе с тем власть кормчего.
Сравним это с двумя высказываниями из Политика :
Подобно тому как кормчий постоянно блюдет пользу судна и моряков, подчиняясь не писанным установлениям, но искусству, которое для него закон, и так сохраняет жизнь товарищам по плаванию, точно таким же образом заботами умелых правителей соблюдается правильный государственный строй, потому что сила искусства ставится выше законов (296е)…
Скорее надо удивляться тому, как прочно государство по своей природе: ведь нынешние государства терпят все это зло бесконечное время, а между тем некоторые из них монолитны и неразрушимы. Есть, правда, много и таких, которые, подобно судам, погружающимся в пучину, гибнут либо уже погибли или погибнут в будущем из-за никчемности своих кормчих и корабельщиков – величайших невежд в великих делах (298d)…26
Благодаря своему искусству врач спасает людей от болезни, кормчий – от гибели в морской пучине, правитель же аналогичным образом борется с общественными недугами и ведет общество надежным курсом в спокойную гавань.
Правителя с кормчим сравнивает еще Эсхил ( Семеро против Фив , 1–3, пер. С. Апта):
Народ кадмейский, время не велит молчать Тому, кто, стоя у кормила города, Вершит его делами и не знает сна.
Примечательно также сопоставление афинского демоса с глухим старикашкой во Всадниках Аристофана (ст. 43).27 Еще один интересный случай находим в Феогнидее . Вполне в духе сочинителя элегий VI в. до н. э. неизвестный подражатель пишет так (ст. 670–685, пер. В. Вересаева):
Если бы я, Симонид, богатство сберег, то, конечно, Так бы не мучился я в обществе добрых людей. Гибнет богатство мое у меня на глазах, и молчу я, Бедностью скован, хотя вовсе не хуже других Знаю, ради чего понеслись мы в открытое море, В черную канули ночь, крылья ветрил опустив. Волны с обеих сторон захлестывают, но отчерпать Воду они не хотят. Право, спастись нелегко! Этого им еще мало. Они отстранили от дела Доброго кормчего, тот править умел кораблем. Силой деньги берут, загублен всякий порядок, Больше теперь ни в чем равного нет дележа, Грузчики стали у власти, негодные выше достойных. Очень боюсь, что корабль ринут в пучину валы. Вот какую загадку я гражданам задал достойным, Может и низкий понять, если достанет ума.
К сожалению, этот текст может быть датирован лишь приблизительно. Возможно, он написан еще до Платона, возможно, под его влиянием, однако позиция его автора отличается от мнения Сократа в Государстве. Как мы видели, философ неоднократно подчеркивает, что способности управления как кораблем, так и государством не зависят от социального происхождения кормчего. Напротив, автор элегии полагает, что государство оказывается в опасности всякий раз, когда к власти приходят простолюдины, а «достойные», аристократы, ее утрачивают.
Наше место из Государства упоминает в третьей книге Риторики (1406b) Аристотель, сопоставляя сравнение народа с «капитаном корабля, сильным, но тугим на ухо» с рядом аналогичных, таких как сравнение беотийцев с дубами (подобно тому, как один дуб, падая, губит другие, так и беотийцы уничтожают друг друга в гражданских войнах) или демоса с людьми, страдающими морской болезнью (это сравнение приводит Демосфен). Историк II в. до н. э. Полибий не только принимает сравнение Платона, но и находит подтверждающие его примеры в греческой истории: сколько раз полисы переживали тяжелые времена и спасались благодаря таким выдающимся людям, как Фемистокл, и лишь для того, чтобы прийти в упадок в благополучные и мирные годы, причем источник бедствия всегда один – своеволие необузданной толпы. 28
III
Как видим, наш образ кормчего получил в античной литературе определенное развитие как до Платона, так и после него, однако наибольшее значение он приобрел именно в платонической философии. Стоики, к примеру, использовали совсем другие примеры и метафоры:29
Следует уподоблять мудрость не искусству кораблевождения или врачевания, но, скорее, правилам актерского мастерства или танцев (nec enim gubernationi aut medicinae similem sapientiam esse arbitramur, sed actioni illi potius, quam modo dixi, et saltationi), …поскольку ее конечная цель, то есть реализация данного искусства, заключена в ней самой, а не привходит извне (Цицерон, О пределах добра и зла 3.24; со ссылкой на стоическое учение, фр. 11 Хрисипп, т. 3.1).
И вообще не любили море:
У Зенона Китийского оставался лишь один торговый корабль. Узнав, что и тот погиб вместе с грузом, захлестнутый волнами, Зенон сказал: Прекрасно ты поступаешь, удача, обращая нас к грубому плащу (и портику)» (Плутарх, О безмятежности души 6, 467с = Плутарх, О пользе от врагов 2, 87а). Ср. Диоген Лаэртий 7.5: «Другие говорят, что Зенон жил в Афинах, когда узнал о крушении и сказал: И прекрасно поступает удача, понуждая нас к философии» (= Сенека, О безмятежности души 14.2).
Как видим, в стоицизме морская стихия также сравнивается с неукротимой и неконтролируемой страстью,30 но если платоник призывает освоить искус- нения Филодема), в котором стоик рассуждает о пользе музыки «не только для души, но и для тела». Филодем критикует идею Диогена о том, что мелодия «по природе содержит в себе нечто, склоняющее к действию» (как огонь по природе жгуч), отмечая, в частности, его идею о том, что «Орфей не передвигал скалы и деревья силой своей игры, как о том повествуют мифы и как мы привыкли сейчас гиперболически говорить, а на самом деле помогал авлетам триеры задавать ритм» (фр. 68–69 SVF 3.2, Филодем, О музыке 70 Kemke). Другой пример: Аполлодор Селевкийский (ученик Диогена Вавилонского) в «Физике» (фр. 7, т. 3.2, Стобей, Эклоги 1.19.5 W., из Ария Дидима, физ. фр.
ство кораблевождения для преодоления этой стихии и даже использования ее мощи во благо, то стоик предпочитает устраниться от опасности.31 Поэтому метафора чаще всего возникает в контексте стоической концепции судьбы, причем море – это, как правило, неблагоприятный знак неизбежной гибели.32 Примечательное исключение – такое «стоическое» истолкование платонической метафоры позднеантичным комментатором Тимея :
Если кому суждено разбогатеть на морской торговле, то при содействии именно такого, а не другого кормчего, или если какому-нибудь государству суждено пользоваться добрыми законами и нравами, то Спарте это было суждено при помощи законов Ликурга… искусства подвластны велениям судьбы: ибо ими давно уже было назначено, какой больной с помощью какого врача поправится (Калкидий, Комментарий к Тимею 160–161; Хрисипп, фр. 943, пер. А. Столярова).33
Красочные описания природных явлений и морские метафоры находим и в эпикурейском тексте: Лукреций, О природе вещей 1.270 сл. и 6.140 сл. (неистовство ветра и волн); 1112 («материя хлынет») и др. В первых двух строках второй книги своей поэмы последователь Эпикура рассуждает точно так же, как Зенон: 34
Сладко, когда на просторах морских разыграются ветры, С твердой земли наблюдать за бедою, постигшей другого, Не потому, что для нас будут чьи-то муки приятны,
Но потому, что себя вне опасности чувствовать сладко (пер. Ф. Петровского).
И далее (2.550) «бездна материи» иллюстрируется картиной кораблекрушения, после чего следует совет избегать обманов коварного моря, даже если «лукавая гладь улыбается тихого понта». Правда, затем говорится, что именно разнообразие и непостоянство начал обеспечивают вечность жизни: «то побеждают порой животворные силы природы, то побеждает их смерть» (575).
В четвертой книге встречается и наш образ:
…От двойной здесь исходит причины движенье:
Тело как будто корабль, что и весла уносят и ветер.
Да и, по правде сказать, ничего тут мудреного нету
В том, что возможно таким ничтожнейшим тельцам свободно
Тяжестью править такой и у нас поворачивать тело.
Гонит же ветер, при всей своей сущности легкой и тонкой,
Мощный корабль пред собой, как бы не был он тяжек и грузен;
Только одною рукой его бег направляется быстрый,
Только единственный руль руководит им как угодно (4.897–904, пер. Ф. Петровского).
Эта иллюстрация используется затем в нескольких контекстах: она поясняет как движение физических тел, так и душевные движения, поскольку душа, согласно учению Эпикура, также состоит из мельчайших частичек («… когда дух охвачен стремленьем двигаться, тотчас удар он силе души сообщает… следом же тело душа ударяет, и мало-помалу так вся громада вперед от толчка получает движенье», 4.887 сл.). И напротив, безмятежное состояние души, по свиде- тельству Цицерона (Тускуланские беседы 5.6.16), эпикурейцы сравнивали со спокойным морем.
В политическом контексте эпикурейцы эту метафору не используют, хотя такое развитие мысли довольно очевидно. Космологические аналогии, напротив, встречаются. Так, в 5.108 упоминается «судьбины кормило».
С кораблем тело сравнивает Гален, точнее, позвоночник и ребра с килем и шпангоутами корабля (καθάπερ ἐπὶ τρόπιδι ναῦς, Искусство медицины 10.5; I, p. 333.1 Kühn). Сравнение очевидное, однако далее Гален не идет и, обсуждая в других своих работах психологию Платона, душу или жизненную способность с кормчим не связывает и, вообще, предпочитает воздерживаться от рассуждений о природе души. Кроме того, Гален любит пословицу ἐκ βιβλίου κυβερνήται «плавать по книге». Он употребляет ее в разных местах своих работ, каждый раз с целью подчеркнуть превосходство эмпирического метода исследования явлений в сравнении с умозрительными спекуляциями по их поводу ( О моих книгах, v. XIX, p. 33.5 Kühn и др.).
IV
Вернемся к Платону. Образ «Корабля дураков» из Государства в Политике (272е сл.) истолковывается в космологическом смысле. Таков, как отмечалось в начале, второй основной контекст, в котором возникает наш кормчий. Описывается жизнь мира при Кроносе и Зевсе. Мир Кроноса был уничтожен стихией и начал снова возрождаться. Приведу этот основополагающий фрагмент пол-ностью:35
После того как каждая душа проделала все предназначенные ей порождения и все они семенами упали на землю, кормчий Вселенной, словно бы отпустив кормило, отошел на свой наблюдательный пост, космос же продолжал вращаться под воздействием судьбы и врожденного ему вожделения (τότε δὴ τοῦ παντὸς ὁ μὲν κυβερνήτης, οἷον πηδαλίων οἴακος ἀφέμενος, εἰς τὴν αὑτοῦ περιωπὴν ἀπέστη, τὸν δὲ δὴ κόσμον πάλιν ἀνέστρεφεν εἱμαρμένη τε καὶ σύμφυτος ἐπιθυμία). Все местные боги, соправители могущественнейшего божества, прознав о случившемся, лишили части космоса своего попечения. Космос же, повернувшись вспять и пришедши в столкновение с самим собой, увлекаемый противоположными стремлениями начала и конца и сотрясаемый мощным внутренним сотрясением, навлек новую гибель на всевозможных животных. Когда затем, по прошествии большого времени, шум, замешательство и сотрясение прекратилось и наступило затишье, космос вернулся к своему обычному упорядоченному бегу, попечительствуя и властвуя над всем тем, что в нем есть, и над самим собою; при этом он по возможности вспоминал наставления своего демиурга и отца.
Вначале он соблюдал их строже, позднее же – все небрежнее. Причиной тому была телесность смешения, издревле присущая ему от природы, ибо, прежде чем прийти к нынешнему порядку, он был причастен великой неразберихе… Когда же космос отделился от Кормчего, то в ближайшее время после этого отделения он совершал прекрасно; по истечение же времени и приходе забвения им овладевает состояние древнего беспорядка, так что в конце концов он вырождается, в нем остается немного добра, смешанного с многочисленными противоположными свой-свойствами, он подвергается опасности собственного разрушения и гибели всего, что в нем есть. Потому-то устроившее его божество, видя такое нелегкое его положение и беспокоясь о том, чтобы, волнуемый смутой, он не разрушился и не погрузился в беспредельную пучину неподобного, вновь берет кормило и снова направляет все больное и разрушенное по прежнему свойственному ему круговороту: он вновь устрояет космос, упорядочивает его и делает бессмертным и непреходящим.
Искусство кораблевождения вновь связывается с врачебным («направляет все больное и разрушенное») и политическим искусством, что же касается космогонического мифа, то аналогия с древними теогониями почти полная. Творение происходит в два этапа, за которые ответственны, соответственно, Кронос и Зевс (связанные, как и ранее, с водной и воздушной стихиями), причем мир «засевается» душами (очевидно, вечными). Существование мира зависит от присутствия демиурга и младших «региональных» богов, и без их участия он погружается в исходный хаос, и так далее. Основные нововведения Платона, кроме фигуры Кормчего, – это политическое толкование космогонического мифа и ясное определение судьбы мира: как мы видели, орфики не знают ответа на этот вопрос,36 по Платону же после второго творения мир более неуничтожим.37
Напротив, неоплатонического комментатора такое развитие сюжета не устроило. Интересное в качестве политической метафоры, оно наталкивается на большие сложности в вопросе о вечности мира (о чем подробнее см. статью М. Чейза выше в этом выпуске). В самом деле, почему творец начинает творить в какой-то конкретный момент, проведя бесконечное время до этого в покое? «Так было лучше? Но тогда возникает вопрос: он знал об этой лучшей возможности раньше или нет? То что он – ум – не знал об этом, предполагать абсурд- но. Ведь тогда ему одновременно присущи были бы и незнание и знание. Если же он знал, то почему он не начал рождать мир и оформлять его ранее?», – спрашивает Прокл в своем Комментарии к Тимею (1, 288.16–23). И продолжает: «Или так лучше не было? Но тогда почему он не остался навсегда в покое?» (23–24). Значит, – при условии, что высший принцип всегда знает что лучше и поступает в соответствии с этим знанием, – мир либо существовал вечно, либо не мог возникнуть никогда. Так что, если демиург относится к числу вечно сущих, то дело не обстоит так, как если бы он творил в один момент, в другой же отпускал весло. Ведь тогда он не оставался бы всегда самим собой, но подвергался изменениям (там же, 13–15).
Интересную и комплексную интерпретацию образа, по свидетельству Евсевия, дает пифагореец и платоник II в. Нумений:
Кормчий корабля, плывущего по волнам, возвышается над кормой и управляет судном со своего места, хотя его взор и ум устремляются ввысь, в небесный эфир; определяя свой курс по небу, он плывет внизу по морю. Точно так же и демиург, прочно связав материю гармонией («скрепами»), так, чтобы она не смогла разболтаться и заблудиться, сам располагается над ней, как в корабле над водой.38 Правя гармонией, он направляет ее с помощью идей, и вместо неба созерцая высшего бога, который притягивает его взор, обретает способность суждения (κριτικὸν) от созерцания, а устремление (ὁρμητικὸν) – от своего желания (Нумений, фр. 18 Des Places).
Здесь возникает новая аналогия между кормилом и «гармонией», важная, как мы увидим, в дальнейшем, особенно в контексте интерпретации «нерушимых скреп» из Тимея (43а).39 Кормчий (демиург) покоряет море (материю) гармонией (кормилом), прокладывая свой путь по небесной карте (высшее божество, парадигма). В двух других фрагментах наглядную интерпретацию получает образ наблюдательного поста (περιωπή):
Представления о телах мы формируем посредством наблюдения похожих тел и знаков, обнаруживаемых в объектах и доступных нашим чувствам. Напротив, благо не может быть схвачено при помощи чего-либо непосредственно открывающегося взору или посредством какого-либо чувственно воспринимаемого подобия. Как человеку, сидящему на наблюдательном посту, удается, напрягши зрение, всего на миг ухватить силуэт паруса маленького рыболовного судна, – одного из тех далеких суденышек, предоставленных самим себе и попавших в пучину волн, – точно так же и нам следует отстраниться как можно дальше от вещей чувственных и остаться один на один с благом (τῷ ἀγαθῷ μόνῳ μόνον), там, где нет ни человека, ни какого другого живого существа, ни тела большого или малого, но только безмерное, неописуемое и совершенное (ἀτεχνῶς) божественное одиночество – убежище (διατριβή) и излюбленная обитель (ἀγλαΐαι) блага, в котором оно в покое, благости, тишине и величии неспешно плывет поверх всего сущего (ἐποχούμενον ἐπὶ τῇ οὐσίᾳ). Однако если кому, увлеченному чувственным, почудится, будто он видит парящее над ним благо, и он убедит себя в том, что сообщается с ним, то пусть знает, что полностью заблуждается. В действительности для этого необходимо не простое устремление, но направленное на бога усилие: для этого лучше сначала пренебречь чувственным и – с юношеским рвением (νεανιευσαμένῳ) к наукам – изучив свойства чисел, сосредоточиться на науке о том, что есть сущее40 (Нумений, фр. 2 Des Places).
Рассуждая далее о двух богах, первом и втором (почему бы не соотнести их с Кроносом и Зевсом?), Нумений говорит, что первый бог – это отец демиурга, причем он
…не проявляет активности в каких-либо делах и является царем,41 в то время как демиургический бог “берет на себя управление на пути по небу”.42 Именно благодаря ему осуществляется и наше путешествие, когда ум (νοῦς) направляется вниз через сферы43 ко всем, кто в силах стать ему причастными. Когда бог взирает на нас и обращается к каждому из нас, тогда тела растут и расцветают, поскольку бог опекает (κηδεύοντоς) их посылаемыми сверху дарами (ἀκροβολισμοῖς)44; когда же бог возвращается назад в свой наблюдательный пост, все прекращается и ум живет независимо, наслаждаясь счастливой жизнью45 (Нумений, фр. 12 Des Places).
Перед нами характерный случай прочтения образа Кормчего из Политика вкупе с психологической метафорой из Федра , где, напомню, душа человека представлена «соединенной силой крылатой парной упряжки и возничего» (246аb), причем кормчим души называется ум (247d):46
Занебесную область не воспел никто из здешних поэтов, да никогда и не воспоет по достоинству. Она же вот какова: эту область занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души – уму; на нее-то и направлен истинный род знания (Ср. Тимей 41е и 69с).
В последующей традиции эта интерпретация развивается и приобретает новые черты. Так, Прокл в Платоновской теологии (4.18–22; здесь и далее пер. Л. Ю. Лукомского) изображает следующую топографию небес: поднимаясь ввысь, правящий крылатой колесницей Зевс и двенадцать сопровождающих его богов сперва приближаются, как к входному маяку, к «внутринебесному наблюдательному пункту» и «блаженным зрелищам и путям мыслимого», затем они проходят поднебесный свод и достигают небесного хребта, где божественные души останавливаются и, «двигаясь по кругу вместе с небом, созерцают всю потустороннюю сущность». Эта последняя есть «подлинная сущность, поле истины и луг», «царство Адрастеи». На пути же вниз, в полном соответствии с Федром, души «хромают, ломают крылья и словно бы тонут». Характерно, что чуть ниже Прокл вспоминает орфику, Зевса, Кроноса и Ура-на.47 «Кормчим души», как со ссылкой на предшественников (должно быть,
Ямвлиха; ср. Гермий, Комм. к Федру 159.24) говорит Прокл, называется «частный ум» (4.22.22). Именно он созерцает «занебесную область», которая, примечательным образом является женской сущностью и уподобляется «кормилице и восприемнице» Тимея (49а), то есть той стихии, по которой правит ум (4.33.17 сл.). Ср. также: «Ум, кормчий души, то есть частный ум, располагающийся выше душ и приводящий их в отеческую гавань…» (4.43.16), «кормчие становления» (3.66.11) и т. д.
Образ наблюдательного поста Прокл использует неоднократно, причем находит его на всех уровнях бытия. Подобно входному маяку, он каждый раз обозначает правильный курс и, поднявшись на него, можно обозреть ту или иную область как целое: младшие боги «восходят на собственный наблюдательный пост» (5.31.10 и 33.12); «акрополь Зевса» ( Протагор 321d) – это умный круговорот и вершина Олимпа, наблюдательный пост Зевса (5.91.6); существует и «Кронов наблюдательный пост» (5.26.4); «отец всего» восходит на собственный наблюдательный пост (5.65.15 и 74.25, 6.32.20); упоминается «умопостигаемый наблюдательный пост первых умных богов» (2.72.20 и 5.138.13); божество либо «возвращаются на умопостигаемый наблюдательный пост» (4.15.1); либо оставив само себя, перестает существовать или покидает пределы собственной ипостаси (3.20.17) и т. д.
Метафизическая интерпретация платоновского образа начинает, по крайней мере со II в., развиваться и в христианской философии. Так Климент Александрийский прибегает к ней для иллюстрации своего представление об истинном гностике:
Мнящий себя мудрым не желает прислушаться к божественным заповедям; как и всякий самоучка, он надменен, охотно отдается течению волн, с высот извечного знания нисходя до вещей преходящих и пустых. Недаром говорится, что «не владеющие собой, опадают, как листья» ( Притчи 11.14). Поэтому и называют кормчим души рассудительность, которая, будучи правящей ее силой, есть начало устойчивое и руководящее. К неизменному приводит то, что само не подвержено колебаниям ( Строматы 2.51.5–6)… И в научном рассуждении, будучи единственно знающим, он начинает с рассуждения о благе, всегда исходя из предметов умопостигаемых, переходя затем от них как от архетипов к делам человеческим, подобно тому, как навигатор направляет корабль по звездам, готовый при необходимости предпринять любое действие и отразить любые трудности и опасности, когда этого не избежать, никогда не делающий ничего поспешного или не соответствующего обстоятельствам, такого, что опасно для него или же для других, способный предвидеть последствия и не теряющий самоконтроля, бодрствуя или во сне (Там же, 6.79.1).
Или в другом месте:
Подобно тому как стоящие на якоре, извлекая из моря опущенный якорь, сами движутся в его сторону, так и гностик, желая привлечь бога совершенством своего образа жизни, сам собой притягивается к нему (Там же, 4.152.2).
Подобная метафора, только относительно причала, а не якоря, используется у Псевдо-Дионисия ( О божественных именах III 1, 680 c).
V
Дискуссии о природе ума, души и их связи с телом с одной стороны и «занебесной областью» с другой – это целая традиция, как в метафизике, так и психологии, и мы не можем здесь ее рассматривать. При всей очевидности и явной полезности таких метафор, как небесная ладья и божественный возничий в мифологии и спекулятивной философии,48 не все их принимают, когда дело доходит до индивидуальной души (наш третий контекст). Разобрав в первой книге своего трактата О душе мнения предшественников, в начале второй книги Аристотель дает свое определение души как «первой энтелехии естественного тела» («если бы глаз был живым существом, то душой его было бы зрение», 412b18) и в этой связи так комментирует позицию Платона:
Итак, душа неотделима от тела; ясно также, что неотделима какая-либо часть ее, если душа по природе имеет части, ибо некоторые части души суть энтелехия телесных частей. Но конечно, ничто не мешает, чтобы некоторые части души были отделимы от тела, так как они не энтелехия какого-либо тела. Кроме того, не ясно, есть ли душа энтелехия тела в том же смысле, в каком корабельщик есть энтелехия судна (eti 6e aбnXov ei оитш^ EVTeXexEia той ош^ато^ ^ ^Х1! <Л> шапер пХшт^р nXoiou, О душе 413а; пер. М. И. Иткина).
Комментируя это место, перипатетик II в. Александр Афродисийский отрицает, что душа и тело относятся как кормчий к кораблю, если конечно кормчего не понимать в смысле «искусства кораблевождения»,49 в противном случае душа относилась бы не ко всему телу, но ограничивалась какой-либо частью тела или вообще была телесной сущностью ( О душе 20.26–21.13).
Разбирая вопрос о том, как душа разделена в телах, и говоря, что душа не находится в теле как в определенного рода контейнере, или в качестве части, или целиком в каждой части, наподобие голограммы, или как если бы тело бы- ло для нее неким субстратом, или как если бы душа и тело соотносились как форма и материя, Плотин (Трактат 25: О душе I, Эннеады 4.3.19 сл.) прибегает к двум аналогиям. Он говорит, что душа распространяется в теле подобно свету в воздухе, как если бы душа освещала тело (22) и незадолго до этого (21) подробно разбирает нашу аналогию, которая, по его словам, хорошо ухватывает тот факт, что душа отделима от тела, однако не позволяет понять, как душа связана с телом. Мы можем ее представить, к примеру, скорее пассажиром на корабле, нежели кормчим. Или мы можем считать ее некоторого рода искусством кораблевождения, действующим через соответствующий инструмент, кормило, как если бы оно было живым существом. Нет, вслед за Цицероном (см. выше, О пределах добра и зла 3.24) и Александром (см. выше, О душе 20.26– 21.13)50 заключает Плотин, «искусство – это нечто внешнее по отношению к кормилу и кораблю», так что, хотя душа и впрямь движет телом на манер кормчего, способ ее присутствия в инструменте это не объясняет. В Трактате 53 (Эннеады 1.1.3) Плотин вновь прибегает к нашему сравнению, различая между душой как неразделенной формой, то есть Аристотелевой энтелехией, и формой в связи с телом, наподобие кормчего. Аналогичным образом, говоря о разумной душе в двух возможных состояниях, отделенной от тела и воплощенной, Иоанн Филопон (О душе 224.10–225.31, ср. О сотворении мира 278.6– 13) в обоих случаях сравнивает ее с кормчим, замечая, что и кормчий некоторые действия выполняет в соединении с кораблем (например, совершает поворот), а некоторые сам по себе (например, определяя курс по звездам). Как для Плотина, так и для Филопона источник дискуссии – Аристотель, и они оба пытаются совместить платоническое учение о душе с аристотелевским.
В трактате О душе , к сожалению, дошедшем до нас лишь в сокращенном виде в составе Антологии Иоанна Стобея, сирийский неоплатоник Ямвлих противопоставляет несколько скорректированную платоническую позицию стоической и перипатетической, и наша метафора оказывается для него вновь центральной. Согласно Платону, как он утверждает, душа может рассматриваться как состоящая из частей ( Тимей 69b и др.), однако по своей природе она несложная (ср. Федон 78b). В этом отношении с ним согласен и Аристотель, «полагая сущность души простой, бестелесной и формообразующей (εἴδους τελεσιουργὸν)». Напротив, стоики и все те, кто учит о телесной природе души «рассматривают способности так, как если бы они были качествами одного субстрата, а душа подлежала этим способностям как субстанция» (см. SVF II.826; 28F Long–Sedley и др.):
Так способности присущи душе, ей самой или же общему живому существу, которое заключает в себе душу и рассматривается как существующее в теле (μετὰ τοῦ σώματος θεωρουμένου ζῴου). По мнению тех, кто считает, что душа живет двойной жизнью, одной сама по себе, другой – в теле, они присущи душе одним способом, а цельному живому существу – другим; так это представляют Платон и Пифагор. Те же, кто считает, что у души лишь одна жизнь – жизнь сложного [организма], так как душа растворена (συγκεκραμένης) в теле, как говорят стоики, или потому что душа отдает всю свою жизнь общему живому существу, как на этом настаивают перипатетики, утверждают, что способности присущи [душе] одним лишь способом – разделенные (ἐν τῷ μετέχεσθαι) целым живым существом или же растворенные в нем (Ямвлих, О душе, фр. 10 Finamore–Dillon, Стобей, 368 W; подробнее см. Афонасин 2012).
Говоря о перипатетиках, Ямвлих должно быть имеет в виду позднейшие толкования Аристотеля, которые по его мнению искажают исходное учение Платона и Аристотеля об автономности души. В самом деле, несколько ниже читаем: «Кому не знакомо перипатетическое учение, согласно которому душа, сама оставаясь неподвижной, оказывается причиной всякого движения?» (фр. 16 Finamore–Dillon, 370 W.). Вероятно, имеется в виду вышеупомянутая точка зрения комментаторов, вроде Александра Афродисийского, согласно которой душа, в качестве формы для тела, сама остается неподвижной ( О душе 21.22– 24.17). Впрочем, и Аристотель рассуждает схожим образом ( О душе 405b30– 406b15). Несколько ниже Ямвлих продолжает:
Одни действия изначально возникают в душе, другие возбуждаются телесными страстями, а третьи оживляются (ἀνακινούμενα) в равной мере и тем и другим. Однако все они возникают из души, которая и есть их причина. Перемещение (φορᾶς) корабля зависит от совместных усилий рулевого и ветра, хотя необходимы также и другие [условия], без которых корабль не сдвинется, однако рулевой и ветер сами по себе представляют собой важнейшие причины, без которых движение невозможно. Так же и душа использует все тело и управляет его действиями, используя тело в качестве инструмента (ὄργανον) или транспортного средства (ὄχημα), однако она способна и на собственные движения, и свободные души, отделившиеся от сложного живого существа, осуществляют (ἐνεργοῦσιν) сущностную жизнь души, боговдохновенную (ἐνθουσιασμῶν), нематериально разумную (τῶν ἀύλων νοήσεων), словом, ту, что связывает нас с богами. Конечно, считающие душу телесной, как, например, стоики и многие другие, с этим не согласятся. Не согласятся с этим и те, кто думает, будто душа смешивается с телом в акте зарождения (συγκεκρᾶσθαι αὐτὴν εἰς τὴν γένεσιν), и таковы многие физики. Им подобны и те, кто считают душу своего рода побегом (βλάστημα), соразмерно (ἐν ἁρμονίας) произрастающим из тел.51 Все они приписывают душе телесные (σωματοειδεῖς) движения (фр. 16 Finamore–Dillon, 371–72 W).
Ямвлих затрагивает здесь одну из важнейших проблем античной психологии, а именно, вопрос об оболочке или «тонком теле» души, который занимал плато- ников (и не только их) на протяжении всей Античности. Источником сомнений, кроме вышеупомянутого места из Федра, был следующий пассаж из Тимея: «Божественные существа создал сам демиург… и вот они, подражая ему, приняли из его рук бессмертное начало души и заключили в смертное тело, подарив все это душе вместо колесницы, но, кроме того, они приладили к нему еще один, смертный, вид души, вложив в него опасные и зависящие от необходимости состояния» (69с). Автор Дидаскалика (23) связывает душу с телом непосредственно, другие платоники,52 авторы трактатов Герметического корпуса и некоторые гностики53 предполагают существование разных промежуточных (эфирных, небесных или духовных) субстанций.54 Плотин (27 [4.3] 15.1–5) и Порфирий (у Прокла, Комм. к Тимею 3.234.18–26 и О том, как одушевляются эмбрионы 11.3, см. текст ниже и сноску) считали, что душа, по мере нисхождения, получает все более земные тела. Ямвлих об оболочке души (ох^ца) имеет особое мнение, полагая, что она вечная и состоит полностью из эфира. В нее боги поместили разумную душу, которая отделяется от нее лишь для того, чтобы подняться к создавшему это эфирное тело богу (фр. 38, 81 и 84 Dillon, cf. Finamore 1985, 11–27, 167–168).
Как же душа использует тело?
Некоторые сравнивают это с управлением кораблем, если отдельно рассмотреть действия рулевого (ἧς καὶ ἀπολελύσθαι χωρὶς δύναται ὁ κυβερνήτης). Другие проводят сопоставление с наездником, который восседает на повозке (ὀχήμα), обеспечивает ее общее движение и определяет его направление. Некоторые предлагают, как более подходящие, аналогии равномерно сбалансированного взаимодействия тела и души55 или слияния души с телом и склонения ее к нему,56 [или] подчинения тела душой. Другие не признают ничего подобного и утверждают, что душа есть часть целого живого существа. Некоторые, наконец, сравнивают ее с искусством, присущим органам от природы, как если бы руль был одушевлен.57 ( О душе , фр. 33).
Формулируется семь точек зрения на эту проблему. В первых двух случаях Ямвлиху вновь помогают наши метафоры, причем он подчеркивает самостоятельность действий рулевого и относительную неуправляемость корабля. В этом отношении связь возничего и повозки, о которой говорится в следующем предложении, более тесная. Это и понятно: один идет по морю, другой правит по твердой земле. Далее приводятся воззрения, напоминающие стоические или эпикурейские.58 Говорится, что либо душа и тело достигают баланса, либо тело уступает душе, либо, наконец, душа телу. Затем, как можно предположить, следуют точки зрения «материалистов» и эмпириков. Наконец, Ямвлих вновь возвращается к исходной метафоре. Автор этого подхода не известен, однако, вслед за Диллоном и Финамором (Dillon–Finamore 2002, 169– 170), можно предположить, что источником Ямвлиха в данном случае было вышеупомянутое место из Александра Афродисийского: искусство кормчего – это и есть Аристотелева энтелехия тела.
Образ «одушевленного руля», послушного рулевому, прокладывающему курс по звездам, оказался полезным Порфирию для объяснения того, как при- рода (сначала судостроитель, а затем движитель) создает тело ребенка (корабль), после рождения (спуска на воду) управляемое разумной душой, воплотившейся в тело (кормчим):
Все время в чреве у плода уходит на формирование и скрепление (πῆξιν, ср. τό πῆγμα – скрепы), как при постройке корабля: как только завершил его судостроитель (ναυπηγός) и спустил на воду, так тут же в нем поселяется кормчий (κυβερνήτης). И если вы вместе со мной представите себе кораблестроителя, который навсегда связан с кораблем, и не удаляется с него, когда кормчий поднимается на корабль, покидающий землю и отправляющийся в море, то вы получите образ (τὴν εἰκόνα) того, как создается живое существо (τῆς κατὰ τὴν ζῳογονίαν ἕξεις συστάσεως), хотя работа природы во многих иных отношениях и отличается от изделий кораблестроителя (τῶν τοῦ ναυπηγοῦ δημιουργημάτων), особенно что касается возможности для кораблестроителя отделиться как от своего изделия, так и от кормчего. Природа же неотделима от своих творений и стремится навсегда и всецело слиться со своими произведениями.59 Поэтому она присоединяется то к одному кормчему, то к другому. Пока семя у отца, она управляется растительной силой и высшей частью души отца, которая единодушна с растительной силой в ее делах. Когда же она от отца попадает к матери, она присоединяется к растительной силе матери и ее душе, и «присоединяться (προσχωρεῖν)» следует понимать не в том смысле, что они вместе гибнут или разделяются на составные части, как <не>слиянные (та <^>Kpa9evTa dvaaToixEiovTai), но в смысле того божественного и парадоксального слияния, которое по силам сохранить лишь живые существа. Так что они и образуют единство с подходящими (элементами), как те элементы, которые разрушаются при слиянии (κιρναμένων), и сохраняют при этом свои силы, как те элементы, которые остаются не слитыми вместе, но существуют раздельно друг от друга (та акрата ка! ка9' Ёаита SiaKEKpi^eva). И это показывает, что они не только сами не являются телами, но и что их сущности не определяются предрасположенностью к телам ( Гавру, о том, как одушевляются эмбрионы 10.4–5).
Для постройки тела (корабля) годится не любой материал, но только пригодный для этих целей. Взяв его, природа, или растительная душа (кораблестроитель) создает свое произведение по определенному плану или программе (в соответствии с присущими ей «логосами», 14.1–4):
То, что достигло определенного состояния (ἕξιν),60 однако еще бездействует, пребывая безмолвно в потенции, уже совершенно по форме, хотя и остается в покое… Как и в случае <триеры>, говорящий, что весло, свешивающееся с борта корабля, «потенциально», выказывает желание использовать слово «потенциальный» для обозначения совершенного состояния, которое, однако, не проявляет активности и остается «потенциальным» в том смысле, что не заставляет корабль двигаться. Напротив, применивший слово «потенциальный» к доске, пригодной (ἐπιτηδείων) для изготовления весла, когда форма (εἶδος) весла еще не просматривается, но может возникнуть, благодаря искусству плотника, признает, что форма весла вообще не присуща доске. Называя ее «потенциально» [веслом], он хочет сказать, что она может им стать. Так что она является им потенциально потому, что способна приобрести эту потенцию, в то время как другое [то есть недействующее весло] потенциально потому, что остается в покое, имея возможность действовать (Там же, 13.1–3).
Итак, как только природа, или растительная душа, присутствующая в эмбрионе, питаемая и поддерживаемая материнским организмом, закончит создание своего произведения и готова вывести его на свет «путем влажным и кровавым в воздушную полость (κύτος)», так сразу же «из внешнего мира появляется кормчий, направляемый промыслом того начала, которое управляет космосом и которое не позволяет, в случае животных, ни одной растительной душе оставаться без кормчего» (там же, 10.6). И организм (корабль) начинает свою жизнь (выходит в море), движимый своими природными силами и послушный одной-единственной разумной душе (кормчему) с которой он был со-настроен в момент рождения:
Рассмотрим в заключение еще один текст. Рассуждая в Трактате 25 (4.3) 17 о небесном путешествии души, Плотин сначала обращается к своей излюбленной световой метафоре, а затем, достаточно неожиданно, вспоминает наш образ.
Спускаясь все ниже из области умопостигаемого, говорит он, «свет от света» постепенно теряет в своем сиянии, достигая наконец той области, которая сама уже не имеет внутреннего источника, поэтому свет в ней постепенно рассеивается. Основной источник (солнце) находится в центре, другие источники либо располагаются на своих местах (неподвижные звезды), либо перемещаются, будучи привлеченными тем, что светит отраженным светом (планеты). И так происходит потому, говорит Плотин, что эти последние нуждаются в попечении и, «подобно тому, как кормчие во время шторма настолько сосредоточены на управлении кораблями и забывают о собственной безопасности, так что сами рискуют утонуть вместе с гибнущими кораблями» (17.23–26), так и души увлекаются своего рода «магией» и, заботясь о «природе», как бы забывают о себе. В основе рассуждения, разумеется, лежит образ из Федра , однако не исключена и перекличка с Нумением.61 Мы видим, что образ кормчего позволяет Плотину выразить идею, важную для его психологии: падение душ в материю в конечном итоге обусловлено не только влиянием непреодолимой силы, но и является результатом определенного рода небрежения и неопытности, хотя, как отмечает Платон, налетевшая буря может побороть даже опытного кормчего ( Протагор 344d), человек же, пассажир или кормчий, подвержен влиянию тысячи случайностей, и в одинаковых обстоятельствах все люди действуют по разному, так решая свою судьбу (Плотин, 15 (3.4) 6.47–57).
P. S.

Слева изображена кельтская золотая монета (13 мм, четверть статера) – редкий образец, случайно обнаруженный несколько лет назад близ Рингвулда (графство Кент, Англия).62 Монета изготовлена на юге Франции в долине Соммы ок. 250– 225 гг. до н. э., на землях, некогда принадлежащих племени Амбианов (давших название современному городу Амьену) по образцу золотого статера Филиппа Македонского (382–336 гг. до н. э.), причем на ее лицевой стороне было сохранено эллинистическое изображение злато- кудрого Аполлона с лирой, а на обороте выбито длинноволосое кельтское божество на колеснице с огромным молотом в правой руке – небесный возничий. Скорее всего, это Суцелл (Sucellus, «сильно ударяющий»), иногда изображае- мый стоящим с чашей в одной руке и молотом в другой. Исследователи связывают это божество с ирландским Дагной и римским Сильваном. Возле морды коня на изображении вьется большая пчела – в кельтской мифологии посредница между миром богов и миром духов, приносящая на землю тайную мудрость из иного мира (кроме того, кельты из меда делали пиво). Как не вспом- нить в этой связи рассказ о чудесах, сопровождающих рождение и детство Платона, переданный Олимпиодором (Жизнь Платона)? Вероятно, опираясь на свидетельство Спевсиппа, неоплатоник сообщает, что отцом Платона был сам Аполлон. Когда же будущий философ появился на свет, родители отнесли его на гору Гиметт, дабы принести за него жертву Пану, Аполлону-пастырю и нимфам. «И вот, пока он лежал, к нему слетелись пчелы и наполнили его рот медовыми сотами, чтобы воистину сбылись о нем слова: Речь у него с языка стекала, сладчайшая меда (Илиада 1.249)». Вспомним также самое начало Менона, где Сократ сравнивает с пчелами «рой добродетелей».

На другой галльской монете (ок. 100 г. до н. э., также из Нормандии) мы видим необычное развитие этого образа. На аверсе сохранено изображение Аполлона, на реверсе же небесный возничий вместо молота держит в руке модель корабля. Обе платонические метафоры вместе на одном изображении! Конечно, авторы этого произведения искусства о Платоне могли и не слышать и, создавая эту композицию, едва ли руководствовались философскими соображениями. Более или менее универсальный образ, ладья присутствует и в кельтской мифологии, причем связана она, подобно челноку этрусского бога Харуна (который, кстати, также изображается с молотом, как на росписи на вазе из Вульчи, ок. 300 г. до н. э.), с переходом из этого мира в иной. Может, по мысли автора этого сюжета, ладья могла адекватно заменить пчелу, также проводника в мир иной? И все же, изображение возничего, пусть и божественного, в виде победителя конных состязаний с призом в виде модели корабля в руке, выглядит довольно необычным. Упряжка, кстати, должно быть парная, хотя для изображения второго коня на монете не осталось места. Кроме того, под колесницей изображен меч, следовательно, перед нами скорее воин, нежели спортсмен.
Корабли, навигационные навыки и боевую тактику прибрежных кельтских племен подробно описывает Юлий Цезарь, успешно противостоящий им в 55–56 гг. до н. э. По

его словам (Записки о галльской войне, 3.12 сл.), кельты защищали берег с моря многочисленными кораблями, на которых располагалась пехота, высадившийся же десант противника встречали воины на колесницах. Это наблюдение само по себе позволяет лучше понять образ, однако возможна еще более точная интерпретация, впервые предложенная Дэтлевом Элльмерсом (Ellmers 1996, 68–69). Он не только отметил, что перед нами одно из первых изображений кельтских мореходных судов, но и сумел поместить этот образ в подобающий исторический контекст. Путь из Корнуэла до Сены, который пролегал вдоль побережья Нормандии, с древних времен активно использовался торговыми кораблями, везущими, среди всего прочего, стратегически важное олово. Это приносило существенный доход прибрежным поселениям и, как обычно в Античности, привлекало грабителей. Естественно предположить, что пираты придерживались аналогичной тактики. Они блокировали морские пути в Ламанше и нападали на поселения с моря, высаживая десант с кораблей. Для борьбы с этими нападениями прибрежные жители строили наблюдательные посты, которые позволяли быстро оповестить о приближении врага, отражали атаки силами конных отрядов и затем, если необходимо, преследовали их на быстроходных судах. Значит, залогом успеха в этом нелегком предприятии было искусное владение оборонительным и наступательным оружием на суше и на море. Почему бы не предположить, как считает Элльмерс, что изображение на монете представляет собой своего рода пропагандистский жест, призванный показать жителям прибережных территорий, что они находятся под надежной защитой на суше и на море, а купцам – что путь через пролив безопасен? Интересно наблюдать, как, истолковывая мифологический образ в политическом смысле, неизвестный кельтский мастер проделывает тот же путь, что и древнегреческий философ.
Список литературы Демиург в античной космогонии
- Афонасин, Е. В. (2008) «Папирус из Дервени», ΣΧΟΛΗ 2.2, 309-336.
- Афонасин, Е. В., Афонасина Е. В., пер. (2009) «Нумений из Апамеи. Фрагменты и свидетельства», ΣΧΟΛΗ 3, 213-278.
- Афонасин, Е. В. (2012) «Ямвлих о душе», ΣΧΟΛΗ 6.2, 228-258.
- Афонасина, А. С. (2012) «Рождение гармонии из духа tekhne», ΣΧΟΛΗ 6.1, 58-67.
- Лебедев, А. В., пер. (1989) Фрагменты ранних греческих философов. Москва. Диллон, Дж. (2002) Средние платоники. Санкт-Петербург.
- Пригожин, И. (2001) Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы. Москва-Ижевск.
- Рис, М. (2002) Наша космическая обитель. Москва-Ижевск.
- Серебряный, С. Д. (1999) «Многозначное откровение Бхагавад-Гиты», Древо индуизма. Москва: 152-194.
- Bernabé, A., ed. (1996-2007) Poetarum Epicorum Graecorum Testimonia et Fragmenta. Stuttgart-Leipzig.
- Betegh, G. (2004) The Derveni Papyrus: Cosmology, Theology, and Interpretation. Cambridge.
- Bojowald, M. (2010) Once before time. A whole story of the universe. New York.
- Breglia Pulci Doria, L. (2000) “Ferecide di Siro tra orfici e pitagorici”, in Tra Orfeo e Pitagora. Origini e incontri di culture nell'antichità: atti dei seminari napoletani 1996-1998, a cura di Marisa Tortorelli Ghidini, Alfredina Storchi Marino, Amedeo Visconti. Napoli: Bibliopolis: 161-194.
- Brisson, L. (1985a) “La théogonies orphiques et le Papyrus de Derveni”, Revue de l'Histoire des Religions 202, 389-420.
- Brisson, L. (1985b) “La figure de Chronos dans la théogonie orphique et ses antécédents iraniens”, in D. Tiffenau, ed., Mythes et représentations du temps. Paris: 37-55.
- Brisson, L. (1997) “Chronos in Column XII of the Derveni Papyrus”, in A. Laks, G. Most, eds. Studies in the Derveni Papyrus. Oxford: 149-165.
- Brisson, L. (2003) “Sky, Sex and Sun. The meaning of αἰδοῖος/αἰδοῖον in the Derveni papyrus”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 144, 19-29.
- Brisson, L. (2004) “Kronos, Summit of the Intellective Hebdomad in Proclus' Interpretation of the Chaldean Oracles”, in G. van Riel and C. Macé, eds. Platonic Ideas and Concept Formation in Ancient and medieval Though. Leuven: 191-210.
- Brisson, L. (2009) “Zeus did not commit incest with his mother. An interpretation of column XXVI of the Derveni Papyrus”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 168, 27-39.
- Chase, M. (2011) “Discussions on the Eternity of the world in Late Antiquity”, ΣΧΟΛΗ 5.2, 111-173.
- Dillon, J., Finamore, J., eds. (2002) Iamblichus, De anima. Leiden.
- Ellmers, D. (1996) “Celtic Plank Boats and Ships, 500 BC-AD 1000”, in Gardiner, R., ed., Conway's History of the Ship, vol. 1: The Earliest Ships. London: 52-71.
- Finamore, J. F. (1985) Iamblichus and the Theory of the Vehicle of the Soul. Chico. Gomperz, H. (2001) “Zur Theogonie des Pherekydes von Syros”, Wiener Studien 47, 14-26.
- Janko, R. (2001) “The Derveni Papyrus (Diagoras of Melos, Apopyrgizontes logoi?): a New Translation”, Classical Philology 96, 1-32.
- Janko, R. (2002) “The Derveni Papyrus: an Interim Text”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 141, 1-62.
- Kouremenos, T., Parássoglou, G. M., Tsantsanoglou, K., eds. (2006) The Derveni Papyrus. Florence.
- Laks, A., Most, G., eds. (1997) Studies in the Derveni Papyrus. Oxford.
- Mansfeld, J. (1980) «Anaxagoras' other world», Phronesis 25, 1-4.
- May, G. (1994) Creatio ex nihilo. The doctrine of ‘Creation out of Nothing' in early Christian thought. Edinburgh.
- Prigogine, I. (1997) The End of Certainty. Time, Chaos and the New Laws of Nature. New York.
- Rees, M. (2001) Our Cosmic Habitat. Princeton.
- Saudelli, L. (2011) “Le chêne et le voile de Phérécyde. Note sur un témoignage du gnostique Isidore (7 B 2 DK, F 76 S)”, Revue des Études Grecques 104.1, 79-92.
- Schibli, H. S. (1990) Pherekydes of Syros. Oxford.
- Sedley, D. (2007) Creationism and its critics in antiquity. Berkeley, Calif.
- Sider, D. (2009) “The Orphic Poem of the Derveni Papyrus”, in I. Papadopoulou and L. Muellner, eds. Classics. An Online Journal. Issue 5: Proceedings of the Derveni Papyrus Conference: http://chs.harvard.edu/wa/pageR?tn=ArticleWrapper&bdc=12&mn=2653.
- Tortorelli Ghidini, M. (1989) “Nephele: una metafora orfica arcaica”, La Parola del Passato 44, 29-36.
- Tortorelli Ghidini, M. (1991) “Due nuovi teonimi orfici nel papiro di Derveni”, P. Borgeaud, ed. Orphisme et Orpheé. Geneva: 249-261.
- West, M. (1983) The Orphic Poems. Oxford [частичный рус. пер. А. С. Афонасиной и Е. В. Афонасина: http://www.nsu.ru/classics/plato/interest.htm].