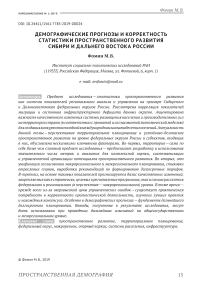Демографические прогнозы и корректность статистики пространственного развития Сибири и Дальнего Востока России
Автор: Фомин Максим Витальевич
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Пространственная демография
Статья в выпуске: 3 т.22, 2019 года.
Бесплатный доступ
Предмет исследования - статистика пространственного развития как система показателей регионального анализа и управления на примере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России. Рассмотрена корреляция показателей миграции и состояния инфраструктурного дефицита данных округов. Акцентирована важность качественного изменения системы размещения населения и производительных сил на территории страны (в соответствии с принятой и согласованной экономической моделью) длясозданияконкурентоспособнойвмеждународноммасштабесетипоселений. Актуальность данной темы - перспективное территориальное планирование и устойчиво-безопасное пространственное развитие на уровне федеральных округов России и субъектов, входящих в них, обусловлена несколькими ключевыми факторами. Во-первых, территория - сама по себе более чем сложный предмет исследования - предполагает разработку и использование значительного числа метрик и аналитик для комплексной оценки, систематизации и управленческой организации потенциалов пространственного развития. Во-вторых, это унификация согласования макрорегионального и межрегионального планирования, стыковки отраслевых планов, выработки рекомендаций по формированию долгосрочных тарифов. В-третьих, на основе таковых показателей прогнозируется базис качественных изменений, закрепляемых как в стратегиях, целевых и региональных программах, так и схемах расселения федерального и регионального (в перспективе - макрорегионального) уровня. В тоже время - прежде всего из-за сверхвысокой цены управленческих ошибок - существует практическая потребность в корректности прогностической деятельности, изучении лучших практик и нахождения консенсуса. Особенно в демографических прогнозах - фундаменте дальнейшего долгосрочного планирования. Выводы, полученные в результате исследования, могут быть использованы при проведении дальнейших изысканий на общегосударственном и межрегиональном уровне.
Пространственное развитие, территориальное планирование, федеральный округ, макрорегион, опорный каркас, система расселения, инфраструктура
Короткий адрес: https://sciup.org/143173621
IDR: 143173621 | DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00024
Текст научной статьи Демографические прогнозы и корректность статистики пространственного развития Сибири и Дальнего Востока России
Территория государства структурирует‑ ся в зависимости от её конфигурации — на‑ пример, компактность или вытянутость, рельеф местности. Формирование различ‑ ной степени сложности геопространствен‑ ных каркасов, а именно — линейных, «звёзд‑ ных», ортогональных (матричных) или тип «дерево»,— происходило под воздействием различных факторов: неравномерность ос‑ воения пространства, концентрация эконо‑ мической активности, дефицит транспорт‑ ных коридоров или полицентричность хо‑ зяйствования. Практически везде в мире соответственно территориальной структуре происходило формирование системы рассе‑ ления — как производной от экономической модели или отпечатка системы разделения труда (СРТ). Однако Россия сломала эти сте‑ реотипы «на корню». Здесь в силу географи‑ ческих особенностей сложилась целая па‑ литра геопространственных каркасов (ли‑ нейные — в регионах Сибири, «звёздные» — в центре европейской части и т.д.). Поэтому, наоборот, система размещения населения и производительных сил диктует динамику экономической модели.
Начавшаяся 30 лет назад трансформация советской системы расселения, обуслов‑ ленная как экономическим коллапсом, так и влиянием центробежных политических процессов 1, привела к неуправляемому сжа‑ тию пространства и ухудшению демогра‑ фической ситуации: смертность превысила рождаемость, изменились миграционные потоки, снизился естественный прирост, население начало покидать малопригод‑ ные, но обжитые территории [1]. В настоя‑ щее время, как отмечают эксперты Всемир‑ ного Банка, «пространственные диспропор‑ ции России в большой степени обусловлены её уникальной экономической географией, которая не имеет равных даже в сравнении с такими, на первый взгляд, похожими стра‑ нами, как Австралия и Канада. Хотя в Ав‑ стралии и Канаде также обширные земель‑ ные ресурсы, а плотность населения даже ниже, чем в России, большая доля населения проживает вблизи границы или моря. В Рос‑ сии, в отличие от этих стран, плотность на‑ селения возрастает по мере удаления вглубь территории» [2. С. 9].
Следует отметить, что Россия больше той же Канады на 7,5 млн. км2 или на целую Ав‑ стралию (табл. 1). А население превышает ка‑ надское — в 4 раза, а австралийское — в 5 раз. Но в России почти 10% территории, уже ис‑ пользуемой для проживания и хозяйствен‑ ного оборота неблагоприятны, притом, что на пригодных территориях 97 млн. га — за‑ лежные земли (официальная оценка забро‑ шенных сельхозугодий вдвое меньше — лишь около 40 млн. га) [3. С. 34]. В то же время пло‑ щадь заселения составляет в Канаде чуть бо‑ лее четверти, а в Австралии менее четверти эффективной территории.2
Таблица 1
Территории крупнейших стран мира
Table 1
Territories of the largest countries of the world
|
№ п/п |
Название государства |
Вся территория (без внутренних вод), млн. км2 |
Эффективная территория2, млн. км2 |
Заселённая территория, млн. км2 |
|
1. |
Россия |
17,125 |
5,5 |
6,02 |
|
2. |
Канада |
9,985 |
4,5 |
1,13 |
|
3. |
Китай |
9,599 |
6,0 |
6,09 |
|
4. |
США |
9,519 |
7,9 |
6,56 |
|
5. |
Бразилия |
8,515 |
8,1 |
6,03 |
|
6. |
Австралия |
7,687 |
4,9 |
1,13 |
Источник: составлено автором (без учёта заморских владений) по данным Росстата и The World Factbook 2018 download‑2018/.
Сибирь и Дальний Восток
Сложившаяся уникальность про‑ странств нашей страны базируется на трёх «китах» [3, С. 48]: 1) дифференциация при‑ родных ландшафтов — от комфортных до абсолютно неблагоприятных, помножен‑ ная на изменчивую суровость климатиче‑ ских условий; 2) система расселения — это производная от экономической модели, а российская система — это данность от советской догоняющей милитаризован‑ ной индустриализации; 3) действующая рентно‑сырьевая экономическая модель.
Соответственно, население Австралии и Канады сосредоточено в крупных горо‑ дах. Так, более двух третей жителей этих стран проживает в трёх крупнейших го‑ родских мегаполисах, тогда как в Москве, Санкт‑Петербурге и Нижнем Новгороде проживает только одна восьмая часть на‑ селения России [2. С. 9]. Однако указан‑ ные мегаполисы находятся в европейской части нашей страны (пять федеральных округов — 3,99 млн. км2 или 23,3% террито‑ рии). А вот азиатская часть (13,13 млн. км2 или 76,7%) — включает территории Ураль‑ ского, Сибирского и Дальневосточного фе‑ деральных округов. Причём, доля Сиби‑ ри и Дальнего Востока превалирующая — 2/3 территории страны.
«Общим направлением изменения про‑ странственной структуры экономики Рос‑ сии за период 1990–2015 гг. по большинству показателей экономической деятельности (кроме добычи полезных ископаемых) яви‑ лось увеличение доли западных регионов за счет снижения доли восточных. В двух федеральных округах — Сибирском и Даль‑ невосточном — социальное, экономическое и культурное развитие необходимо обе‑ спечить в условиях депопуляции на сред‑ несрочную перспективу. Особенно учиты‑ вая, что ключевыми проблемами здесь яв‑ ляются как низкая плотность населения, так и неблагоприятные природно‑клима‑ тические условия для ведения хозяйствен‑ ной деятельности» [1].
Данные округа (табл. 2), с одной сторо‑ ны, занимают 2/3 территории России — причём это территории основного нераз‑ веданного шельфа нефти и газа и зале‑ жей полезных ископаемых, «зелёные лёг‑ кие» планеты в виде сибирской тайги, а также самые большие запасы пресной воды (Байкал и реки)3. Но, с другой, здесь проживают всего 17,3% граждан страны, при самой низкой плотности населения (от 0,07 на Чукотке до 27,94 чел./км2 в Ке‑ меровской области). Наличествуют три го‑ рода‑миллионника, а по списку Минэко‑ номразвития — 5 агломераций с вкладом свыше 1% ВВП (Владивостокская, Иркут‑ ская, Красноярская, Новосибирская, Ом‑ ская) и 5 агломераций с вкладом менее 1% (Барнаульская, Кемеровская, Новокузнец‑ кая, Томская, Хабаровская) [1].
Таблица 2
Основные экономико-географические показатели Сибири и Дальнего Востока
Table 2
Main socio‑geographical indicators of Siberia and the Far East
|
Показатели |
Сибирский федеральный округ |
Дальневосточный федеральный округ |
|
Территория (площадь) |
4 361 727 км2 (25,5% РФ) |
6 952 555 км2 (40,6% РФ) |
|
Кол-во субъектов |
10 |
11 |
|
Кол-во городов |
116 |
84 |
|
Население |
17,173 млн. чел. |
8,189 млн. чел. |
|
Плотность населения |
3,34 чел./км2 |
1,18 чел./км2 |
|
Городское население |
74,3% |
72,9% |
Источник: [1] (с учётом перехода Республики Бурятия и Забайкальского края из Сибирского в Дальневосточный федеральный округ).
Финансовое положение в субъектах округов специфично — от полубезнадёж‑ ных банкротов (Республика Хакасия) до отсталых (Республики Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Алтайский и Камчатский края) и кризисных реципиентов (14 субъ‑ ектов). Единственный бездотационный донор — Сахалинская область. Кроме соб‑ ственно малоосвоенности пространств, Сибирь и Дальний Восток России ярчай‑ ший пример последовательного (с кон‑ ца 1980‑х гг.) обезлюживания (см., напри‑ мер [4. С. 8–11]). Если ещё в 2016 г. в пяти субъектах (как и в целом по России) отме‑ чался миграционный прирост (табл. 3), то в настоящее время — только в трёх субъ‑ ектах, а в остальных 18 субъектах процес‑ сы ровно обратные — миграционная убыль (табл. 4).
Таблица 3
Матрица изменения численности населения
Сибири и Дальнего Востока (2012–16 гг.)
Table 3
Matrix of population change in Siberia and the Far East (2012–2016)
|
Миграционные процессы Естественные процессы |
Миграционная убыль |
Миграционный прирост |
|
Естественная убыль |
Алтайский и Приморский края; Амурская, Кемеровская и Магаданская области; Еврейская автономная область |
— |
|
Естественный прирост |
Республики Бурятия, Тыва и Саха (Якутия); Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края; Иркутская, Омская и Сахалинская области; Чукотский автономный округ |
Республики Алтай и Хакасия; Красноярский край; Новосибирская и Томская области |
Источник: составлено по данным Росстата
Таблица 4
Матрица изменения численности населения
Сибири и Дальнего Востока (2016–18 гг.)
Table 4
Matrix of population change in Siberia and the Far East (2016–2018)
|
Миграционные процессы Естественные процессы |
Миграционная убыль |
Миграционный прирост |
|
Естественная убыль |
Алтайский, Приморский и Хабаровский края; Амурская, Кемеровская, Магаданская и Омская области; Еврейская автономная область |
Новосибирская область |
|
Естественный прирост |
Республики Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва и Хакасия; Забайкальский и Камчатский края; Иркутская и Томская области; Чукотский автономный округ. |
Красноярский край; Сахалинская область |
Источник: составлено по данным Росстата
Красноярский край — единственный регион, где удалось сохранить положи‑ тельную динамику как естественного, так и миграционного прироста в 2012–2018го‑ дах. В 2018 г. к нему присоединилась Са‑ халинская область. Только миграцион‑ ный прирост сохранила Новосибирская область (во многом как миграционный
«трамплин» для дальнейших перемеще‑ ний дальневосточников). И только есте‑ ственный прирост наличествует в респу‑ бликах Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва и Хакасия, Забайкальском и Камчат‑ ском краях, Иркутской и Томской обла‑ стях, Чукотском АО (табл. 5–6).
Таблица 5
Общий прирост/убыль населения (2016–2018 гг.) и численность населения в Сибирском федеральном округе (на 01.01.2019)
Table 5
The overall growth / decline in the population (2016–2018) and population in the Siberian Federal District (as of 01.01.2019)
|
Сибирский федеральный округ |
|||
|
Субъект |
Прирост/убыль населения,% |
Численность населения, тыс. чел |
Естественный прирост/ убыль, тыс. чел |
|
Республика Алтай |
+ 1,70 |
218,87 |
+ 4,26 |
|
Республика Тыва |
+ 2,80 |
324,42 |
+ 12,20 |
|
Республика Хакасия |
- 0,12 |
536,17 |
+ 0,17 |
|
Алтайский край |
- 1,85 |
2332,81 |
- 21,94 |
|
Красноярский край |
+ 0,26 |
2874,03 |
+ 2,22 |
|
Иркутская область |
- 0,62 |
2397,76 |
+ 4,27 |
|
Кемеровская область |
- 1,59 |
2674,26 |
- 27,70 |
|
Новосибирская область |
+ 1,13 |
2793,38 |
- 2,18 |
|
Омская область |
- 1,73 |
1944,20 |
- 6,04 |
|
Томская область |
+ 0,06 |
1077,44 |
+ 2,13 |
Источник составлено по данным Росстата
Таблица 6
Общий прирост/убыль населения (2016–2018 гг.) и численность населения в Дальневосточном федеральном округе (на 01.01.2019)
Table 6
The overall growth / decline in the population (2016–2018) and population in the Far East Federal District (as of hn01.01.2019)
|
Дальневосточный федеральный округ |
|||
|
Субъект |
Прирост/убыль населения,% |
Численность населения, тыс. чел. |
Естественный прирост/ убыль, тыс. чел. |
|
Республика Бурятия |
+ 0,10 |
983,27 |
+ 12,48 |
|
Республика Саха (Якутия) |
+ 0,76 |
967,01 |
+ 18,92 |
|
Забайкальский край |
- 1,59 |
1065,79 |
+ 4,63 |
|
Камчатский край |
- 0,44 |
314,72 |
+ 0,59 |
|
Приморский край |
- 1,36 |
1902,72 |
- 12,68 |
|
Хабаровский край |
- 0,98 |
1321,47 |
- 2,75 |
|
Амурская область |
- 1,55 |
793,19 |
- 3,66 |
|
Магаданская область |
- 3,53 |
141,23 |
- 0,34 |
|
Сахалинская область |
+ 0,48 |
489,64 |
+ 0,84 |
|
Еврейская АО |
- 3,72 |
159,91 |
- 0,85 |
|
Чукотский АО |
- 1,07 |
49,66 |
+ 0,46 |
Источник: составлено по данным Росстата
Показатели пространственного развития
Одним из главных препятствий для устойчивого роста российской экономи‑ ки, являются пространственные диспро‑ порции. Существует критическая потреб‑ ность создания условий, привлекатель‑ ных для конкурентной жизнедеятельно‑ сти. Ключевая роль в достижении этой цели принадлежит качественному терри‑ ториальному планированию и устойчи‑ во‑безопасному пространственному раз‑ витию. Соответственно, необходимы ка‑ чественные изменения в системе государ‑ ственного и муниципального управления, проведение политики роста капитализа‑ ции территорий. И, прежде всего, опре‑ деление такой системы статистических показателей, которые позволяют учесть ключевые факторы, влияющие на расселе‑ ние и выявить основные тенденции разви‑ тия поселений [1].
В 2002 году Центром стратегических разработок «Северо‑Запад» было опубли‑ ковано исследование «Статистика про‑ странственного развития», в том числе «Том 1. Система расселения Северо‑Запа‑ да России». В нём под руководством Ю. Пе‑ релыгина был апробирован новый мето‑ дический подход — формирование систе‑ мы региональных показателей, «отража‑ ющих потенциал и тенденции простран‑ ственного развития — статистики про‑ странственного развития» [5. С. 7]. На при‑ мере СЗФО была собрана обширная стати‑ стическая база, сделан детальный анализ демографической и миграционной ситу‑ ации по муниципальным образовани‑ ям каждого из субъектов СЗФО, рассчи‑ таны несколько вариантов прогноза де‑ мографической ситуации в макрорегио‑ не до 2025 года и спроектирована возмож‑ ная трансформация системы расселения округа, были чётко выделены три класса территорий в России [5. С. 66]:
-
1. Территории инерционного развития систем расселения. На таких терри‑ ториях будет развиваться свободная са‑ моорганизация населения;
-
2. Территории активного государственного регулирования, т.е. такие, на которых необходимо проводить политику закрепления населения. Это территории с неблагоприятным демографическим по‑ тенциалом, где сложившаяся масштабная депопуляция нежелательна исходя из со‑ циально‑экономических и геостратеги‑ ческих реалий. Здесь предусматривались стимулирование миграционного прито‑ ка посредством бюджетных и внебюджет‑ ных инвестиций в производственную сфе‑ ру, социальную и коммуникационную ин‑ фраструктуру, как на федеральном, так и на региональном уровне;
-
3. Территории демографического ресурса, где численность населения и тру‑ довых ресурсов в настоящее время стано‑ вится выше потребности в них в связи со сложившимся уровнем развития эконо‑ мики. Этот уровень не всегда современен. В результате следует ожидать оттока на‑ селения из этих регионов, расположенных вне стратегически приоритетных участ‑ ков и основных центров социально‑эко‑ номической активности. Они удалены от приграничных участков и характеризу‑ ются наибольшим дисбалансом между со‑ временным уровнем развития производи‑ тельных сил и численностью населения.
Тем не менее, в ноябре 2010 г. впервые было представлено предложение форми‑ рования 20 крупных агломераций4. От‑ метим, что добровольно‑принудительное создание агломераций может привести к практическому упразднению местного самоуправления, которое пока ещё есть в малых и средних городах. Если агломе‑ рации будут формироваться свободно — на основе конкуренции городов и есте‑ ственной экономической интеграции, то мощь и самостоятельность региональных центров возрастет, как и самостоятель‑ ность глав администраций. Концентрация усилий на развитии только мегаполисов лишь усугубит межрегиональные диспро‑ порции в распределении населения и ин‑ вестиций и практически не прибавит му‑ ниципалитетам ни возможностей для са‑ мостоятельного развития, ни (в виду на‑ логовой политики и межбюджетных отно‑ шений) финансовых средств для этого.
В силу демографического сжатия5 Рос‑ сии, территории ряда субъектов могут оказаться растянуты между крупнейши‑ ми узлами экономического тяготения, а в среднесрочной перспективе и утратить жизнеспособность. Действующая транс‑ портная система была выстроена под ухо‑ дящие задачи: центры — по факту — уже не всегда такими являются [3, C. 39].
«Инфраструктуру в России на протя‑ жении нескольких десятков лет строят не системно: чёткий план комплексного раз‑ вития территорий отсутствует даже по от‑ раслям. Единой статистики и оценки со‑ стояния инфраструктуры в стране также нет, то есть регионы и федеральные вла‑ сти инвестируют в транспорт, ЖКХ, энер‑ гетику, благоустройство городов, школы и больницы, опираясь на потребности се‑ годняшнего дня. Горизонт планирования не превышает двух‑трех лет, а утвержден‑ ные стратегии развития часто не выполня‑ ются» [7]. В этой связи достаточно инфор‑ мативно и корректно исследование ком‑ пании «InfraOne» «Инфраструктура Рос‑ сии: индекс развития» [7] в котором были сведены общедоступные статистические данные о количестве и качестве транс‑ портной, энергетической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры. Показатели по субъек‑ там Сибири и Дальнего Востока представ‑ лены в таблицах 7 и 8. Наибольшее значе‑ ние индекса в Иркутской области — 6,16;
Таблица 7
Миграционный прирост/убыль в Сибирском ФО (2016–2018 гг.), Индекс развития инфраструктуры (2018 г.) и минимум необходимых инвестиций (2019 г.)
Table 7
Migration increase/decrease in the Siberian Federal District (2016–2018), Infrastructure Developm ent Index (2018) and the minimum required investm ent (2019)
|
Сибирский федеральный округ |
|||
|
Субъект |
Миграционный прирост/ убыль населения, тыс. чел |
Индекс развития инфраструктуры |
Минимум инвестиции, млрд. руб. |
|
Республика Алтай |
- 0,53 |
4,89 |
4,3 |
|
Республика Тыва |
- 3,38 |
4,65 |
4,9 |
|
Республика Хакасия |
- 0,77 |
5,71 |
12,5 |
|
Алтайский край |
- 21,94 |
5,48 |
21,7 |
|
Красноярский край |
+ 5,48 |
6,14 |
74,5 |
|
Иркутская область |
- 18,98 |
6,16 |
42,8 |
|
Кемеровская область |
- 15,16 |
5,98 |
38,8 |
|
Новосибирская область |
+ 33,99 |
5,91 |
53,1 |
|
Омская область |
- 27,90 |
5,6 |
33,6 |
|
Томская область |
- 1,6 |
5,56 |
25,5 |
Источник: составлено автором по данным Росстата и компании InfraOne [7].
5 В период 1990–2015 гг. население регионов Сибирского федерального округа сократилось на 1,793 млн. человек, а Дальневосточного федерального округа— на 1,833 млн. Прим. автора.
наименьшее в Тыве — 4,65. Среднее зна‑ чение индекса по стране — 5,7 (максимум в Москве — 7,78 из 10).
Минимум инфраструктурных инве‑ стиций (на 2019 г.) так же разнится: от 4,3 млрд. руб. в Республике Алтай до 74,5 млрд. руб. в Красноярском крае (табл. 3 и 4). Если в целом по стране минимальная инвестиционная потребность — 2,6 трлн. руб., то в Сибирском федеральном окру‑ ге — 311,7 млрд. руб., а в Дальневосточном округе — 175,5 млрд. руб. Учитывая суще‑ ствующий инфраструктурный дефицит, может продолжиться стягивание населе‑ ния в крупные города и агломерации6.
влекательности, приводит к снижению риск‑аппетита инвесторов и падению де‑ ловой активности 7.
Пространство Сибири и Дальнего Восто‑ ка уже сейчас больше походит на пустыню, расчерченную трассами между такими оа‑ зисами. Резонен вопрос — чем занимать эти пространства «между» и кто их будет засе‑ лять? С учётом прогноза дальнейшего со‑ кращения численности средних и малых городов, особенно до 50 тысяч человек — где население может сократиться вдвое [1].
Таблица 8
Миграционный прирост/убыль в Дальневосточном ФО (2016–2018 гг.), индекс развития инфраструктуры (2018 г.) и минимум необходимых инвестиций (2019 г.)
Migration increase/decrease in the far East Federal District (2016–2018), Infrastructure Development Index (2018) and the minimum required investment (2019)
Table 8
|
Дальневосточный федеральный округ |
|||
|
Субъект |
Миграционный прирост/ убыль населения, тыс. чел |
Индекс развития инфраструктуры |
Минимум инвестиции, млрд. руб. |
|
Республика Бурятия |
-11,21 |
5,06 |
9,4 |
|
Республика Саха (Якутия) |
- 11,74 |
4,82 |
34,0 |
|
Забайкальский край |
- 21,85 |
5,2 |
13,9 |
|
Камчатский край |
-1,96 |
6,01 |
6,9 |
|
Приморский край |
- 13,45 |
5,66 |
36,2 |
|
Хабаровский край |
- 10,21 |
5,83 |
29,4 |
|
Амурская область |
- 8,77 |
5,52 |
15,6 |
|
Магаданская область |
- 4,8 |
6,03 |
8,3 |
|
Сахалинская область |
+ 1,56 |
5,92 |
12,7 |
|
Еврейская АО |
- 5,32 |
5,39 |
4,8 |
|
Чукотский АО |
- 0,94 |
6,14 |
4,3 |
Источник: составлено автором по данным Росстата и компании InfraOne [7].
Причём полной прямой корреляции между уровнем инфра‑дефицита и мигра‑ ционным оттоком на первый взгляд нет. Но данный дефицит торпедирует управ‑ ленческие инициативы по повышению инвестиционной и миграционной при‑
Стратегии развития и прогнозы
В утверждённой в феврале 2019 г. «Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 г.» (СПР) в приори‑ тете агломерации, минерально‑сырьевые и агропромышленные центры [8]. Шансов средним и малым городам практически не остаётся (если только это не туристи‑ ческие бренды, производственные базисы или транзитные поселения на федераль‑ ных трассах и крупнейших транспортных узлах). Ярким примером стали «эффек‑ тивные экономические специализации» — в 39 субъектах РФ рекомендовано про‑ изводство автоприцепов. И разделение страны на 12 макрорегионов без привяз‑ ки к существующим федеральным окру‑ гам нельзя назвать полезным примером, так как это может привести к перестрой‑ ке межсубъектных связей, дублированию функций и раскоординации региональной политики округов.
Положительным нововведением сле‑ дует отметить планирование не на уров‑ не целых субъектов, а муниципальных образований субъектов, чтобы максими‑ зировать возможности роста их террито‑ рий (впервые это было сделано в Страте‑ гии пространственного развития СЗФО в 2002 г.). Однако с точки зрения демогра‑ фического прогноза и статистики назвать результаты корректными не представля‑ ется возможным.
В первом проекте СПР (презентация со‑ стоялась в 2017 г.) были предложены три варианта сценариев: консервативный вариант — предполагающий сжатие осво‑ енного пространства, концентрацию на‑ селения в центре страны, в наиболее бла‑ гополучных регионах и городах, рост дис‑ пропорций между регионами, сохранение современных составов лидеров и аутсай‑ деров и консервацию распределения эко‑ номической активности между Западом и Востоком России; конкурентного роста — как модель поляризованного разви‑ тия, с высоким уровнем открытости эко‑ номики, новым каркасом регионов‑лиде‑ ров, а также крупных агломераций, свя‑ занных системой современных транс‑ портных артерий; диверсифицированного роста — где каждый регион уникален с точки зрения не только его экономики, но и человеческого потенциала, экологии, культуры — когда важны не только вну‑ тренние источники развития каждого ре‑ гиона, но и синергия потенциала межре‑ гиональных коопераций [3, С. 35–36].
В итоговом — утверждённом проек‑ те СПР — сценария всего два: инерционный и приоритетный (целевой) . «Сце‑ нарии учитывают параметры демографи‑ ческого прогноза Российской Федерации до 2035 г., в том числе по субъектам Рос‑ сийской Федерации и муниципальным образованиям. Инерционный сценарий пространственного развития Российской Федерации предполагает сохранение те‑ кущих тенденций развития системы рас‑ селения и экономики при условии невы‑ полнения запланированных мер и отказа от реализации механизмов устойчивого и сбалансированного пространственно‑ го развития Российской Федерации. При‑ оритетный (целевой) сценарий простран‑ ственного развития Российской Федера‑ ции предполагает снижение различий между субъектами Российской Федера‑ ции по основным социально‑экономиче‑ ским показателям» [8, С. 27].
В контексте данной статьи остано‑ вимся на демографическом прогнозе8 до 2035 года. Хотя, нужно отметить, что если в варианте проекта СПР от июля 2018 г. [9] данные прогноза приводились в приложе‑ нии, то в утверждённой СПР (от 13.02.2019) [8] их только упоминают. Создатели СПР ориентировались на следующие (табл. 9 и 10) — более чем странные — прогнозные данные.
Прогноз численности населения Сибирского ФО (2024 г. и 2035 г.)
Таблица 9
Forecas t of the population of the Siberian Federal District (2024 & 2 035)
Table 9
|
Сибирский федеральный округ |
||||
|
Субъект |
Численность населения к 2024 г., тыс. чел |
Прирост / убыль к 2018 г.,% |
Численность населения к 2035 г., тыс. чел |
Прирост / убыль к 2024 г.,% |
|
Республика Алтай |
229,20 |
+ 4,72 |
242,60 |
+ 5,85 |
|
Республика Тыва |
328,00 |
+ 1,10 |
339,30 |
+ 3,45 |
|
Республика Хакасия |
548,50 |
+ 2,30 |
553,00 |
+ 0,82 |
|
Алтайский край |
2321,60 |
- 0,48 |
2179,80 |
- 6,11 |
|
Красноярский край |
2935,60 |
+ 2,14 |
3021,50 |
+ 2,93 |
|
Иркутская область |
2404,20 |
+ 0,27 |
2401,10 |
- 0,13 |
|
Кемеровская область |
2673,10 |
- 0,04 |
2595,90 |
- 2,89 |
|
Новосибирская область |
2946,70 |
+ 5,49 |
3263,00 |
+ 10,73 |
|
Омская область |
1993,70 |
+ 2,55 |
2019,80 |
+ 1,31 |
|
Томская область |
1116,30 |
+ 3,61 |
1194,10 |
+ 6,97 |
Источник: составлено автором по данным проекта СПР [9].
Даже с учётом приведённой оговор‑ ки, что это «базовый сценарий»9 не со‑ всем ясно какую пользу принесёт государ‑ ству такого рода документ, основанный на столь специфической базе. Особенно впе‑ чатляет фактически побеждённая депо‑ пуляция, притом, что рождаемость сни‑ жается, смертность растёт, а иммиграция
Таблица 10.
Прогноз численности населения Дальневосточного ФО (2024 г. и 2035 г.)
Table. 10.
Forecas t of the population of the Far East Federal District (2024 & 2 035)
|
Дальневосточный федеральный округ |
||||
|
Субъект |
Численность населения к 2024 г., тыс. чел. |
Прирост / убыль к 2018 г.,% |
Численность населения к 2035 г., тыс. чел. |
Прирост / убыль к 2024 г.,% |
|
Республика Бурятия |
1016,00 |
+ 3,33 |
1090,60 |
+ 7,34 |
|
Республика Саха (Якутия) |
980,60 |
+ 1,41 |
991,30 |
+ 1,09 |
|
Забайкальский край |
1059,80 |
- 0,56 |
1038,60 |
- 2,00 |
|
Камчатский край |
313,30 |
- 0,45 |
319,60 |
+ 2,01 |
|
Приморский край |
1929,80 |
+ 1,42 |
1963,70 |
+1,76 |
|
Хабаровский край |
1350,60 |
+ 2,20 |
1406,90 |
+ 4,17 |
|
Амурская область |
781,20 |
- 1,51 |
753,70 |
- 3,52 |
|
Магаданская область |
137,30 |
- 2,78 |
138,70 |
+ 1,02 |
|
Сахалинская область |
479,30 |
- 2,11 |
479,70 |
+ 0,08 |
|
Еврейская АО |
153,80 |
- 3,82 |
152,90 |
- 0,59 |
|
Чукотский АО |
54,10 |
+ 8,94 |
66,80 |
+ 23,48 |
Источник: составлено автором по данным проекта СПР [9].
в Россию сокращается, не говоря уже о её качестве.
Вообще следует отметить «игру с циф‑ рами» Минэкономразвития: когда в ба‑ зовом варианте прогноза (а других вари‑ антов прогноза вообще представлено не было — они только упомянуты в Прило‑ жении [ 9, с. 126]) численность населения Сибирского ФО к 2024 г. достигает поч‑ ти 17,5 млн. человек и к 2035 г.— 17,8 млн., а Дальневосточного ФО до 8,25 млн. и 8,4 млн. соответственно (всей страны к 2024 г. до 150 млн. человек, а к 2035 — свыше 153 млн). Тем более что ведущие российские демографы прогнозируют продолжающуюся убыль населения стра‑ ны: численность женщин в наиболее ре‑ продуктивных возрастах (20–24, 25–29 и 30–34 года) уменьшится к 2025 г. отно‑ сительно 2020 г. почти на 2,5 млн. чело‑ век, а численность всего репродуктивного контингента в 2030 г. останется меньше, чем в 2020 г. на 3,2 млн. человек [10, с. 13– 14]. В процентном отношении к 2035 г. про‑ гнозируется снижение численности насе‑ ления страны от –6,2% до –13,4% [11, с. 25]. К сожалению, оптимизм Минэкономраз‑ вития может привести не только к управ‑ ленческим просчётам, но и к финансовым потерям.
Выводы
Исторический опыт разработки наци‑ ональных стратегий обязывает придер‑ живаться определённой логики: видение перспективы — миссия и национальные интересы — стратегические приоритеты — макрорегиональные/территориальные и целевые программы — мега‑проекты и техно‑платформы — региональные пла‑ ны и «дорожные карты». Причём логика работ каскадируется до уровня муници‑ палитетов и декомпозируется до конкрет‑ ных целей и задач, но с учётом как ресурс‑ ной базы и возможных конкурентных пре‑ имуществ, так и реальных рисков, потен‑ циальных угроз и корректных прогнозов. Следует отметить, что нарушение после‑ довательности не только не позволит обе‑ спечить продвижение общественно зна‑ чимого проекта и утилизировать необъек‑ тивные предъявления противников изме‑ нений, сами по себе являющиеся угрозой, но и создаст предпосылки для возникно‑ вения других, возможно, хаотичных, но не менее опасных. Что же касается спро‑ ектированной Минэкономразвития СПР — в связи с тем, что данный документ не был разработан и утверждён в установленном порядке 10,— по факту имеет место быть полуфабрикат, пригодный только «для учёта в работе».
Тем не менее, качественное изменение системы размещения населения и произ‑ водительных сил на территории страны (в соответствии с принятой и согласован‑ ной экономической моделью) предполага‑ ет несколько целей: 1) социальная — созда‑ ние градостроительных предпосылок для всестороннего развития условий жизне‑ деятельности; 2) экономическая — созда‑ ние условий для рационального размеще‑ ния и развития производительных сил; 3) экологическая — поиск путей выживания человека в современных условиях. Но ос‑ новная цель — поляризованное простран‑ ственное развитие для создания конку‑ рентоспособной в международном мас‑ штабе СРТ сети поселений (агломераций, крупных, средних и малых городов, сель‑ ских территорий и т.д.). Причём, рост вну‑ тренних инвестиций зависит от уровня образования и активности населения, но рост внешних инвестиций — прямо про‑ порционален уровню бизнес‑климата, ка‑ честву трудовых ресурсов и эффективно‑ сти инфраструктуры.
Основные проблемы пространственно‑ го каркаса Сибирского и Дальневосточно‑ го округов общие и для России в целом: 1) нескоординированное макрорегиональ‑ ное и федеральное стратегическое плани‑ рование; 2) асимметрия пространствен‑ ной структуры экономики: не прекраща‑ ющийся рост бюджетной обеспеченности успешных («богатых») регионов и крат‑ ность отставания от них некоторых «бед‑ ных» до 5 раз; 3) низкий уровень связан‑ ности территории: отсутствие широтных ходов и меридиональных транспортных коридоров, авиационная централизация, недостаток межрегиональных маршрутов и хордовых трасс внутри субъектов; 4) ре‑ гиональный инфраструктурный дефицит; 5) дисбаланс системы расселения
Традиционное структурирование на промышленно‑аграрные, сырьевые и «особенные» (например, эксклавные — как Калининградская область) типы тер‑ риторий, необходимо дополнительно классифицировать. Существующую си‑ стему расселения Сибири и Дальнего Вос‑ тока можно разделить на три типа, каж‑ дый из которых, нуждается в специфиче‑ ской региональной политике. И уже в за‑ висимости от демографического потен‑ циала территории необходимо выделение нескольких типов государственной по‑ литики развития систем расселения под классы территорий: 1) территории инер‑ ционного развития систем расселения — с развитием свободной самоорганизации расселения; 2) территории активного го‑ сударственного вмешательства, где депо‑ пуляция нежелательна по геостратегиче‑ ским условиям (см., например, [12]), с про‑ ведением политики закрепления населе‑ ния; 3) территории демографического ре‑ сурса — сдержанное инвестиционное раз‑ витие, рамочное регулирование миграци‑ онных потоков из других регионов, в свя‑ зи с тем, что численность населения и тру‑ довых ресурсов на данных территориях выше потребности в них. Безусловно, это тема отдельного перспективного исследо‑ вания. Так же не менее важно определить‑ ся с целевой экономической моделью (ин‑ новационной, цифровой, модернизацион‑ ной, инерционной, etc.) и достичь понима‑ ния перспективы — какая система рассе‑ ления ей соответствует. Купирование про‑ блем не только не способствует формиро‑ ванию новых «точек роста», но и причис‑ ляет, в лучшем случае, к «зонам равнове‑ сия» существующие.
Изменение каркаса системы расселения федеральных округов должно найти своё отражение в возможном изменении адми‑ нистративно‑территориального деления (например, присоединение северных рай‑ онов Хабаровского края к Магаданской области, ввиду лучшей транспортной ло‑ гистики, доступности социальной инфра‑ структуры и управляемости). А скоорди‑ нированное и поступательное развитие инфраструктуры может, как существен‑ но повысить инвестиционную и миграци‑ онную привлекательность, так и способ‑ ствовать удержанию местного населения Сибири и Дальнего Востока. Для этого не‑ обходимо согласовать селективную про‑ странственную политику роста капитали‑ зации территорий.
Список литературы Демографические прогнозы и корректность статистики пространственного развития Сибири и Дальнего Востока России
- Фомин М. В. Миграция и статистика пространственного развития // Национальные демографические приоритеты: подходы и меры реализации. Сер. «Демография. Социология. Экономика». Т. 5. - № 4. - М.: Экон-Информ, 2019.- C. 521-529.
- Rolling Back Russia's Spatial Disparities: Re-assembling the Soviet Jigsaw Under a Market Economy. World Bank, 2018.
- Фомин М. В., Безвербный В. А. Пространственный каркас Сибири и Дальнего Востока России в условиях демографического сжатия: «вторые» и «третьи» города // Научное обозрение. Сер. 2. Гуманитарные науки. - 2018. - № 6. - С. 33-53. DOI: 10.26653/2076-4685-2018-6-03
- Рыбаковский Л. Л., Кожевникова Н. И. Восточный вектор демографического развития России // Народонаселение. - 2015. - № 1. - С. 4-16.
- Статистика пространственного развития. Том 1. Система расселения Северо-Запада России / под рук. Ю. Перелыгина.- СПб.: Corvus, 2002.- 280 с.